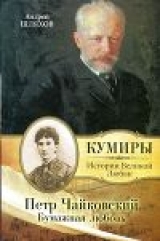
Текст книги "Петр Чайковский. Бумажная любовь"
Автор книги: Андрей Шляхов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ «МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ, А РАДОСТИ НЕ СТАЛО»
Кто мог желать ему славы больше, чем она?
Разве что только он сам, да и то навряд ли.
Она так ждала, так истово делала все, что могла сделать, так радовалась каждой хорошей вести…
Почему же сейчас ей грустно? Домашние считают, что она переутомилась, что она истязает себя делами, но это не так.
Стоит ей провести в кабинете больше часу, как на пороге возникает Юлия и смотрит на нее с немым укором.
– Юлия Карловна, вам больше нечем заняться? – ледяным тоном спрашивает она.
Юлия ненадолго уходит.
Да, дела идут плохо. Оказывается, нажить капитал не так сложно, как сохранять и приумножать его. Или, несмотря на всю свою мягкость и даже нерешительность, Карлуша был финансовым гением? Может быть.
Дети не радуют ее, как возможные наследники. Дочери ничего не смыслят в делах и очень довольны этим, Володя слишком добр и доверчив, Коля склонен к опрометчивым поступкам, Саша тугодум, Макс еще совсем ребенок…
Продолжателем семейного дела она видела Колю, но Коля постепенно начал ее разочаровывать… И женитьба его, с которой она связывала столько надежд, не оправдала себя в ее глазах. Надо признать, что в письмах Петра Ильича семейство его сестры выглядело гораздо привлекательнее, нежели на самом деле.
Но это же Петр Ильич! Он так добр, так доверчив и весь поглощен творчеством! Ему ли обращать внимание на скучные мелочи. Он любит всех, так уж он устроен.
Сколько же в нем доброты!
Сколько же в нем света, тепла!
Ей ли не знать его? Порой ей кажется, что себя она знает хуже…
Она очень боялась, что, став знаменитым, востребованным, осыпанным благами, он откажется от ее помощи. Это было бы ужасно – она не могла просто переписываться с ним, не принимая никакого участия в его жизни. Раз уж судьба распорядилась так, что им не суждено быть вместе, так пусть уж оставит ей право, нет, не право – привилегию вносить свою лепту в его творчество, приумножать его славу.
Он все понимает и поэтому продолжает позволять ей посылать ему деньги. Он не может лишить ее такой радости.
Верная своей привычке записывать все расходы без исключения, она неукоснительно фиксировала на бумаге и суммы, потраченные на него. Недавно ей вздумалось подвести итог этих священных для нее трат, и что же? Оказалось, что браиловский управляющий Тарасевич за недолгую службу свою лишил ее как минимум втрое большей суммы! Каково? Нет, лучше пусть все ее средства послужат музыке, чем будут прокучены в каких-нибудь грязных притонах.
Она была убеждена, что все краденое непременно спускается в притонах. Проигрывается в карты, тратится на непотребных женщин, сгорает на рулетке.
Она не упускала ни единого шанса помочь ему, она радовалась за него и…
И дико, до скрежета зубовного, ревновала его к славе.
Баронесса фон Мекк была натурой увлекающейся, восторженной, чувствительной, но дурой она не была. Прекрасно отдавала себе отчет в том, что в жизни ее единственного друга она играла все меньшую и меньшую роль.
Ее вытесняла слава.
Она гордилась собой – ведь она столько сделала для этого, но постоянно вспоминала то славное время, когда он полностью зависел от нее. Вернее – когда она значила для него гораздо больше, чем сейчас.
Весы судьбы в очередной раз пришли в действие и перевернули все вверх тормашками. Когда-то одна из самых богатых женщин страны (представительницы царствующей фамилии, разумеется, в расчет не брались) стала другом бедному, не очень-то молодому, но подающему большие надежды композитору.
Теперь же знаменитый композитор Чайковский продолжал дружбу со старухой, некогда значительное состояние которой таяло на глазах. Неужели он делает это только из признательности?
Карандаш с хрустом преломился в руке и был отшвырнут прочь.
Когда она нервничала, ей нравилось ломать карандаши. Могла же она позволить себе это невинное мотовство?
Сейчас она вспомнила, какую чудовищную глупость сделала совсем недавно.
Дернул же ее черт полезть к нему с советами, да еще на столь далекую от нее тему, как подбор директора Московской консерватории. Да еще выступить против Танеева и при этом написать столь бестактно «я думаю, Танеев не только слишком молод, но он и недостаточно энергичен, жив и представителен». Как она могла?
Ответ его был резок и обстоятелен. «Письмо Ваше задело меня за живое, и я не могу удержаться, чтобы тотчас же не ответить Вам. Случилось, что как раз в то время, когда я посылал Вам письмо мое с торжественным извещением о назначении Танеева директором и с горделивым приписыванием исключительно себе этой заслуги, Вы писали мне о непригодности Танеева'), – начал он, а затем перечислил достоинства Танеева и разъяснил, почему были отвергнуты предложенные ею кандидаты.
Танеев известен, талантлив, он приверженец классических взглядов. Его уважаю! за честность и твердость характера.
Губерт никудышный администратор, и к тому же он плохо ладит с людьми.
Направнику и Клиндворту директорство не нужно. К тому же, директором консерватории может быть только русский подданный, а Клиндворт – немец.
Римский-Корсаков от предложенного директорства наотрез отказался.
Она читала письмо, кусая губы от злости на себя, и удивлялась его терпению. Другой бы написал что-то вроде «простите, дорогая Надежда Филаретовна, но я же не даю Вам советов, касающихся состава правления Рязанской железной дороги». А Петр Ильич тратил свое драгоценное время, терпеливо разъясняя ей ее ошибки, да еще столь деликатным образом.
«Милый, дорогой друг мой! Пишу Вам несколько слов только для того, чтобы сказать Вам, что мне до крайности жаль, что мое последнее письмо пришло так не вовремя и некстати к Вам, – ответила она, когда успокоилась настолько. что перо не дрожало в ее руке. – Уверяю Вас, дорогой мой, что я бесконтрольно и безусловно нахожу хорошим и полезным всё, что Вы сделали в консерватории, и что если я перечисляла разных личностей на должность директора консерватории, то я только хотела помочь Вашей памяти, потому что я видела, что Вы были в затруднении».
Кажется, обошлось – в ответном письме он был таким, как и до этого прискорбного случая.
Она пообещала себе, что больше никогда в жизни не станет лезть к нему с подобными советами, и слово свое сдержала.
А еще она стала горячей сторонницей Танеева. Стоило кому-то в ее присутствии сказать что-либо критическое или ироничное в адрес нового директора Московской консерватории, как она тут же кидалась защищать Сергея Ивановича.
– Я удивляюсь перемене, произошедшей в вас, Надежда Филаретовна, – сказал ей Пахульский, ранее слышавший от нее совершенно противоположное.
– Я тоже ей удивляюсь, Владислав Альбертович, – ответила она.
…Когда Пахульский с Юлией вдвоем исполняли его романс «Я тебе ничего не скажу», она всегда слушала с упоением и часто просила повторить. Ей шли навстречу.
Это были не его слова.
Это были ее слова, обращенные к нему. Невысказанные, потаенные.
И была его музыка, которая красноречивей любых слов. Даже таких пронзительных:
Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.
Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.
И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной… я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу. [19]19
А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…».
[Закрыть]
Она радовалась тому, что у него появилось некое подобие собственного дома, и не могла сдержать слез при мысли о том, что ей никогда не суждено переступить его порога.
Она чувствовала, как он постепенно уходит из ее жизни, и вымещала досаду на ни в чем не повинных бездушных карандашах, которых с каждым днем ей требовалось все больше и больше.
Однажды дочь Соня начнет хвалить ей своего мужа, одного из Римских-Корсаковых.
Надежда Филаретовна внимательно выслушает дочь и спросит:
– Ты и впрямь довольна? И не держишь на меня зла за то, что я не позволила когда-то тебе стать мадам Дебюсси?
Клод Дебюсси пользовался покровительством баронессы фон Мекк. Был ее придворным пианистом и учил Соню играть на фортепиано. Игра в четыре руки сближает сердца – Клод и Соня признались друг другу в любви, после чего наивный Дебюсси явился Надежде Филаретовне, чтобы просить Сониной руки.
Дело было в Вене. Дождливым осенним днем, когда у баронессы нестерпимо болели суставы. Суставы и оказались виновны в том, что ее отказ был облечен в весьма грубую форму. Она наговорила растерявшемуся юнцу много грубого, даже потрудилась весьма остроумно перевести на французский русскую поговорку, касающуюся свиных рыл и калашных рядов.
В заключение она рассчитала несчастного кандидата в зятья и велела ему немедленно убираться из Вены, заявив, что в противном случае ославит его на весь белый свет.
Дебюсси в полчаса собрал свои вещи и уехал в Париж. Разумеется, не повидавшись с Соней, которую мать призвала к себе и никуда не отпускала до тех пор, пока ей не доложили, что поезд унес Дебюсси прочь.
Петру Ильичу она сообщила правду, но – сильно урезанную: «У Сони новый учитель для фортепиано, потому что Debussy уехал в Париж».
– Ах, мама! Какая из меня мадам Дебюсси?! – рассмеялась Соня. – Я и думать о нем позабыла! Хотя… он был такой милый и смешной!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ «БОЛЬШЕ СЛАВЫ!»
«Если бы Вы только вполовину могли знать всю неизмеримость блага, которым я Вам обязан, все неизмеримое значение той «самостоятельности» и свободы, которое вытекает из моего независимого положения. Ведь жизнь есть непрерывная цепь маленьких дрязг, мелочных столкновений с людским эгоизмом и амбицией, и стоять выше всего этого можно, только будучи самостоятельным и независимым. Как часто мне приходится говорить себе: хорошо, что так, а что если бы этого не было?» – спрашивает Чайковский.
«Я когда приезжаю в Россию, то только и испытываю впечатления от этой людской злобы, мелочных преследований, зависти, какого-то змеиного шипения, которое слышится, хотя не всегда даже видишь, откуда оно идет. И за что это? Уверяю Вас, дорогой мой, что я никому зла не делаю, а в то же время видишь, как ищут милостей другого, вполне ничтожного и бессердечного человека», – отвечает баронесса фон Мекк.
«Другим человеком» был кто-то из компаньонов баронессы фон Мекк по Рязанской железной дороге.
Они не обольщались в людях – прекрасно знали, как жестоки и гадки могут быть люди.
И все больше ценили друг друга – скучали без писем.
А писем стало меньше. Петр Ильич однажды сделал одно очень грустное открытие – вдруг осознал, что многие из тех, кого он знал, уже умерли.
Стал перебирать в памяти имена с фамилиями и похолодел от мысли о том, что и ему осталось жить недолго.
Во всяком случае большая часть жизни уже позади, а сколько еще не сделано!
Всегда отличавшийся высокой работоспособностью (лишь бы никто не мешал), он стал работать значительно быстрее.
Начал чаще появляться на публике.
Идя навстречу просьбам Танеева, согласился дирижировать. Дирижировал «Черевичками» в Большом театре и получил от процесса, которого чурался всю жизнь, огромное удовольствие.
Кто спорит – дирижировать на премьере своей оперы очень приятно.
Он начинает реже писать баронессе фон Мекк.
Однажды спохватывается и пускается в объяснения, перемежающиеся восхвалениями адресата:
«Я стосковался по Вас. Обстоятельства складываются так, что я всё последнее время пишу Вам очень редко, общение между нами не так постоянно, и по временам мне кажется, как будто я стал несколько чужд Вам. Между тем никогда я так часто и много не вспоминал о Вас, как в эти самые последние дни… Десять лет тому назад я переживал в это именно время самый трагический период моей жизни, и бог знает, что бы со мной сталось, если бы Вы не явились ко мне с нравственной и материальной помощью. Как живо и ясно сохранились в моей памяти малейшие подробности этого уже далекого прошлого! Как я до глубины души проникаюсь чувством благодарности и благоговения к Вам! Сколько нравственной силы я почерпнул в Ваших тогдашних письмах, в бесчисленных выражениях участия и дружбы Вашей!»
Надежда Филаретовна поспешит заверить:
«Дорогой, несравненный друг мой! На днях я получила Ваше милое письмо, адресованное в Женеву. Как могли Вы подумать, дорогой мой, чтобы Вы стали мне более чужды, чем были прежде? Напротив, чем больше уходит времени, чем больше я испытываю разочарований и горя, тем более Вы мне близки и дороги. В Вашей неизменной дружбе и в Вашей неизменно божественной музыке я имею единственное наслаждение и утешение в жизни. Всё, что идет от Вас, всегда доставляет мне только счастье и радость».
И станет надеяться, что Петр Ильич вновь начнет писать ей часто, как в былые времена.
Надежды окажутся напрасными – переписка продолжает оскудевать, но совсем не оскудеет. Все же надо обсуждать новости, музыку, знакомых и благодарить за каждую присланную сумму.
Делиться горем, таким вот, например: «Мне готовится большое горе, – моя Юля хочет выйти замуж за Владислава Альбертовича, и ввиду этого он поехал поправить свои нервы. Я говорю, что это большое горе для меня не потому, чтобы я имела что-нибудь против выбора Юли, – нет, Владислав Альбертович прекрасный человек, но для меня это доставляет огромную и незаменимую потерю, я теряю мою дочь, которая мне необходима и без которой мое существование невозможно… Это очень давний роман, он тянется уже семь лет с разными перипетиями, при которых я надеялась, что при моей жизни эта чаша не коснется моих уст, но, однако, вышло иначе…»
И жаловаться друг другу на несовершенство этого мира.
О, им было превосходно известно, насколько мир несовершенен!
Это самое несовершенство привело к провалу его оперы «Чародейка», поставленной в Петербурге на сцене Мариинского театра. Дирижировал сам Чайковский. Он долго сожалел о «Чародейке», но больше сожалел о своем неумении писать великолепные блистательные оперы вообще.
Сколько раз он правил, вычеркивал, дополнял, рвал исписанные листы и начинал заново! «Никогда с таким старанием я не работал, как над «Чародейкой», – признавался Чайковский.
Уязвленный холодным приемом, который был оказан «Чародейке», Петр Ильич отказался дирижировать после четвертого представления. Всего же было дано семь представлений, после седьмого, на котором присутствовало не более дюжины человек, оперу сняли со сцены.
Зритель не принял «Чародейку».
Чайковский по возвращении домой принял целый графин коньяка, закусывая его яблоком.
Критики были солидарны со зрителем – ни одна опера Чайковского не вызвала столь много нападок, как «Чародейка». Петра Ильича обвиняли в отсутствии драматического чутья, в чрезмерном, ничем не оправданном увлечении оркестровыми фрагментами. Достоинств в новой опере никто, кроме самого Чайковского, не нашел…
Ну и пусть – зато его знали и тепло встречали повсюду от Петербурга до Тифлиса. И за границей тоже прекрасно представляли, кто такой Петр Ильич Чайковский.
Когда он отправится в европейское турне, ему станут аплодировать повсюду – в Париже, в Лейпциге, в Лондоне, в Праге…
Лондон ему не понравится. «Пишу Вам из мрачного, антипатичного Лондона, – напишет Чайковский баронессе фон Мекк. – Представьте себе, что когда я вышел сегодня из репетиции в двенадцать с половиной часов дня, то на улице была ночь, совсем настоящая, безлунная, темная ночь. Много слышал я о лондонских туманах, но этого не мог вообразить себе!»
На смену четырем месяцам европейской славы придут три месяца славы американской.
Платят американцы по-царски – двадцать пять тысяч долларов за турне. (Доллар тогда примерно был равен двум рублям.)
Баронесса разделяет его радость: «Дорогой мой, несравненный друг! Ваше триумфальное путешествие по Европе приводило меня в восторг и вполне удовлетворило в моем давнем горячем желании сделать Вашу музыку известною за границею; теперь она не только известна, но и известна как бесспорно первоклассная музыка в Европе. Я так счастлива, что моя заветная мечта осуществилась и что Вы можете теперь отдыхать на лаврах».
И радуется его востребованности:
«Как я радуюсь, милый, дорогой друг мой, всем приглашениям, которые Вы получаете. Как Ваша слава быстро выросла, но оно и неудивительно: она существовала уже давно и только и ждала возможности пронестись по всему земному шару. Вы выступили перед публикою. Вы, так сказать, этим выпустили Вашу славу на волю, как птичку из клетки, вот она и облетает весь мир».
Чайковский раскрывает ей секрет композиторского успеха:
«Я очень много работаю и, как водится, очень устаю, – но нисколько не жалуюсь. Слава богу, что еще есть охота работать. А охота, чем дальше, тем больше делается, планы мои растут, и, право, двух жизней мало, чтобы всё исполнить, что бы хотелось! Наша жизнь возмутительно коротка!!!»
В ответ – слова восхищения и любви. Обильные, часто повторяющиеся.
Ему все это приелось, как приедается мед, когда его много.
Не приедаются только деньги – их всегда мало.
Он читал r только что полученном письме: «С величайшим удовольствием слушаю я из газет сообщения о Ваших триумфах, милый другмой. Я радуюсь вдвойне: и тому, что Вы оценены, и тому, что русская публика умеет, наконец, ценить свое. А я здесь, в своем доме, в своем отчуждении от мира наслаждаюсь столько, сколько вся московская публика в совокупности, Вашими произведениями, дорогой мой».
И прикидывал шутки, ради, сколько смог бы иметь он в месяц дополнительных средств, если бы умел превращать похвалу в золото.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «КОНСЕРВАТОРИЯ»
Настал день, и Танеев попросил освободить его от обязанностей директора Московской консерватории. Даже не попросил, а взмолился.
– Я так устал за все эти годы! – признался он Чайковскому. – Меня так утомляет вся эта круговерть. Мне жаль тратить на нее время и силы, мне тяжко управлять людьми. Вы не представляете, какая это мука заставлять ближних своих делать что-то против их же воли!
В глазах Сергея Ивановича плескалась беспросветная тоска.
– Я и без того собирался оставить директорство, – продолжал Танеев, – но после смерти матушки пребываю в столь подавленном состоянии духа, что просто ни дня больше не могу оставаться директором нашей консерватории.
Чайковский хорошо знал Танеева и прекрасно понимал, что он нуждается в отдыхе.
– Воля ваша, Сережа, – ответил он. – Кто вправе вас принуждать?
С глазу на глаз Петр Ильич называл Танеева Сережей и только на людях – Сергеем Ивановичем.
Новым директором с всеобщего согласия стал Сафонов, профессор по классу фортепиано.
«Можно предполагать, что будет дельный и хороший директор, – писал Чайковский. – Как человек он бесконечно менее симпатичен, чем Танеев, но зато по положению в обществе, светскости, практичности более отвечает требованиям консерваторского директорства».
«Дельный и хороший директор» однажды нанесет Петру Ильичу серьезную обиду…
Виолончелист Анатолий Брандуков был учеником и другом Чайковского.
Когда-то Брандуков играл в одном ученическом квартете консерватории с Иосифом Котеком и был замечен знатоками. Отличился он и в сольных выступлениях, которые с успехом давал в Москве и Нижнем Новгороде. Консерваторию Брандуков окончил с золотой медалью.
Анатолий искал постоянного места в Москве, но так и не смог его получить и был вынужден уехать за границу. Вначале он обосновался в Швейцарии, а затем перебрался в Париж – европейскую музыкальную столицу, где пользовался покровительством известного писателя Тургенева, который ввел его в салон своей любовницы Полины Виардо, один из самых блистательных салонов Парижа.
Париж быстро принял талантливого виолончелиста. Брандуков с известным бельгийским скрипачом М. Марсиком организовали квартет, пользовавшийся большим успехом.
Его отметил Сен-Санс и приблизил к себе.
О нем говорили хорошо – виолончелистом Брандуков был и впрямь превосходным. Он выступал вместе с Колонном, и не только с ним одним – прочие дирижеры тоже ценили его талант.
И при этом Анатолий Андреевич всегда оставался сердечным, отзывчивым человеком, готовым помочь, поддержать. Русские музыканты, приезжавшие в Париж, находили в лице Брандукова заботливого опекуна. Он знакомил их с нужными людьми, выводил в свет, советовал, направлял, предостерегал.
Петр Ильич любил Брандукова, подолгу общался с ним в каждый свой приезд в Париж. Брандуков платил ему тем же и вдобавок часто исполнял его произведения.
Петр Ильич организовал Брандукову несколько концертов в России и даже посвятил ему одну из своих пьес.
Брандуков был чрезмерно щедр и вообще любил сорить деньгами. В Париже ему жилось тяжело – при всей популярности заработки были редкими, от случая к случаю, и денег вечно не хватало. Вдобавок Брандуков сильно скучал по родине и вследствие этого страстно мечтал о достойном месте в Москве. «Несмотря на то что в Париже он пользуется репутацией отличного виолончелиста, материальное положение его крайне стесненное, и он пламенно мечтает о переселении в Петербург или Москву, но, увы, там места заняты, и поневоле приходится оставаться в Париже, где. по крайней мере, он вращается в самом лучшем обществе и упрочивает свою репутацию…» – писал о Брандукове баронессе фон Мекк Чайковский.
Встречаясь с Петром Ильичом в Париже, Брандуков то и дело повторял:
– Да разве это жизнь? Это существование! Вот, если бы я смог поселиться в Москве, получив должность в консерватории!
Семейная жизнь добряка Брандукова была несчастливой – Анатолия Андреевича третировала жена, желчная, глупая, сварливая особа, пианистка по профессии Он долю терпел ее…
Петр Ильич вспомнил о Брандукове, когда весной 1890 года скончался Вильгельм Федорович Фитценгаген, профессор по классу виолончели Московской консерватории.
По случаю его смерти в консерватории открылась вакансия, которая весьма и весьма подходила для Брандукова. Кстати говоря – он учился не только у Чайковского, но и у Фитценгагена.
Петр Ильич высоко оценивал исполнительское мастерство Брандукова, считая его превосходным виолончелистом, работящим человеком, хорошим музыкантом.
Из Рима он пишет директору консерватории, уговаривая того принять Анатолия Андреевича Брандукова профессором по классу виолончели.
На похвалу не скупится.
Считая дело решенным, Петр Ильич с удивлением и недовольством читал ответное письмо Сафонова.
Не потрудившись объяснить причин Сафонов решительно отвергал предложенную Петром Ильичом кандидатуру Брандукова.
«Глубоко уважая Вас, Петр Ильич, считаясь с Вами и всегда прислушиваясь к Вашему мнению, я хочу подчеркнуть, что ничто на свете не заставит меня согласиться на Ваше предложение. Позвольте мне, как директору самостоятельно решать подобные вопросы», – писал Сафонов.
– Вот мерзавец! – взъярился Чайковский, дочитав письмо до конца. – Самодур! Что он себе воображает?
Раздражение накатило огромной волной. Как может Сафонов отвергать кандидатуру, предложенную им? Как может Сафонов не считаться с его мнением? Кто дал ему такое право?
Дрянной человек Сафонов! Гнать его из консерватории прочь! Вон! Чтобы духу его не было!
Ведь, если разобраться, от Сафонова совсем несложно избавиться…
Соблазн был велик. Можно было тотчас же выехать в Москву, а по прибытии объявить о своем желании занять пост директора консерватории. Сафонов уступил бы ему свое место добровольно – так велик был авторитет Чайковского. Первым делом он принял бы Брандукова, а затем…
А затем на него обрушится вся эта куча консерваторских дел.
Обрушится и раздавит, а если и не раздавит, то навсегда лишит свободы, лишит возможности спокойно писать музыку… Анатолий Андреевич, конечно, прекрасный человек, но принести ради него в жертву свое жизненное счастье, это уж чересчур. Бросить сочинение музыки для Чайковского равносильно лишению себя жизни
Но и Сафонову нельзя спускать подобного тона.
Надобно действовать. Но как?
Ответ нашелся только на следующее утро.
Выйти из состава дирекции Музыкального общества, что означало одновременный выход и из дирекции консерватории.
Это будет замечено всеми, и Сафонову придется несладко. Хотя, если честно, Сафонов – очень деятельный и умный директор. Равноценной замены ему сейчас нет. Он хорошо управляется с делами, педагоги слушаются его, студенты слегка побаиваются. Лучшего директора и не найти. Так пусть же он правит своим маленьким царством! Зачем мешать? Зачем вмешиваться?
Господи, пусть все идет так, как должно идти. Пусть Сафонов руководит консерваторией. Кажется, сей крест ему по плечу.
Петр Ильич письменно уведомил Сафонова о своем выходе из дирекции.
Брандукова он жалел как жертву огромной, незаслуженной несправедливости.
«Но, в конце концов, хороший, энергический, полный амбиции директор консерватории важнее для ее благополучия, чем тот или другой виолончельный профессор. Сафонов же, не будучи мне лично особенно симпатичен, выказал превосходнейшие административные способности и большое рвение к делу», – написал Чайковский в письме баронессе фон Мекк.
Обида оставила еще один шрам на душе. Вспоминая случай с Брандуковым, он плакал.
С годами он плакал все чаще и чаще. Стал слаб на слезы.
На место профессора по классу виолончели Сафонов пригласил Альфреда Эдмундовича фон Глена, который очень скоро занял должность помощника директора.
Василий Ильич Сафонов стремился окружить себя верными, надежными людьми.
Это правильно – ведь в кругу своих чувствуешь себя гораздо спокойнее.








