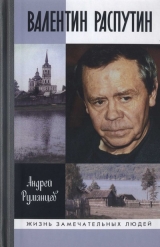
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)
Глава пятая
ДОРОГИЕ ИМЕНА
Чем близка чужая книга?
Распутин с дружеским участием и вниманием интересовался тем, что пишут или писали до ухода из жизни его земляки – литераторы опытные, пользующиеся известностью. Как и ровесники, надеющиеся на признание. И откликался на просьбы издательств, журналов, газет написать о книгах или рукописях отзыв, предисловие, рецензию. Пожалуй, редко кто из литераторов-иркутян напечатал в первое десятилетие своей творческой работы столько откликов на произведения сибирских писателей.
В 1967 году Распутин напечатал очерк о прозаике Петре Петрове, имя которого упоминалось выше. Автора романов «Борель», «Шайтан-поле» и «Золото» не зря ставили рядом с Вячеславом Шишковым. Как и создатель эпопеи «Угрюм-река», он открыл для читателя подлинную Сибирь – не мрачный тюремный край и не кладовую дармовых богатств, а суровую землю, обжитую людьми особого закала, невиданного упорства, необыкновенных судеб. Распутина привлекли в творчестве П. Петрова резкие и точные краски, которыми он рисует характеры своих героев.
Творчески очень близким Распутину оказался и писатель-фронтовик Алексей Зверев. Его повести «Раны», «Гарусный платок» и «Выздоровление», которым Валентин посвятил обстоятельную статью, опубликованную сначала в областной газете, а затем как предисловие к книге Зверева, открывали тот русский характер, который особенно виден в драматических испытаниях. По признанию Распутина, повести стали для него примером художественной правды, которая всегда поучительна и нравственна.
Тут не хочешь да выпишешь утверждение Распутина, ещё молодого, но уже заглянувшего в глубины искусства, равного жизни по трагизму и сложности:
«Когда есть правда – не надо других, надстроенных, выдуманных, вымученных зачастую проблем, она есть главная и единственная проблема, и столько из неё вырастает всего, успевай лишь убирать да осмысливать этот урожай. Но и писать правду не просто, она требует не только решимости и не только таланта, но вместе с ними и правильной, не склонной к конъюнктурным соблазнам, духовной ориентации. Всем этим писатель Алексей Зверев, мне кажется, наделён щедро и распоряжается точно».
Но это были книги мастеров, которые обладали иным житейским и творческим опытом, нежели молодые прозаики. А чем могли «зацепить» душу сочинения ровесников? Конечно, главное автор повестей «Деньги для Марии» и «Последний срок» видит в том, как литературные новобранцы усвоили уроки русской классики и вместе с тем проявили свою самобытность.
Распутин написал предисловия к журнальным и газетным публикациям, книгам Геннадия Машкина, Валентины Сидоренко (к тому времени она была самой молодой из талантливых местных прозаиков), Анатолия Преловского, Геннадия Николаева, Евгения Суворова, далёких от Иркутска писателей Ивана Евсеенко, Виктора Шульжика, Валерия Золотухина. С особым вниманием следил он за творчеством своих близких друзей – Владимира Крупина, Станислава Куняева, Виктора Лихоносова. Уже сам список имён внушительный, а ведь здесь названы не все молодые литераторы, дружеское слово о которых сказал получивший известность сибиряк.
Кажется, что при чтении близкой ему книги Распутин тонким чутьём сразу угадывал в ней русское: подлинно русскую жизнь, русскую душу, русский язык. Можно сказать, что он чувствовал в авторе русский талант. И в любом предисловии, в любой статье об известном ли, начинающем ли авторе говорил он о духовной стати, особой «выправке» этого таланта, а в итоге – о притягательной самобытности своего собрата. Он указывал читателю на почву, которая взрастила его. Это только «граждане мира» считают, что человеку не важно место его рождения и последующего обитания. Нет, душа писателя напитывается только соками своей родины, она обретает духовное зрение только здесь, на отчих дорогах, и сокровенное Слово его выговаривается только там, где с детства вели с ним таинственные разговоры травы, деревья, облака…
В предисловии к книге Ивана Евсеенко «Крик коростеля», говоря о заглавной повести, Распутин писал:
«Герой её, Николай, похоронив в деревне мать, берёт с собой в город молоток, которым он заколачивал перед отъездом окна опустевшего родного дома. „Почему-то стало жалко оставлять его здесь в бездействии, в безработице, показалось, что ему будет горько лежать в темноте кладовки, постоянно вспоминая свою последнюю, такую тяжёлую и такую неблагодарную работу“. Попробуйте представить, что такое могло быть написано где-то помимо России. Не получится. И это не выдумано, сказано не для красного словца и не ради каких-то ухищрений писательского ремесла – это замечено удивительно верно, оно есть во всех нас, в одном меньше, в других больше, но невольная вина и ответственность за всё, что находится в одном с нами жизненном кругу, существовали в нас издавна. И если в ком нет теперь подобной вины и ответственности – не вышел ли он в соблазнительно раскрытый расхожий мир, где не хотят знать своего родного дома и его обычаев?»
Особый вопрос для Распутина, говорящего о чужой книге: сколько своей души вложил в повествование автор, сколько сочувствия и тепла, восторга и боли израсходовал, чтобы мы порадовались, возмутились, обрели силу? «Трудно найти сейчас другого такого писателя, который был бы в этом смысле так близок к читателю, как Владимир Крупин (в поэзии можно назвать Николая Рубцова)», – утверждал Валентин в предисловии к книге своего друга «Дорога домой». А речь в этом сборнике рассказов и повестей Крупина – о нашей вине перед осиротевшей и обесславленной отчизной. В повести «Во всю Ивановскую», писал Распутин, один из героев рассказывает, как он ездил на место своей исчезнувшей деревеньки и раскладывал на местах домов полевые цветы. А ведь бывшие односельчане ставят даже памятники на пепелищах родных деревень. Это переворачивает душу. И достигается такой читательский отклик безоглядной искренностью художника.
Суждения Распутина о книгах всегда словно бы «одомашнены». О художественной новинке, если она задела его сердце, он говорит с живым впечатлением заворожённого искусством человека близкого, родственного. С читателем беседует не критик, не толкователь текста, а единомышленник писателя, видящий в его творчестве плодоносные ростки. Таково, например, мнение сибиряка о романе Виктора Лихоносова «Ненаписанные воспоминания». Произведение посвящено кубанскому казачеству, которое ещё Екатерина II выделила в особый отряд служилых людей. «Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, – заметил Распутин. – Чисто авторские страницы, где Виктор Лихоносов является в полное своё замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой».
Книга даёт возможность автору статьи высказать сокровенные мысли о Памяти как главном «герое» отечественной литературы. И романа Лихоносова в том числе. Память, по мнению Распутина, «вечность и непрерывность человека, постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы… Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь духовное наследование. Мы уверенней и сильней себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на неё, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надёжнее в своих внутренних связях. Наконец, мы обретаем совесть, обретаем её не на словах, а на деле…».
И так естествен вывод Валентина Григорьевича: «Виктор Лихоносов предпринимает… усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдалённом его течении по кубанским пределам. И это ему удаётся вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал автор своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их – это уже наше дело, однако, кроме нашего приговора, они уже возвеличены Временем».
«Возле Вампилова было теплее…»
Впервые пронзительно, с неутихающей скорбью Валентин выразил свои чувства к Александру Вампилову в статье-реквиеме «От имени друзей его…», вышедшей в областной газете «Советская молодёжь» в сороковины гибели драматурга. Здесь, в печальных словах, – ужас от потери, последнее «прощай» душе, рядом с которой было тепло и надёжно:
«Я сошёлся с ним в первые же наши университетские годы, вместе затем мы работали в газете, почти в одно время начали писать рассказы, вместе обсуждались в 1965 году на Читинском семинаре молодых литераторов и были приняты в Союз писателей, а в последние годы довольно часто вместе оказывались в различных поездках. Случались у нас споры, к которым мы возвращались снова и снова, особенно когда дело касалось литературных привязанностей, случалось, говорили друг другу не очень приятные слова, когда кто-то бывал не прав, но ни разу, сколько я теперь ни вспоминаю, не было в наших отношениях хитрости или какой-нибудь даже мало-мальской недосказанности. И благодарить за это прежде всего, конечно, нужно Сашу с его открытым, откровенным и честным характером, не выносившим никакой фальши…
Он был интеллигентным человеком в самом добром, уважаемом смысле этого слова. Умел слушать и умел сказать – точно, интересно и независимо ни от кого, что заставляло слушать его всех. Порой казалось, что у него какой-то особый строй мышления, потому что он подходил к сути разговора с той стороны, о которой отчего-то все забывали, он не удлинял, а расширял и углублял разговор, делал его как бы многомерным. У Саши прекрасно было развито и организовано то, что называют внутренним тактом, а в это понятие входят и вкус, и мера, и согласие – стройность, мягкость, смелость и музыкальность человеческой души…
Мы все тянулись к нему, потому что видели в нём натуру не случайную, не заученную, а исключительно цельную и богатую, созданную чьим-то счастливым даром, видели в нём его естественность, если хотите, даже природность. Это качество в человеке переоценить нельзя. Саша ничего не умел делать походя – ни работать, ни дружить, ни любить, ни разговаривать, ни жить – ко всему относился искренне, с полной душой. О многих ли из нас можно сказать то же самое?»
В последующие годы Распутин многократно возвращается к наследию драматурга, его месту в отечественной литературе. И, может быть, главная заслуга писателя состоит в том, что он придал разговору о театре Вампилова ясность и глубину. Сколько авторов рецензий, статей, монографий витиевато, туманно рассуждали о «загадке Вампилова», о странной непохожести его героев на литературные типы других авторов, о том, что коллизии в пьесах драматурга «строятся на случайностях, нарочитых совпадениях» и проч., проч. Распутин одним из первых показал жизненную правдивость характеров и поступков вампиловских героев, открыл духовную сущность творчества сибиряка.
Уже вскоре после гибели драматурга, когда его пьесы, по слову прозаика, принялись ставить «пожаром по всей стране», Распутин начал разговор по существу:
«О Вампилове теперь пишут много и охотно: критики, перебивая друг друга, спорят о его героях и говорят настолько разное, что появилось даже выражение „восторженное непонимание Вампилова“. Непонимание это идёт от предпосылок искусства, а не от предпосылок жизни, с которыми всякий раз начинал творить своё искусство Вампилов. Его герои вечерами выходят на сцену чуть ли не каждого большого театра страны, и его же герои, не всегда ведая, что это они и есть, смотрят на себя из зала и смеются… Впрочем, не только смеются, этого было бы слишком мало: Вампилов писал пьесы отнюдь не для того, чтобы зритель со спокойной душой отдыхал в театре, он не признавал искусства, создаваемого для отдохновения. Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелёгкое нравственное испытание, своего рода исповедь – его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекается ещё во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля, – в этом незаменимая, но удивительная сила и тихая страсть его таланта. И когда говорят о „театре Вампилова“, следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже ещё и увеличивает, а не снижает…»
Далее приведу размышления Распутина о том, почему его друг выбирал для своих пьес таких героев – совсем незаметных в жизни, иногда прекраснодушных, как Сарафанов из пьесы «Старший сын», а чаще – жестоких, как Пашка из «Прошлого лета в Чулимске», или пустых, как Камаев из «Провинциальных анекдотов». Ведь в тогдашней литературе так чётко разделяли героев на «положительных» и «отрицательных», и никогда «положительные» не совершали скверных поступков, не роняли своего амплуа образцовых, а «отрицательные» не могли кому-то нравиться, вызывать сострадание, не могли отмыться от своего чёрного клейма. И вот писатель, создавший рассказы «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Уроки французского», со счастливым удивлением обнаруживает, что Вампилов придерживается тех же творческих правил, что и он, пишет жизнь как она есть – сложной, жестокой, исцеляющей, а человека – ущербным, запутавшимся, рвущимся к свету, чистым. Распутин хорошо видит и отстаивает в пьесах Вампилова общее, дорогое, незыблемое для них обоих:
«Те люди, которых мы за редкую самосбережённость готовы принимать за юродивых, составляются особыми частицами, подобно тому, как в природе рождаются драгоценные минералы. В теперешней литературе принято насмехаться над ними, брать в герои только для того, чтобы показать полную их несостоятельность, но для Вампилова они – удерживающее начало жизни, и он пишет их, любуясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям такой свет, нужно и самому быть освещённым…
„Зачем ты пишешь их? – можно было бы с таким же недоумением спросить у Вампилова. – Жизнь жестока, и люди не хотят жить по заповеданным им человеческим законам. Их сломают, твои прекраснодушные создания. Посмотри, что делается вокруг“. – „А я всё равно буду писать их“, – подобно Валентине (из пьесы „Прошлым летом в Чулимске“. – А. Р.) отвечает Вампилов».
И далее – новые и новые доказательства особой чуткости драматурга к своим героям, к их жизни, нравственной или безнравственной, к поучительному опыту каждой человеческой судьбы:
«Особенности души и таланта Александра Вампилова в том, что ни над одним из своих персонажей он не произносит последнего приговора… все они, вольные или невольные слуги греха, выставляются не для суда, а для того лишь, кажется, чтобы вызвать к себе и своей нелепой роли снисхождение.
В. Розанов говорил: „Никакой человек не достоин уважения, всякий человек достоин только любви и прощения“.
Смейтесь над этими людьми, возмущайтесь ими, страдайте от их множества, но не отвергайте их, ибо это не сделает лучше ни вас, ни их, – таков, кажется, главный мотив всех пьес Вампилова. Помогите сочувствием неразумному, заблудившемуся, запутавшемуся, всего лишь сочувствием – для духовной атмосферы жизни это так много и так нужно. Помогите – и воздастся вам…»
В замечаниях писателя о театре Вампилова так много было от собственного взгляда на творчество, от того, что Распутин сам утверждал в литературе. Без этой убеждённости невозможно, например, написать такое:
«В пьесах Вампилова былая жизнь отнюдь не приукрашивается: там могут и скандалить, и смертельно шутить, и врать напропалую, и не отказывать себе в удовольствиях, и истово любить… Но то герои, им полагается. Автор же нигде не позволит себе ни непристойного, ни фальшивого слова. Это не одно и то же – интонация автора и интонация героев. Собственное слово автора, надстоящее надо всем, что говорят персонажи, его позицию, „коридор“ его присутствия в пьесе читатель и зритель интуитивно различат, даже не задумываясь над этим. Герою позволяется лгать – автору нет. Сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы не в счёт, оно пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения».
И, наконец, в раздумьях Валентина Григорьевича, уже поздних и, кажется, окончательно отстоявшихся, мы найдём ответ на главный вопрос (о чём путано и неглубоко рассуждают подчас другие): что же пришло в отечественный и мировой театр с этим именем – Вампилов?
«Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта – чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него – были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю; до последнего предела раскрылась перед нами наивная и чистая душа Сарафанова в „Старшем сыне“ и стоном застонала, уверяя старую истину: „все люди – братья“, которая в повседневности часто превращается почти в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина („Прошлым летом в Чулимске“), и невольно отступило перед ней всё низкое и грязное – вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, незащищённые и не умеющие защищаться перед прозой жизни люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убеждённость у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей…»
И ещё о Вампилове:
«Театр помолодел с его приходом – и не только благодаря возрасту молодого драматурга, но и от свежего и чистого чувства, принесённого им на сцену. И теперь наш театр должен будет вернуться к нему как к одному из самых надёжных и верных друзей, без которых никакой успех никогда не будет чистым.
Талант Вампилова, непритязательный и обаятельный, естественный и добрый, есть собирание, подобно пчелиному труду, разлитой в мире душевности и красоты. Возле Вампилова теплее, добрее, этим теплом до сих пор греются те, кто знал его, оно исходит от его книг, и оно же дышит со сцены вампиловского театра, начинающего новую и прочную жизнь без старения».
«Твой сын, Россия, горячий брат наш…»
Когда читаешь строки Распутина о близких ему писателях, не покидает ощущение, что перед тобой главки одной книги. Только оставил его размышления о Вампилове на словах: «Кажется, главный вопрос, который постоянно задаёт Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь всё то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно различимы даже и противоположности – любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение?» – как в разговоре о творчестве Василия Шукшина оба вопроса им подхватываются и получают продолжение:
«Будь человеком… Всё, что сделано Шукшиным в искусстве, освещено у него этим требовательным понятием, этой страстью и этой болью, которым он заставил внимать всех – кто умеет и не умеет слушать. Не было у нас за последние десятилетия другого такого художника, который бы столь уверенно и беспощадно врывался во всякую человеческую душу и предлагал ей проверить, что она есть, в каких просторах и далях она заблудилась, какому поддалась соблазну, или, напротив, что помогло ей выстоять и остаться в верности и чистоте».
Это не повторение по забывчивости или недостатку доводов, а всё тот же сокровенный разговор о духовных ориентирах, которых придерживались и придерживаются, к сожалению, немногие в современной литературе.
Василий Шукшин – счастливое исключение. Его героев назвали «чудиками». «Они, – напоминает Распутин, – во многих рассказах Шукшина, которые читаются то со смехом, то с грустью, а чаще всего – с тревогой и которые все вместе создают пёстрое и, однако же, целостное впечатление. Потому что всё это отдельные штрихи, отдельные черты одного характера, который Шукшин писал от начала до конца и который в основном успел написать. Это характер человека свободного и самостоятельного по своей натуре, „бесконвойного“, как Костя Валиков, всеми возможными способами и чудачествами старающегося отстаивать своё естественное право быть самим собой, иметь собственное мнение и до всего на свете доходить своим умом и своим опытом. В немалой степени подверженный стихии, случаю, дёрганый, импульсивный, органически не переносящий никакой фальши, во имя чего бы она ни творилась, раздираемый противоречиями, страдающий от недостаточности яви и недоступности мечты, герой Шукшина при всём том как характер целен и органичен, ибо он не даёт поставить себя в общий ряд, а живёт отдельно и самостоятельно, как и положено жить человеку. И уже тем одним он вызывает у нас расположение к нему и беспокойство по отношению к себе».
Может быть, впервые в литературе второй половины XX века Шукшин пристально всмотрелся в русскую душу, и она для этого писателя – главная тайна. И главная ценность, о сохранности и красоте которой он печётся. «Обойти её стороной, – замечает Распутин, – не удастся, потому что это значило бы, притворяясь глухим, не услышать и не понять Шукшина».
И опять Валентин Григорьевич стремится дойти до глубинной сути творчества писателя, в данном случае Шукшина, которого назвал в заглавии своего очерка «твоим сыном, Россия, горячим братом нашим»:
«Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование; герой Шукшина с этой случайностью мириться не хочет, он выше её, но он ощущает также и свою недостаточность и шаткость для жизни направленной, это мучает его и заставляет совершать поступки как бы вне себя самого и обычно во вред себе. Непредсказуемость, стихийность и последовательная нелогичность действия, и вообще тайно любимые в себе русским человеком качества, в „чудике“, ничем не сдерживаемые, доходят до восторженно-разрушительного градуса, когда он сам себе и жертва и палач.
Странное, однако, дело: у Шукшина, казалось бы, нет ничего, что впрямую говорило бы о близком обретении души его героем, и тем не менее в читателе это становится почти убеждением. Та боль и страсть, с какой он мечется в растерянности и тоскует по душе, превращает её в нечто чуть ли не материальное, в нечто такое, что имеет место, где её можно отыскать. На этот отчаянный призыв не откликнуться, кажется, невозможно».
Вернёмся к началу этого монолога. Не кажется ли вам, что слова: «Жизнь, не подтверждённая смыслом души, есть случайное существование» – могла бы принять близко к сердцу распутинская старуха Анна из «Последнего срока» или её ровесница Дарья из повести «Прощание с Матёрой»? Дарья при этом подумала бы, что вся её судьба подтвердит эти слова, как и судьба её родителей, деда и бабушки. И ещё бы подумала, что душу её воспитали родная Матёра, Ангара, могучие леса и скромное поле за околицей деревни… Это без сомнения. Сам Распутин это знает, и Шукшин был уверен, что его герои думают так же о колыбели русской души. Не зря же Валентин Григорьевич утверждает дальше в своём очерке:
«Что касается места обитания души, его предположить не так уж и трудно. Это родина человека, земля его рождения, на первых порах давшая ему всё, что необходимо для прочности в жизни».
Ну а как же писатель, во множестве представивший читателям «чудиков», людей странных и не управляемых в поступках, наивных или необузданных в мечтах, считал, что «народ знает правду»? Да, знает, поддерживает Распутин, «ибо то и есть народ, что живёт правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную ампутации истину о человеке и его жизни». Герой шукшинского рассказа «Генка Пройдисвет», парень не без изъянов, развязавший драку со своим дядей, кричит почти исступлённо: «Если я паясничаю на дорогах, – Генка постучал себя с силой в грудь, сверкнул мокрыми глазами, – то я знаю, что за мной – Русь: я не пропаду, я ещё буду человеком. Мне есть к кому прийти!»
«Золотые слова» – соглашается Распутин и продолжает: «…эта истовая вера в Русь и даёт нам право на самую большую надежду в судьбе своей родины и народа. И оттого, что сказаны эти слова таким непутёвым внешне, бесшабашным, неустроенным в жизни парнем, как Генка, – крепче уверенность, что духовная твердыня народа там, в глубинах народного сознания, находится по-прежнему в крепости и силе… И только одно может иметь для любого народа самые тяжёлые и непоправимые последствия: самодовольство поколения или нескольких поколений, забвение корней своих, сознательный или бессознательный разрыв с многовековым опытом прошлого, ведущие через последующие связи к утрате национального чувства и исторической памяти, к разобщению, обезличенности и безродности. Тогда и народ – население, и родина – место жительства и прописки, тогда мы перестаём слышать токи одной крови в другом человеке и остаёмся одни. Глухота к ближнему грозит затем общей глухотой и вседозволенностью, человек принимает себя за случайность и уповает на случайность, случай превращается у него в судьбу».
Эти трезвые и строгие слова так согласуются с тем, что Василий Шукшин написал незадолго до смерти – их привёл в конце своего очерка Распутин:
«Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту… Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».








