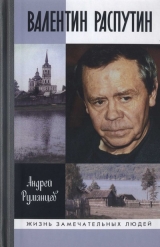
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
«Обомлел от вошедшей в меня красоты…»
Воспоминания Валентина Григорьевича о детстве рассыпаны во многих его очерках, статьях, интервью. Речь не о художественных произведениях – в них рассказы героев о своём детстве, конечно же, впитали и живые воспоминания самого автора. Но это всё же опосредованные, не «прямые» рассказы писателя о счастливых открытиях детства. А вот строки, написанные Распутиным «от себя», воспоминания, похожие на сиюминутные записи в дорогой книжице, – это свидетельства «документальные», подлинные.
В статье «Вопросы, вопросы…» Валентин Григорьевич рассказывал:
«Природа родного края отпечатывается в наших душах навеки. Я, например, когда испытываю нечто вроде молитвы, то вижу себя на берегу старой Ангары, которой теперь нет, возле моей родной Аталанки, острова напротив и заходящее за другой берег солнце. Немало в жизни повидал я всяких красот, рукотворных и нерукотворных, но и умирать буду с этой картиной, дороже и ближе которой для меня ничего нет. Я верю, что и в моём писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел. И от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из неё сознательного и материального чувства родины. Художником человек становится лишь тогда, когда свои собственные чувства он соединяет с общим народным и природным чувствилищем, в которые я верю не меньше, чем в совесть и истину, и в которых они, быть может, и проживают».
Ну, это размышления человека взрослого, оценивающего нынешние свои чувства, их истоки. А вот признания, словно бы записанные кем-то за мальчиком, – слова, исторгнутые неожиданно, выплывшие из памяти легко и непринуждённо. В уже упомянутом предисловии к двухтомнику «Откуда есть-пошли мои книги» (1997) писатель с пронзительной нежностью, искренней исповедальностью рассказал:
«Первые мои впечатления связаны с Ангарой, потом с матерью и бабушкой. Я понимаю, что должно быть наоборот, ведь не Ангара же вспоила меня грудным молоком, но, сколько ни веду я в себе раскопки, ничего прежде Ангары не нахожу. Вероятно, присутствие матери было настолько естественным и необходимым, сращенность была настолько полной, что я не отделял себя от неё. Ангара же поразила меня волшебной красотой и силой, я не понимал, что это природа, существующая самостоятельно от человека миллионы лет, мне представлялось, что это она принесла нас сюда, расставила в определённом порядке избы и заселила их семьями. Это представление могло связаться с картиной разлившейся Ангары, затопившей деревню, по которой мы, ребятня, плавали на плотиках, и принесённой на стремнине на каком-то помосте коровы; слышу и сейчас чей-то голос: „Это матушка-Ангара бедным детушкам понесла“.
Помню: стою я в носу острова (а какие острова были на Ангаре, какие острова! – и тоже: она же, Ангара, принесла и расставила для нашей радости и подкорма), – стою я совсем маленький, должно быть лет четырёх-пяти, и во все глаза гляжу, как рассекается синее её полотно на две половины, забрасывая меня острыми холодными брызгами. Я раз за разом вытираю лицо и продолжаю всматриваться, видя что-то такое, не соединяющееся в образ, но зримое, взрослым глазам неподвластное. Потом стою на своём берегу и, склонившись низко, рассматриваю это же самое, заинтересовавшее меня, потом рассматриваю с лодки, перегребающей на остров, – и не может же быть, чтобы я ничего там не высмотрел и не занёс в свою душу, что-то такое, что сделало её чувствительной и подвижной».
А великое множество историй, услышанных в вечерней полутёмной избе с ватагой таких же деревенских стригунков, расположившихся на тёплом полу у вихрастого дружка! Тут запоминались даже не сами необыкновенные, фантастические происшествия, сочинённые бойким рассказчиком, а его таинственный тон, ужимки и придыхания, свистящий или задыхающийся шёпот, словно это его самого кикиморы душили или бросали оземь с высоты.
Где живёт кикимора?
Как жилось крестьянской семье? В ранних проблесках памяти у Вали могли остаться только свалившиеся беды: частое недоедание, вялые игры с ровесниками, одетыми, как и он, в драные, латаные обноски. «Жили мы бедно, – рассказывал он в поздних биографических заметках, – и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во всё лето спасалась только под дымокуром и только на короткие ночные часы выбегала на выгон. Да и сами мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. Колхоз наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и снова нарастали, и жила деревня огородами. Да ещё тайгой и Ангарой…»
Но вновь и вновь печальные свидетельства писателя чередуются с дорогими, чистыми, как небесные видения, воспоминаниями о душе русской деревни: какая же поэзия витала над скромными, затерянными на таежном берегу избами! «У нас деревня была суховатая на песню и сказку, – признавался позже писатель. – Почему так получилось, не пойму – может быть, от надсадного житья. Водились, конечно, и песня, и сказка – где они не водились? – но как-то без поклонения, в припомин. Не собирались по привычке в долгие зимние вечера, как в иных местах, которые я встречал, чтобы под треск камина присластить свою жизнь напевной стариной. Но за прялками, за вязанием, за починкой под треск того же камина любили рассказывать былички – всякие страшные истории с домовыми, лешими, водяными. Послушаешь – все их видели, все водили с ними дружбу. Одна история была жутче другой. На подстеленной на полу соломе в углу вздрагивал телёнок, спасающийся от лютых морозов, сонно вскидывались и вскудахтывали в курятнике курицы, стреляло из камина, по стенам ходили огромные жуткие тени. Мы, ребятишки, сидели не шелохнувшись и потом по дороге домой жались к матерям и бабкам. Я так и уехал из деревни, не встретив ни домового, ни лешего, ни баннушки, ни русалки, но, когда писал „Прощание с Матёрой“, не мог обойтись без хозяина острова. Это не дань язычеству, а дань поэзии, без которой не жил народ. Да и, признаться, я продолжаю верить, что, вопреки полной просвеченности мира, должны существовать следующие из глубокой древности земные наши хранители».
Ребячий мир в сибирском захолустье был особенным. Наверное, сказывались былинная немереность заповедной земли, ночная пугающая тайга за окнами дома, единственная тележная колея, уходящая Бог весть куда, колдовские тропки, проложенные то ли охотниками, то ли самим зверьём. Да как же в этом таинственном, нехоженом пока краю не разгореться мальчишеской фантазии: тут сказочники среди сорванцов – через одного! И воспоминания о скоморошестве их всплывут через года:
«В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да „ужасти“, которые напрашивались сами собой под древнюю ворожбу каминного огня. Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаёнными, то гробовыми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве мог быть у историй, рассказанных не Петькой или Васькой, а их оборотнями, и непременно выдаваемых за „правдашние“, такой жуткий накал, такая непереносимая страсть! „Вот воротился без памяти дядя Егор и лёг… не верите мне, спросите у дяди Егора… вот лёг он вдругорядь, и вдругорядь стук в окно. ‘Выходи, дядя Егор!’ – нечеловеческим голосом вызывают его. Он бы и рад не выйти, да как не выйдешь! – в избе достанут, ребятишек до родимчика напухают. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни живой, ни мёртвый. Темень – глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг ка-а-ак…“ И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголёк, и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от тяжких вздохов, от мертвенно искажённых заревом лиц сердце обрывалось в пропасть, но и оттуда просило: ещё, ещё! – чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!»
А ещё сам говор, укоренившийся в Аталанке, перешедший от дедов к мальцам, тот, который во взрослой жизни и за сотни вёрст, и за тридевять земель отсюда стал казаться драгоценной россыпью:
«…как говорили у нас в деревне, как говорили! Баско баяли – метко, точно, с заглубом в язык, не растекаясь мыслью по древу. Все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. Все имели прозвища, пристававшие намертво. Одним словом умели сказать многое, словесная мелочь была не в ходу. Болтливость высмеивалась. По русскому языку, да позволено будет так выразиться, ходили пешком, по-рабочему, а не разъезжали в лимузинах».
И от этих благодарных в устах чародея языка слов как-то естественно выстроился мостик к признанию, тоже сыновнему, исполненному любви уже не только к ангарской отчине, но ко всей России:
«…в этой неказистой деревне жила часть русского народа, пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в людных местах, на семи ветрах.
Да и что такое „полусонная“ деревня, если этот народ жил в беспрестанных трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции и держался вместе?! И когда говорят о природной лени русского человека, уверяют, что он работать способен только из-под палки, – не к ним, не к клеветникам, хочется обратиться, а к небу, которому они поклоняются: вразуми ты их, бесчестных, – разве знают они русского человека? Кто кормил их, кто защищал от гибели, пока они напитывались ядом?».
Трагедия отца
В сорок четвёртом году Валя пошёл в Аталанскую начальную школу. Отец ещё воевал, мать, оставляя на день мальцов с другими внуками Марии Герасимовны, хозяйничала больше на почте: в сберкассу мало кто заглядывал. Позже Распутин, не боясь повториться, напоминал, – себе ли, читателям ли, – чем держалась тогда сельская Россия:
«…вся деревня жила одним миром. Слово „колхоз“ было понятием не хозяйственным, а семейственным, так и говорили: колхозом спасаемся. Колхозишко был бедный, надсаженный войной, истрёпанный нуждой; горе гуляло почти по всем избам. Но умудрялся как-то колхоз самым бедным помогать, и с голоду у нас, слава Богу, не помирали. Ели и лебеду, и крапиву, бедствуя, как и вся Россия, но если приходилось кому с осиротевшими ребятишками хуже всех – несли последнее. Это было в „заведенье“ – как закон: не хочешь, а подчиняйся, иначе „мир“ на веки вечные вырубит о тебе заслуженную славу».
Аталанка растянулась вдоль Ангары и в разговорах односельчан делилась на «верховскую» и «низовскую». В зимние дни с реки дул холодный ветер, и озябшие малыши, идя в школу или возвращаясь из неё, заходили на почту погреться. Одноклассница Вали Тамара Сомова вспоминала:
«Тётя Нина всегда встречала нас, как своих детей. Подталкивала к печке, растирала наши щёки и руки… А школу мы любили как родной дом, хотя занимались в обыкновенной старенькой избе. В ней была одна комната и прихожая. В комнате мы учились. По два класса в две смены. А в прихожке играли на переменах, носились – пыль до потолка! В нашем классе было семеро мальчишек и девчонок. Валя Распутин все четыре года сидел за одной партой с Димой Слободчиковым. Он стал потом героем рассказа „Мы с Димкой“. Оба были неразлучными друзьями. Как-то так повелось, что „низовские“ не водились с „верховскими“ и за одними партами не сидели. Если случались детские стычки, Валя всегда становился на сторону слабого. Взбалмошных задир он не любил. В школе была маленькая библиотека. Наверно, только один Валя прочитал в ней все книги».
Другие одноклассники по начальной школе (в средней, Усть-Удинской, аталанские сверстники Валентина не учились вместе с ним) говорили о юном Распутине: был он молчаливым, спокойным. Одноклассницы добавляли: свойским. Искупается в Ангаре и ждёт на берегу, когда выйдут из воды девчонки. И он не стеснялся, и его не стеснялись.
Сам писатель на одном из творческих вечеров неожиданно для слушателей сказал, что с детством ему повезло: «хватил мурцовки полностью». И твёрдо добавил: «Это было необходимо. Приходилось с самых ранних лет заниматься каким-то взрослым делом. Если мы убегали на Ангару, то для того, чтобы там рыбачить. Рыбачили прекрасно: я налавливал рыбы столько, что почти жили на эту рыбу. И на уху, и на жарёху, и на посол хватало. Рядом была тайга. Просто побежать, полюбоваться на красивые деревья, полежать на тёплой полянке позже пришлось. В тайгу мы ходили, чтобы ягоду собирать, грибы, черемшу, орехи – всё это пригождалось, чтобы выжить. Необходимость была».
* * *
Осенью сорок пятого с фронта вернулся Григорий Никитич. Худощавый, с заострившимся лицом, отец не годился после ранений на ломовую крестьянскую работу. Но он был победителем, редким в деревне солдатом, вернувшимся из страшного пекла. Мальчишки нашего поколения, почти не помнившие по малолетству отцов довоенных лет, с трепетом прижимались к ним, обретённым заново, любовно трогали звонкие медали, которые фронтовики не снимали с гимнастёрок в первые дни после своего возвращения. Всё это испытал и восьмилетний Валя.
Можно предположить, что фронтовая биография отца «аукнулась» в повести Распутина «Живи и помни». Так совпало: прозаик опубликовал её в том же 1974 году, когда ушёл из жизни Григорий Никитич. Не могло такого быть, чтобы автор, не хлебнувший фронтовых бед, не расспросил о них собственного отца! У кого же ещё узнать подробности окопной жизни, чтобы быть правдивым в каждой строке? Речь, конечно, не о том, что мысли и переживания Андрея Гуськова подсказаны отцом писателя. Речь о буднях войны, которые должны быть нарисованы достоверно и которые, возможно, ярко представились автору из рассказов Григория Никитича. Стоит прочитать строки из повести:
«…B первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал её так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нём или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра, когда подвернёт очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.
Андрею Гуськову долго везло, только однажды… он не уберёгся и, попав под бомбёжку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прихватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело натыкался на всякие неприятности…
За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать всё: и танковые атаки, и броски на немецкие пулемёты, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за „языком“. Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шёл так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней – ничего другого ему не оставалось. Поперёд других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался – это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В „поиске“, когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж либо пан, либо пропал, а подержишься, побережёшься – погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надёжным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, – не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку – коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушённого или несговорчивого „языка“ себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.
В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче…
Но летом сорок четвёртого года, когда прямо перед носом зачехлённой уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: всё, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошёл сполна…»
Григорий Никитич вступил на фронте в партию, а это добавляло вчерашнему солдату уважения и доверия. Ему, слывшему и раньше человеком способным и честным, предложили в родной деревне должность, которая, к несчастью, поломала его судьбу. Но об этом – через несколько строк.
Всегда особыми, святыми образами в рассказах и повестях будущего прозаика оказывались матери. Чувство вечной благодарности и любви к ним запало в душу Валентина, конечно, благодаря Нине Ивановне. На фотографиях её трудно выделить среди женщин своего поколения – поставь рядом тысячи, миллионы русских крестьянок военной поры, и они, такие разные, явят один образ двужильной и терпеливой, страдающей и живучей России.
«Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца, но это так много! – с благодарным чувством писал повзрослевший сын. – И жизнь она прожила невесёлую, пригорбленную ещё и послевоенной судьбой отца.
Вернувшись с фронта в орденах и медалях, отец не пошёл в колхоз, а заступил на должность начальника почты. Деревня наша хоть и была небольшой, но считалась центральной среди полудюжины ещё меньших, раскиданных по Ангаре. В ней располагались сельсовет, почта, сберкасса, медпункт, сельпо. По почте пересылались денежные переводы, велись иные мелкие расчёты. И когда у заснувшего на пароходе отца во время его служебного отъезда срезали сумку, денег в ней много находиться не могло. Но в те времена в расправе не мелочились. После четырёх лет фронта, всего только два года и пробыв дома, на семь лет он загремел в магаданские рудники и вышел только по амнистии после смерти Сталина, совсем „доходягой“, как он с грустью говорил о себе. И, вероятнее всего, не вышел бы вовсе, если бы не фантастическое везение: в тот же лагерь попал взятый в армию в конвойные отряды его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они братья, прошло более полугода, в которые отец успел „подкормиться“».
«Деревня не даст тебе пропасть…»
Годы учёбы аталанского мальчишки в Усть-Удинской школе тоже представить легко: сам он, повзрослев, рассказал о них с живой полнотой.
«Я рано пристрастился к книгам, в ученье показывал усердие, и меня после четырёх классов деревенской школы, по общему мнению, следовало учить дальше. Не просто было матери решиться на это, мы уже снова куковали без отца. В необходимых случаях мать умела быть твёрдой, однако нас у неё было трое, я самый старший, начинавший помогать, и на её окончательное решение повлияло обещание не только родных: не дадим пропасть парню. Дядя Ваня, шофёр единственной в колхозе полуторки, привёз меня в Усть-Уду, в райцентр, и, выгружая моё барахлишко, так и сказал, это я запомнил: „Мы тебе, парень, не дадим пропасть“. Об учёбе своей, где преподавалась не одна лишь школьная программа, но и кое-что посерьёзней, я рассказал в „Уроках французского“. Лидия Михайловна, учительница французского языка, носит в рассказе своё собственное имя (фамилия – Молокова), она теперь живёт в Саранске и преподаёт в Мордовском университете. Я не мог вместить в рассказ многое: и как я квартировал у одноклассников, где меня подкармливали (и, уж конечно, речи не могло быть об оплате), и как к праздникам выдавалось вспомоществование, и как приласкивали, чтобы мне терпелось. Дождавшись каникул, я, не чуя ног, бежал за пятьдесят километров домой, и в деревнях меня знали и окликали, наперебой поили чаем.
Разве можно это забыть?!
Дядя Ваня, шофёр из „Уроков французского“, привозивший мне хлеб и картошку, Иван Егорович Слободчиков из нашей Аталанки, перекочевал потом под именем Ивана Петровича в повесть „Пожар“. Таким он и был всю жизнь – кроенный совестью и редким трудолюбием. Приезжая в Аталанку, уже „верхнюю“[2]2
То есть в посёлок, который составился из нескольких деревень после затопления берегов Ангары при строительстве Братской ГЭС.
[Закрыть], я в первый же вечер торопился к Ивану Егоровичу. Он уже поджидал и выходил навстречу – высокий, крепкий, с короткой стрижкой по седине, обрадованно и тускло улыбающийся. Его изгрызла боль, он не мог скрепить сердце и спокойно наблюдать, как хищничают на нашей земле. В последнюю встречу Иван Егорович, танкист с Т-34, провоевавший три года, заплакал от бессилия, рассказывая о новых порядках. Уходя, я обнял его прощальным объятием – и не ошибся».
Как подросток перемогал тоску по дому за пятьдесят вёрст от него, тоже можно представить. На этот раз по рассказу «Уроки французского». Разумеется, тут могли не совпадать с действительностью какие-то мелкие подробности (художественное произведение – это не зеркальное отражение чьей-то жизни), но суть, без сомнения, передана точно.
«…мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.
Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? – за тем я сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятёрки.
С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить – я терялся, язык у меня во рту деревенел и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был что-то делать, там меня тормошили ребята, вместе с ними – хочешь не хочешь – приходилось двигаться, играть, а на уроках – работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска – тоска по дому, по деревне. Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо, так горько и постыло! – хуже всякой болезни.
Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, чтобы я отстал, не позорил себя и её, – я ничего не понимал. Тогда она решилась и остановила машину:
– Собирайся, – потребовала она, когда я подошёл. – Хватит, отучился, поедем домой.
Я опомнился и убежал.
Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалёку от райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову она не держала. Привезут – кажется, много, хватишься через два дня – пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть: был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал – тётя Надя ли, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя ребятишками, кто-то из её старших девчонок или младший, Федька, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.
Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня всё вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля. Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье просидел с удочкой весь день и поймал трёх маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам околачивался у чайной на базаре, запоминая, что почём продают, давился слюной и шёл ни с чем обратно. На плите у тёти Нади стоял горячий чайник; пошвыркав гольного кипяточку и согрев желудок, ложился спать. Утром опять в школу. Так и дотягивал до того счастливого часа, когда к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня. Наголодавшись и зная, что харч мой всё равно долго не продержится, как бы я его ни экономил, я наедался до отвала, до рези в животе, а затем, через день или два, снова подсаживал зубы на полку».








