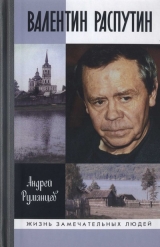
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 39 страниц)
Глава двадцать третья
О ЧЁМ ЭТО: «ЗЛАТОЗАРНЫЙ, СВЕТОСИЯННЫЙ»?
Сокровище, которому нет равных
Верность писателя всему родному, отеческому видна в языке его произведений. С самого начала своего художнического служения Распутин с благоговением, как к бесценному духовному сокровищу, относился к русскому слову. Ещё в семидесятые годы наш университетский преподаватель, профессор, автор первой монографии о Распутине[42]42
Тендитник Н. Ответственность таланта. Иркутск: Восточно-Сибирское издательство, 1978.
[Закрыть] Надежда Тендитник опубликовала в иркутской газете «Советская молодёжь» (1977, 29 ноября) беседу со своим вчерашним студентом. Надежда Степановна с восхищением отозвалась о языке повестей и рассказов писателя и спросила его, как он оказался владельцем такого богатства. Вот что ответил тогда Валентин:
«Языковая стихия, которой владеет писатель, приходит к нему, наверное, в детстве, и ничем её, никаким литературным языком выправить невозможно. Этот опыт многих поколений, выраженный в языке, приходит затем к писателю… Русскому языку в условиях образованщины грозит большая опасность. Помочь народному языку – сильному, богатому, великому – сейчас, пожалуй, в состоянии только литература. И когда писатель нарочито берётся писать неким литературным языком, неким усреднённым языком, которым люди общаются, чтобы понимать друг друга, это уже плохо. Сейчас главный долг современного писателя больше обращать внимание на народный русский язык. Сохранять его, пользоваться им, всячески его продолжать. Я постоянно бываю в деревне, разговариваю не только со старухами. Язык сохранился не только у них, он сохранился у людей среднего поколения и продолжается у людей младшего поколения.
Есть такие люди: знает он хорошо народный язык, а стремится прибегать к языку, который он услышал по радио, вычитал в газете, и в мешанине одного и другого языка разговариваешь как будто с иностранцем каким-то. Очень трудно понимать этого человека. И второе, что для меня очень важно: я как художественную литературу, а может быть и больше, постоянно смотрю, читаю словарь Даля. Я кроме того давно уже собираю фольклорную литературу, где народный язык выражен наиболее полно, собираю песни, сказки, пословицы, поговорки – всё, что относится к фольклору. Это помогает мне».
Чуть ли не каждый классик отечественной литературы размышлял об изобразительных возможностях русского языка. Но чтобы обращаться к этой теме не только в статьях, беседах, заметках «по случаю», но и в художественных произведениях – это, пожалуй, случай не частый. Распутин такой пример давал не однажды. Ещё в повести «Вниз и вверх по течению» он, тогда молодой прозаик, рассказал, какое впечатление на его героя, судя по всему автобиографического, производят опусы глуховатых авторов, а какое – произведения мастеров:
«Виктор попробовал читать и не смог. С тех пор как он сам начал писать, чтение перестало доставлять ему обычное удовольствие, когда спокойно и доверчиво следуешь за автором всюду, куда его понесёт, когда происходящие в книге события и участвующие в них персонажи воспринимаются как случившаяся реальность, независимо от того, нравятся они или нет… Теперь же появился чисто профессиональный интерес. Ох, уж этот профессиональный интерес… ни дна бы ему, ни покрышки.
До чего было просто раньше и до чего трудно сейчас – будто ты находишься на постоянном дежурстве и не хочешь, да видишь, как ёрзает, а то и бьётся в мучительных судорогах неправильно поставленное слово, как беззастенчиво хихикают или аукают посередь серьёзного разговора, потому что им делать тут нечего, пустые, ненужные фразы, как врёт, соловьём заливается во лжи какой-нибудь положительный герой, купаясь в громких и почтенных словах, словно в мыльной пене, в то время как он, по мысли автора, должен произносить правду, правду и одну только правду, как вся книга руками и ногами бьёт, требуя, чтобы её читали, и вопя о книжном равноправии, хотя пользы от подобного чтения нет и не может быть. Видишь, понимаешь и не можешь вмешаться – ни помочь, ни одёрнуть, ни пристыдить. Уж лучше бы не видеть и не понимать. Вся штука в том, что хорошая книга, как и плохая, создаётся из одного и того же материала, из одних и тех же слов, расставленных, правда, в ином порядке, звучащих в иной интонации и благословенных иным перстом.
Но от хорошей книги, благодаря всё той же профессиональной разборчивости, тоже нелегко. Когда при обыкновенном слове „застонала“ ты содрогаешься от боли этого стона, когда при названии краски ты ясно различаешь её оттенки и ощущаешь её запах, когда ты собственными ушами слышишь звук падающего в книге с дерева яблока и плачешь при встрече двух людей, придуманных фантазией автора, ты пытаешься понять, каким образом всё это было достигнуто, какой живой водой окроплено, ты снова и снова перебираешь слова, следуя по ним, как по ступенькам бесконечной лестницы, пытаясь проникнуть в их удивительную тайну, заставляющую их звучать, пахнуть, светиться и волновать. И ты всё видишь, потому что в книге трудно что-либо скрыть, всю вязь слов, музыку их, обозначенную нота за нотой, стыки между фразами и паузы между мыслями – всё видишь и тем не менее ничего не понимаешь. Отчаявшись, ты откладываешь книгу и бессильно закрываешь глаза, ненавидя себя за беспомощность, бесталанность и за всё остальное, что с этим связано».
Точка опоры
Спустя тридцать лет после того, как были написаны эти строки, писатель затронул дорогую для него тему в новой повести «Дочь Ивана, мать Ивана». Молодой герой повести Иван в страшные для России времена обращается мыслями к её духовным скрепам. И одна из этих скреп – родной язык. Иван, уединившись в домике на Байкале, с интересом читает книгу пословиц русского народа и церковно-славянский словарь. С впечатлением, которое испытывает паренёк, стоило бы познакомить каждого школьника и студента-гуманитария:
«…раскрыл словарь. Полистал, вслух повторяя осторожно и трогательно, словно пробуя на вкус и боясь вспугнуть: лепота, вельми, верея, чресла, навет, златозарный, светосиянный… и откинулся в изнеможении: что это? Если бы отыскался человек, воспитывавшийся в глухом заточении и никогда не слышавший слов: мама, люблю, дорогой, спасибо, никогда от рождения своего не ведавший ласки и не засыпавший под колыбельную, он бы их тотчас понял и узнал при встрече, потому что он и не жил без них, всё ждал и ждал, когда прикоснётся к нему волшебная палочка их звучания и оживит его. Иван точно клавиши перебирал, и дивная музыка узнавания звучала в нём мягкими и торжественными аккордами. Все эти слова, все понятия эти в Иване были, их надо было только разбудить… всё-всё знакомое, откликающееся, давно стучащееся в стенки… Это что же выходит? Сколько же в нём, выходит, немого и глухого, забитого в неведомые углы нуждается в пробуждении! Он как бы недорождённый, недораспустившийся, живущий в полутьме и согбении. „Душу мою озари сияньми невечерними“, – пропел Иван, заглядывая в словарь и опять замирая в восторге и изнеможении.
Нет, это нельзя отставлять на задний план, в этом, похоже, и коренится прочность русского человека. Без этого, как дважды два, он способен заблудиться и потерять себя. Столько развелось ходов, украшенных патриотической символикой, гремящих правильными речами и обещающих скорые результаты, что ими легко соблазниться, ещё легче в случае разочарования из одного хода перебраться в другой, затем третий и, теряя порывы и годы, ни к чему не прийти. И сдаться на милость исчужа заведённой жизни. Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими словами уводимых в полон и обвязанных одной вереёй многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка добром, и как утешить старость в усталости и печали – когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем и душой, напитанными родовой памятью, – вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времён оно само по себе нерушимая клятва и присяга. Есть оно – и всё остальное есть, а нет – и нечем будет закрепить самые искренние порывы».
Чистый источник – его книги
Распутин являл пример писателя, владеющего необычайной выразительностью и красочностью языка. Едва ли у какого-нибудь другого современного прозаика найдёте вы выражения: «ходила ступью», «чутливо отыскивала», «спохватно думала», «по телу проносились колючие пронизи», «продуктов невпроед», «на подвязях», «с заглубом», «нажитью». Недаром А. Солженицын признавался, что учился языку у Даля, Лескова, Распутина: выписывал у них неведомые ему понятия.
Но и общеупотребимые, известные каждому читателю слова сибирский писатель часто ставит в неожиданное соседство с другими словами, добиваясь во фразе новых оттенков смысла, являя образец какой-то особенной речи. Бывает, что по воле автора у знакомого слова появляется иная форма, и этот «новояз» не кажется искусственным, а запоминается как естественная, может быть, забытая нами частица родного языка. Согласитесь, разве не обогащают художественную речь такие неожиданные выражения: от костра «сплывают в сторону сажные лохматки обгари»; река «поджимисто вытягивалась в одну струю»; «деревья обветвлённые, юбкастые»; «таинственный и радостный небозор»; «при сильной волне, по чёрной, мрачной взбуче воды»; «с мягкой рисунчатостью берегов»; «неубывающая несчесть звёзд»; «сплошное зеркало гололедья»; «едва разглядев нас, он быстро и заводисто принялся рассказывать»; «вожами нашими были местные люди» и т. д.
В рассказах и повестях Валентина Григорьевича авторский текст часто напоминает речь вдруг просиявшую. Кажется, что до поры до времени слова лежали где-то в запасе – памятные, но подёрнутые налётом покинутости, родные, но отчуждённые временем, красочные, но не протёртые губкой художника. И вот они опять явились в своём образном торжестве – всплывшие в памяти, обретшие былую ёмкую выразительность: «Заходили в ограду люди – изба стояла как на пупке, и видно было от неё на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях – могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто-мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир, – таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было вволюшку повздыхать, и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец».
Повторите эти строки – и вы поймёте, с какими тщанием и любовью подбирал художник свои речения. Конечно, такая работа не каждому даётся, надо иметь чутьё, вкус к слову, дарованные писателю, может быть, многими прежними поколениями.
Это тот случай, о котором говорил Чехов, обращая внимание на прозу Михаила Лермонтова: «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы в школах – по предложениям, по частям предложения… Так бы и учился писать».
Встречаешь в соцсетях наскоки молодящегося, бойкого от самомнения литератора, «авангардиста речи»: «А что язык „деревенщиков“? Лежалый, затхлый товар. Нынешние поколения и не понимают его» – а потом открываешь Распутина, к примеру, очерк «На родине», и находишь у него ответ – почему не понимают:
«Чахлый, гнилой, низкорослый лес, тот, что на корню, по берегу уходит в глубину залива – и далеко: пока не кончится подпор и не сыщется речка в старом русле, не заструится, не зажурчит живой водичкой. Не может не знать она, живая, куда, в какое глухое лежище утянутся её струи, но будет посылать их и посылать… Так и нам надо.
Я снова обвожу глазами весь огромный котлован, где кипела, кипела и кипела вся работа. И думаю: лунный пейзаж. Заронятся ли здесь когда-нибудь семена, закроется ли эта рана? Я задаю вопрос не для ответа, ответ должен быть положительным. Но нет ответов, отказываются говорить. Надо выбираться из этого безответья, из этой глухоты, из беспродышливого подпора, на дне которого много чего лежит. Надо».
Кажется, что это о прозе сибиряка сказал когда-то Николай Гоголь: «Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения… это наружное благоприличие, эта внешняя обработка всего; тут маленькая соринка заметна и всем бросается в глаза…»
Глава двадцать четвёртая
«РОДНУЮ СТРАНУ ПРЕВРАЩАЮТ В ЧУЖБИНУ…»
«Не бойтесь сочувствия слабым…»
В последние годы Валентин Григорьевич уже не мог из-за нездоровья работать над новыми большими произведениями. Но он никогда не уходил в тень. Он оставался художником, мыслителем и патриотом России, чей неподкупный, правдивый, смелый голос постоянно звучал во всех уголках страны. Не случайно его почитали как неутомимого народного защитника и духовного врачевателя, как сеятеля надежды и веры.
Не раз приходилось слышать от Распутина в его беседах с молодыми прозаиками: «Не бойтесь сочувствия слабым и оступившимся, а бойтесь резких приговоров и решительных обвинений своим героям». Об этом Валентин Григорьевич говорил и в нашем диалоге начала двухтысячных годов[43]43
Опубликован под заголовком «Литература – это нравственное служение» в газете «Российский писатель» (2003, № 6).
[Закрыть]:
«„Что происходит с нами? Что происходит с нашей страной?“ Этот нелёгкий разговор требовал особенного языка. А сейчас такой горячности, может быть, не требуется. Она остаётся в политических речах, в статьях журналистов, но в художественной литературе она стала как бы избыточной. Читатель, как и писатель, настолько надсадил своё сердце той тревогой, которая терзает его, что он уже не в состоянии выдерживать новые дозы.
Нужны какие-то исцеляющие слова, которые, не уменьшая тревоги, внушали бы читателю надежду, давали бы новые нравственные силы для того, чтобы бороться за добрые перемены. Сейчас не лишни будут лирические, даже в какой-то мере сентиментальные произведения, которые могли бы „удобрить“ душу. Душа сейчас, как никогда, требует „удобрения“, она скукожилась от того, что происходит вокруг, она ушла в себя, замкнулась. А это плохо. Одиночество, на которое настраивает и к которому ведёт вся нынешняя жизнь, ослабление нашей общинности, артельности в труде, в жизни могут привести только к поражению. Человек уходит в себя, особенно в несчастьях, а одному ничего не сделать. Сейчас в обороне ли, в наступлении ли требуется объединённость. Объединённые силы – это наши духовные, нравственные силы. Они должны исходить и от искусства, от литературы.
Мы жалуемся, что нас не печатают, не читают. Это так, но сейчас требуется такое слово, которое бы обязательно прочитали, мимо которого бы не прошли. Бывает на улице: один человек кричит, кричит от горя, а люди проходят мимо, потому что такие крики разносятся всюду. А другой просто смотрит на тебя глазами, полными страдания, – оно идёт откуда-то изнутри, из его души, – и люди останавливаются, замирают от чувства сопереживания. Сейчас слово должно иметь какую-то особую силу, которая не в громкости его, а во внутренней энергетике. Тогда слово преобразит человека, подтолкнёт его к деятельности, вдохнёт в него надежду».
Такое слово Валентин Распутин находил в последние годы – в беседах с журналистами разных изданий, писателями, художниками, литературными критиками.
Счёт к разрушителям
Особое место среди этих бесед занимают диалоги писателя с журналистом газеты «Правда» Виктором Кожемяко, опубликовавшим их в книгах «Последний срок: диалоги о России», «Валентин Распутин. Боль души», «Эти двадцать убийственных лет». В послесловии ко второму сборнику журналист написал:
«…сложился если не дневник, то своего рода ежегодник, в котором последовательно запечатлелось многое из того, что особенно волновало, тревожило, озабочивало Валентина Григорьевича Распутина при переходе из века в век, из тысячелетия в тысячелетие.
Я знаю, ему эта многолетняя работа, которая, надеюсь, ещё продолжится, по-особому дорога. Как документ времени? Нет, пожалуй, даже более, гораздо более того. Как свидетельство души во времени. А работал он над текстами этих бесед по-писательски – по-распутински, я бы сказал. Предельно кропотливо и тщательно, выверяя каждое слово и малейший нюанс. Так же, как работает над повестью, рассказом или очерком.
Значит, и это неотъемлемая часть творчества большого русского писателя на крутом рубеже биографии его Родины, которую он любит поистине больше жизни».
Надо заметить, что даже в тех горячих диалогах, где речь шла о гибельном состоянии страны и её вечного работника, писатель находил и обнадёживающие, и исцеляющие, и вдохновляющие слова. Там же, где беседа касалась разрушителей державы, он бросал в их адрес предупреждающие и отрезвляющие «глаголы» (в пушкинском смысле).
«Вот вам жизнь моей родной деревни на реке Ангаре, теперь там Братское водохранилище. Судите сами, жизнь ли это? Почти сорок лет назад моя Аталанка была переселена из зоны водохранилища на елань, сюда же свезли ещё пять соседних деревень. Вместо колхозов стал леспромхоз. В прошлом году (1997-м; беседа состоялась в апреле 1998-го. – А. Р.) он пал смертью храбрых на рыночном фронте. В большом посёлке не осталось ни одного рабочего места. Магазин и пекарню закрыли, школа сгорела, солярку покупать не на что, электричество взблескивало ненадолго в утренние и вечерние часы, теперь, думаю, погасло совсем. Но это ещё бы не вся беда. Воду в „море“ брать нельзя, заражена много чем, а особенно опасно – ртутью. Рыбу по этой же причине есть нельзя. Почту могут привезти раз в неделю, а могут и раз в месяц. Два года назад, в то время леспромхоз ещё слабенько шевелился, мои земляки выкапывали по весне только что высаженную картошку. Что будет этой весной, что будет дальше, сказать не берусь. И если бы в таком аховом положении была одна моя деревня… Их по Ангаре, Лене, Енисею множество. Никакого сравнения не только с войной… сравнить не с чем».
Добавлю к этому собственное впечатление о посёлке, сохранившем название родной деревни писателя. Именно в тот год, о котором идёт речь в диалоге, мы приехали в Аталанку на день втроём: Распутин, я и журналист иркутской газеты. На улице к знаменитому земляку подходили люди – мужчины всё какие-то потерянные, помятые, иные с явными признаками известной слабости, женщины озабоченные, словно бы вдруг вспомнившие, что они способны и улыбаться. Школа-восьмилетка, лишившаяся из-за пожара собственного здания, ютилась в заброшенном детском саду. Мы вошли. Ребята в тот холодный весенний день сидели за старыми домашними столами в верхней одежде, от щелястого пола сквозило. Комнаты с тонкими перегородками и наспех навешенными дверями полнились голосами из соседних «классов». Детей в школе не кормили: власти не имели на это денег… Со сжавшимся сердцем вспомнил я свою маленькую деревню военного сорок второго года, детсад, который был открыт колхозом для нас, голодающих малышей, чистую и тёплую, с домашними печами, начальную школу, куда мы заглядывали иногда к своим старшим братьям или сёстрам. Какие же враги принесли на обогревавшую нас прежде землю такое разорение?
Но вернёмся к диалогу. То, что сказал журналисту Валентин Григорьевич после рассказа о своём разорённом родном уголке, стало для меня и ожидаемым, и неожиданным размышлением:
«Мы не знаем, что происходит с народом, сейчас это самая неизвестная величина. Албанский народ или иракский народ нам понятнее, чем свой. То мы заклинательно окликаем его с надеждой: народ, народ… народ не позволит, народ не стерпит… То набрасываемся с упрёками, ибо и позволяет, и терпит, и договариваемся до того, что народа уже и не существует, выродился, спился, превратился в безвольное, ни на что не способное существо.
Вот это сейчас опаснее всего – клеймить народ, унижать его сыновним проклятием, требовать от него нереального образа, который мы себе нарисовали. Его и без того беспрерывно шельмуют и оскорбляют в течение десяти лет из всех демократических рупоров. Думаете, с него всё как с гуся вода? Нет, никакое поношение даром не проходит. Откуда же взяться в нём воодушевлению, воле, сплочённости, если только и знают, что обирают его и физически, и морально.
Достоевским замечено: „Не люби ты меня, а полюби ты моё“, – вот что вам скажет народ, если захочет удостовериться в искренности вашей любви к нему. Вот эта жизнь в „своём“, эта невидимая крепость, эта духовная и нравственная „утварь“ национального бытия и есть мерило народа.
Так что осторожнее с обвинениями народу – они могут звучать не по адресу.
Народ в сравнении с населением, быть может, невелик числом, но это отборная гвардия, в решительные часы способная увлекать за собой многих. Всё, что могло купиться на доллары и обещания, – купилось; всё, что могло предавать, – предало; всё, что могло согласиться на красиво-унизительную и удало-развратительную жизнь, – согласилось; всё, что могло пресмыкаться, – пресмыкается. Осталось то, что от России не оторвать и что Россия ни за какие пряники не отдаст. Её, эту коренную породу, я называю „второй“ Россией в отличие от „первой“, принявшей чужую и срамную жизнь. Мы несравненно богаче: с нами – поле Куликово, Бородинское поле и Прохоровское, а с ними – одно только „Поле чудес“».
Собеседник, естественно, спросил писателя: так что же, нам оставаться смиренными и терпеливыми? «Они-то, враги наши, не церемонятся, не стесняются! Они и хитры, и наглы, и агрессивны. Может, правомерно острее ставить вопрос о большей жёсткости и непримиримости с нашей стороны? Может, правы те, кто с определённым смыслом напоминает слова Христа: „Не мир Я принёс вам, а меч“?.. В конце концов был схимник Серафим Саровский, но был также инок Пересвет… Скажите, как вы считаете: нужен сегодня герой-боец русской литературе и русскому обществу? Я вспоминаю известную статью Сергея Булгакова „Героизм и подвижничество“, где подвижничество ставится выше героизма. Но в нынешних условиях, по-моему, потребно и то, и другое».
«Согласен с вами, – ответил Распутин, – нужно то и другое, одно другому ничуть не мешает. Подвижничество – как надёжные и обширные тылы, как необходимость укрепления духа и постепенное теснение чужих. И героизм – как передовая, где идёт откровенное борение сил. Без героизма не явятся к нам выдающиеся личности, полководцы, подобные Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Георгию Жукову».
Здесь необходимо заметить, что сам Валентин Григорьевич в эти годы не забывал ни «передовой», где нужно было личное участие, ни надёжного «тыла», где требовалось подвижничество. В «тылу» он продолжал быть в центре патриотического сопротивления. На всех съездах Союза писателей России тех лет он избирался его сопредседателем. Входил в Патриарший совет и стал соучредителем Всемирного Русского народного собора. И в том, и в другом качестве он неизменно выступал со страстными обращениями к мыслящей общественности, к читателям. А ещё – на многих других площадках, где обсуждались больные стороны национальной жизни. Например, перед участниками Всероссийских Рождественских чтений, в программе которых значилось обсуждение школьного и вузовского обучения. Мнение писателя по многим вопросам ощутимо влияло на общественное сознание. Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев не для красного словца заметил, что именно Распутина считают духовным наставником миллионы сограждан. И писатель стал им, – как сказал в одном из выступлений соратник сибиряка, – «не по тиражам, не по газетно-телевизионному шуму, не по скандалам вокруг его имени и произведений, а потому, что перед ним, как ни перед кем другим, открылась душа русского человека. Трепетная, отзывчивая, порывистая, тонкая… Валентин Григорьевич и есть главный „сбережитель“, „сохранитель“ и спаситель этой души. Ибо увидев её усталую, замёрзшую под холодными порывами ветра, пытаясь её спасти, он брал её в свои руки, дышал на неё, отогревал, радовался её оживлению и выпускал к нам, в мир, на волю, как благовещенскую птаху…».








