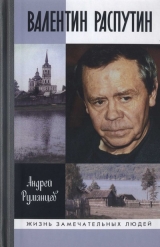
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
«Возьмутся судить. А понять?»
Свои поступки, включая главный – предательство, Андрей Гуськов оценивает трезво и беспощадно. Проверяя вечерами на реке чужие уды и унося с собой добычу, крупных налимов, он так оценивает это воровство:
«Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов».
«Хорошо сказано – „работал“, такую работу Андрей сам раньше называл пакостью».
Чуть ли не при каждой тайной встрече с женой он проклинает себя:
«Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настёна?! – И убрав руки, повернул лицо к Настёне. – Не ходи больше ко мне, не ходи – слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу».
И опять, и опять:
«Думаешь, думаешь до одури, а мысли всё колючие… Жалят, жалят… Думаю: если пойти, сдаться – получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил – прими. Чем на себя руки поднимать – пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже. – Настёна замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой. – Нет, не пойду. Не за себя боюсь – мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зароют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня, – съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты – на ребёнка слава упадёт, век ему маяться с ней. Нет, не пойду…»
Но душевные муки Гуськова хоть заслужены им. Это муки человека, честного перед собой и людьми, но в какую-то минуту давшего себе предательскую поблажку. А Настёна-то чем провинилась, ей-то за что казнь? Если повесть «Последний срок» я назвал гимном матери, то повесть «Живи и помни» можно назвать гимном жене, которая перед Богом, людьми, а прежде всего – перед собой, готова принять и разделить вину, позор и смертную муку своего мужа. Взять равную долю его грехов на себя, не отвергая земной суд, не ища никаких оправданий.
Настёна – человек нерастраченной нежности, но в беде душа её кремнёвая. Проследите, страница за страницей, рассказ о её недолгой жизни. И вы согласитесь: судьба её – чистый, незамутнённый родник, а ложе этого родника – твёрдая порода. Чуть ли не в первую тайную встречу она убеждает Андрея:
«– …Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я – этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была – неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились – зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что считаешь: если б ты пришёл героем, я бы была ни при чём? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала: мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте – вот она я, вот как я отличилася!
– Ты бы уже не поминала такое, не сравнивала…
– А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое – плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что ещё. Ты от моей вины не отказывайся, я её всё равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, всё бросила и уехала с ним неизвестно куда – ты бы одну меня виноватой считал?
– А кого ещё?
– Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, ещё задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чём я говорю? Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда всё хорошо, легко быть вместе, это как сон: знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо, – вот для чего люди сходятся. Я не могла родить – ты меня не выгнал. Ты согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя…
– Плохое плохому рознь, Настёна. Я преступник, против меня сам закон. Зачем ещё и тебе заодно со мной быть преступницей?
– Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошёл. А пошёл – значит, и меня за собой повёл. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной верёвочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придётся плохо, мы сами себя измотаем. – Настёна умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: – Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя…»
Настёна могла бы жаловаться, как тяжело перемогала она три военных года: без единой радости, без малой мужниной ласки, без всякого продыха в ломовой работе. Чем же держалась она, на какую память опиралась? И об этом она сказала словами безгрешными и незаёмными:
«– …И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом всё тише, тише – значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всём солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, – делала, как могла, да и всё, никто не научил, не подсказал. И ты молчал…»
При чтении всё время кажется, что это из-за Настёниных воспоминаний Андрей заново смотрит на годы, проведённые с женой до войны, что это она мягким и тёплым светом преображает всё, что они вместе пережили тогда. И это благодаря ей Гуськов по-новому видит, какое счастье было обещано ему, какой любви лишился он из-за своей измены солдатскому долгу.
И ещё одно, на этот раз не житейское, а словно бы подсказанное свыше осмысление беды, настигшей Настёну и Андрея, приходит при чтении повести. Нет ли в прошлой жизни её героев чего-то, смягчающего их нынешнюю вину, возвышающего их души даже в подсудном положении? Есть. Это родная земля – любимая кормящая мать, это бережное и сладостное единение с ней, и работа, работа, помогающая ей одаривать всех чудесными плодами. В самые тяжкие, почти предсмертные часы Настёна с упоением вспоминает сенокосную страду:
«…всегда в эту пору чувствовала она себя просветлённо и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила ещё до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести её сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда ещё не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; весёлой, зудливой страстью загорается душа – и вот уже идёшь, не помня себя, с игривым подстёгом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаённо-родное…»
И Андрей, выбравшись из своего волчьего логова на поля близь родной деревни, оглядывая их, вдруг ощущает гордость, словно бы стирающую с души нынешнюю вину:
«Он имеет право пройтись здесь хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было засеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга – там, в прежние годы. Он здесь не чужой – нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашёлся и идёт мимо – поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их проносит течение слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для неё он чистый человек».
После этих строк понимаешь признание писателя, высказанное в беседе с корреспондентом «Литературной газеты» в марте 1977 года, – признание, не оправдывающее героя его повести, но подчёркивающее стремление художника к более тонкому пониманию человеческой души. На вопрос: «Когда по прошествии времени вы перечитываете написанное вами, всё ли вас самого устраивает?» – Валентин Григорьевич ответил: «Нет, конечно. Теперь едва ли я стал бы писать в „Живи и помни“ те картины „озверения“ Гуськова, когда он воет волком или когда убивает телёнка – слишком близко, на поверхности по отношению к дезертиру это лежит и опрощает, огрубляет характер».
«Сладко жить, страшно жить, стыдно жить…»
Есть произведения, над которыми думаешь: как же ты сложна, неисповедима, земная жизнь! Точно сказала измученная Настёна: «Нет, сладко жить, страшно жить, стыдно жить»! Жизнь плетёт смертельные петли, но как нарисовать и объяснить её немыслимые извивы писателю? Кто дарует ему способность передать обжигающий накал человеческих чувств, необъяснимую логику поведения героев, наконец, жестокое крушение их судьбы?
Было ясно, что русская классическая литература пополнилась ещё одним, достойным её произведением. Можно называть учителями сибиряка и Фёдора Достоевского, и Ивана Бунина, и Михаила Шолохова, других корифеев родной словесности – и это будет справедливо. Но каждый мастер приходит в литературу со своим постижением жизни, со своим творческим характером, со своим словом. Какое это слово – по точности в передаче психологического состояния героев, чарующей живописности изображаемой природы, богатству смыслов и звуков народного языка – с радостью открываешь на каждой странице повести «Живи и помни». Под пером Распутина трагическая история Андрея и Настёны – это деревенский шитик, подхваченный грозным ангарским течением и летящий на камни смертного переката.
«Настёна просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и всё думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя – эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настёна поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да ещё надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват – кто говорит, что не виноват! – но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?»
А Андрей? Как меняется день ото дня его, волчья теперь, жизнь? Даже вид его жестоко терзает жену:
«Настёна старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась изо всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку она плыла, о нём ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настёна остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев её после фронта: к кому бежал? Ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть – почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится».
Такие строки, как чёрный кружливый омут, втягивают ещё живую, чувствующую радость и боль душу и над бездной шепчущую: не хочу умирать, нет! А беспощадная сила толкает человека в эту смертную темь!
«Андрей откашлялся и продолжал:
– А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришёл. – Он наклонился к Настёне, вплотную приблизив лицо и пуще обычного прищурив, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шёпотом: – А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. – Он выпрямился и качнул рукой вниз. – Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уже по воде. Пропасть, Настёна, не штука, всё равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я ещё пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтоб полегче тебе стало.
– А я и счас не знаю, для кого прибежала, – призналась она.
– На всё плюнь, обо всём забудь – рожай. Ребёнок – всё наше спасенье. Ты тоже в этом деле моём немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь – будет легче. Ребёнок спасёт тебя ото зла. Да разве есть во всём белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребёнком? Нету такой вины, Настёна. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтобы сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придётся ходить по раскалённым углям… вытерпи, Настёна. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь – прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя – всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею.
Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.
– Андрей! Андрей! – испугалась Настёна.
Он невидяще глянул на неё и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настёна тоже не знала, что говорить… Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит всё же не один человек – несколько: вот и тянут в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, ещё говорит, что чужая душа – потёмки, будто хоть немножко знает свою».
И в этой отравляющей душевной сумятице оба, не без потерь, конечно (чего стоит садистское убийство Гуськовым маленького телёнка в окрестностях родного села!), стремятся сохранить в себе понимание добра и зла, правомерность Божьего и людского суда над ними. И тем большее сострадание к ним испытывает писатель, увлекая за собой и нас, читателей. Вот каким был Андрей в последнюю встречу с женой:
«Лаская её и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называл себя дураком, умоляя не сердиться, не верить тому, что нагородил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал её караулить, чтоб просить прощенья, – от всего этого Настёна ещё сильней зашлась, потерялась душой и пообещала:
– Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь – так и знай».
А Настёна, святая душа, за минуту до гибели в водах Ангары, думает о судьбе таких, как она сама: почему счастье отступает от них?
«До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчить затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а лётом убегать от беды?..
Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, – в нём струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким ещё решаться!»
Над этими словами, конечно, прольются слёзы. Но едва ли и те, кто мучительно пережил судьбу героини, тотчас задумаются: в чём тайна прочитанной книги? Почему она, как сама жизнь, нет, жгуче и больнее реальных историй, задевает сердце? Может быть, потому, что человек, ставший свидетелем подлинной истории или узнавший о ней из чужого рассказа, не успевает, а то и не умеет связать в ней причины и следствия, душевные предпосылки и объяснимый конец. Приоткрыть эту завесу, высветить нравственную картину происшедшего, объяснить психологическую подоплёку поведения участников события смог писатель. И его рассказ произвёл неотразимое впечатление на читателя.
На перекрёстке мнений
Уже через месяц-другой после публикации повести «Живи и помни» стали появляться рецензии на неё в газетах и журналах страны. Отзывы напечатали «Литературная Россия», «Дружба народов», «Звезда», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Сибирские огни», «Сибирь»…
В Красноярске, где с особым вниманием следили за новыми произведениями Распутина, считая, что как писатель он родился в городе на Енисее, откликнулись на повесть первыми. Владимир Зыков не только напечатал в местной газете рецензию, но и послал её Валентину и получил от него ответ. Эта переписка интересна, и мы приведём строки из неё.
«Как известно, – напоминал Зыков в своих мемуарах, – повесть была опубликована в журнале „Наш современник“ накануне 30-летия Великой Победы. И встретила глухое молчание. Пресса не знала, как реагировать, как совместить юбилей Победы и злосчастного дезертира. Похоже, что и „власть предержащие“ были в замешательстве, какую отмашку дать своей команде. Но поскольку никаких „руководящих указаний“ на сей счёт не поступило, я, ничтоже сумняшеся, написал рецензию на понравившуюся мне повесть для „Красноярского комсомольца“ и отослал газету в Иркутск. Помню, рецензию я назвал, как и книгу, „Живи и помни“ и в письме запоздало каялся, что лучше бы назвать её „Настёна“: ведь именно Настёна – центр всей повести.
„О Валентине Распутине, – писал я, – в последнее время много говорят и пишут, хотя им самим создано ещё немного. Но, видимо, не по количеству изданных книг определяется подлинное значение писателя. Глубоко современный и в то же время глубоко чуждый поверхностным поделкам на ‘злобу дня’, Распутин берётся за самые коренные, изначальные человеческие проблемы, выбирая сложные, часто трагические, но всегда бесконечно жизненные ситуации. То, о чём он рассказывает тебе, не надо запоминать – оно само западает в душу. Автор словно даёт тебе в руку ниточку, по которой ты вместе с ним входишь в доселе неведомую, но такую близкую для тебя жизнь, как будто всё случившееся с его героями касается лично тебя. И вот уже судьба этих незнакомых людей тревожит тебя, не отпускает душу. Они входят в твою жизнь и остаются в ней. Ты учишься у них жизни, переживаешь за них, чувствуешь себя с ними богаче и крепче на этой земле. А расставаясь с ними, уносишь с собой неназойливый авторский завет: живи и помни. И помнишь их“.
Валентин ответил очень быстро. Вот что он написал мне 26 января 1975 года (даты Валентин ставил обязательно – и одним этим любое сообщение превращалось в документ времени):
„Володя, здравствуй! Рад был получить от тебя письмо, а с газетой – рецензию, первую рецензию на ‘Живи и помни’. Прочитал я её и ещё раз убедился, что самые лучшие и искренние рецензии пишутся не критиками, которые любое человеческое чувство зафразировали до того, что невозможно понять, о чём речь, – а умными и понимающими людьми. Спасибо тебе, Володя, особенное спасибо за Настёну, которую ты совершенно верно понимаешь. Я ведь ради неё и затевал и писал эту вещь“».
По-своему увидел героя повести Андрея Гуськова такой опытный писатель, как Сергей Залыгин:
«Страх смерти – это и есть единственная сила его жизни. Другой у него нет, да и не может быть… даже гибель жены, матери его не родившегося ребёнка… не в состоянии заронить в душе Андрея ни чувства раскаяния, ни жалости, ни самоосуждения, ничего кроме звериного желания жить. Если потребуется – убивать ещё и ещё – отца, мать, односельчан, кого угодно, но существовать».
Ту же дань господствующему взгляду на вольных или невольных дезертиров, как не имеющих оправдания преступников, известный прозаик, думается, отдал и в следующем суждении о жителях деревни Атамановки:
«И то, что дезертир из их же среды, из их деревни, ещё усиливает чувство ненависти к нему».
Интересно мнение Виктора Астафьева о повести «Живи и помни». Выше приводилась его оценка, высказанная в письме сразу после выхода повести. Подробнее писатель-фронтовик высказался в 1978 году – в своём предисловии к изданию повести в «Роман-газете». Вот лишь несколько строк:
«Печальная и яростная повесть, несколько „вкрадчивая“ тихой своей тональностью, как, впрочем, и все другие повести Распутина, и оттого ещё более потрясающая глубокой трагичностью, – живи и помни, человек: в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твоё с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразуменьем ли, оборачивается ещё большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя. Так от изображения, от размышлений о людях маленьких и самых что ни на есть простых автор незаметно, но настойчиво переходит и ведёт за собой читателя к многомерному, масштабному осмыслению не только прошедшей войны, но и современной действительности, ибо человеческое бытие вечно и, стало быть, вечно движение жизни. А она задаёт загадки, пробует на прочность не одних только деревенских парней Гуськовых, она в любой миг любого человека может испытать „на излом“».
Позже, спустя двадцатилетие, когда само время могло подтвердить или оспорить какие-то суждения о повести, изменилось ли мнение Виктора Петровича? Этот вопрос задаёшь себе, читая статью Астафьева, посвящённую шестидесятилетию младшего собрата по перу и опубликованную в журнале «День и ночь».
Прежнюю свою оценку повести Виктор Петрович не пересматривает. Он касается новой стороны описанной Распутиным трагедии, расширяет её нравственный смысл. Критика семидесятых годов почти единодушно осуждала и клеймила дезертира Гуськова, она словно бы не слышала многократно высказанных Распутиным слов:
«Я тоже не оправдываю Андрея Гуськова, но я всё-таки пытаюсь понять его <…>…я не старался навязывать читателю авторскую точку зрения. Пусть читатель сам проделает мыслительную работу и придёт к выводу, к которому его подталкивает логика событий и характеров».
Вот к этой душевной работе и подталкивает читателя Виктор Петрович, делясь с ним пережитым на фронте:
«Когда-то я писал предисловие в „Роман-газету“ к этой повести и изо всех сил старался подстроиться к хору критиков, не повредить повести и автору, городил что-то насчёт верности Родине и долгу, осуждал отступничество, отдавал должное страданию и величию русской женщины. И в повести всё это было и есть, но мне-то хотелось заглянуть и за борт её, подумать и потолковать о том, о чём и сам автор, быть может, не подозревает, что почувствовал, нащупал интуитивно. А „нащупал“ он ту грандиозность трагедии, по сравнению с которой история мадам Бовари или Анны Карениной – бумажные игрушки, и бабёшки эти с жиру бесятся, и страдания их той же Настёне покажутся блажью иль порчей, на самих себя напущенной… <…>
Обжившись в своей части, в своём взводе, мы, бойцы, сами или командиры наши давали человеку поспать, умыться, выжарить вшей – и снова годились в работу, снова готовы были исполнять боевые обязанности. И дай тому же Гуськову краткосрочный отпуск – повидаться с родными, повстречаться с женой, помыться в бане, поуспокоить плоть и выспаться, так он, всё умеющий, здоровый мужик, исполнил бы свои обязанности с удесятерённой силой, любил бы жену, родителей, дом родной ещё крепче. Но это невозможно было сделать. Мы, русский народ, исправляя ошибки вождей и полководцев наших, должны были воевать до полного изнурения, тащить послевоенный воз до предельного истощения…»
Оригинальное суждение высказал о повести критик Владимир Турбин. Мы упоминали его мнение о первой книге рассказов Валентина Распутина. На этот раз он словно бы продолжил тот разговор с читателями: вы видите, что мой прогноз оправдался: перед нами – большой мастер! «Теперь и удивительно даже, как же мы жили без него?» – в простодушном порыве написал критик.
В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится чистовой автограф статьи Турбина о повести «Живи и помни». Называется статья необычно «Так кто же последний?». Приводим цитату по этому экземпляру, в нём нет редакторских правок.
«Специфически распутинское художественное свойство начинается, пожалуй, с того, что в течение многомерной и таинственной жизни неизменно выделяется что-то, кто-то, оказавшийся… последним в её кружениях, сплетениях и узлах. Последние месяцы, недели, дни, часы деревни Матёры. Последняя надежда человека: последнею попыткой мужа раздобыть деньги для угодившей в беду жены-продавщицы кончается повесть „Деньги для Марии“. И в повести „Живи и помни“ последняя пора войны, её срез, её окончание; а в окончании её – последние дни для человека, поставившего себя куда-то в последний ряд тех, кто делал, исполнял работу победы. Вдумаемся, что же стоит за влечением художника к чему-то замыкающему видимое нами бытие, к последней, что ли, букве алфавита. А стоит за ним большая традиция.
Например, „Борис Годунов“. „Последнего человечишку“ поэт уравнял с первым – с царём. Последние у Гоголя, у Достоевского, у Горького… Сумасшедший чиновник – у первого, князь-„идиот“ или новорождённый младенец в „Бесах“ – у второго. Новорождённый – он тоже последний в обществе: и неразумен, и беспомощен, да и по времени – последний. Как ему, последнему, жить?
И – Распутин, „Живи и помни“: дезертир последнего года войны Андрей Гуськов, и последнее прибежище его, и последние встречи с женой, с Настей, с Настёной. Он готовил себя к тому, что идёт по последнему кругу… „Он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето… Он наметил для себя последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования“. В этом нагнетании слов, понятий „последний“, „последнее“ – глас, голос традиции, ведущей Распутина к равноправному диалогу с 19 веком: похоронно тянутся последние дни человека, оказавшегося последним в государственной жизни, ибо если первые люди войны – полководцы, герои, то последние – дезертиры.
Распутин написал о войне и, казалось бы, о ней только. Но проблема-то шире, сегодняшнее. Кто последний? И как ощущает себя последний? Как быть с ним?
И лишь одно слово в мире, которому лучше бы побольше молчать, надо, необходимо найти в себе силы и высказать, и произнести: покаянное слово. Покаяние есть спасение для последних.
Андрей никуда не уходит. Но с каждым днём уходит он гораздо дальше, чем в Заполярье; он уходит в себя. И он пропадает: в конце-то концов, он же и Настёну свою погубил. И нерождённого сына. Тем погубил, что не сделал последнего шага: не вышел из пещеры своей, чтобы родиться заново, – выйти покаяться. Выйти на казнь, может быть. На позор. Но и на рождение новое выйти: душу свою спасти, жену спасти, сына.
Что делаешь, делай скорее, и даже оказавшись последним, спасёшься.
Спеши.
Спеши сына подарить миру. Спеши покаяться, если что. И тогда не будет, не будет тебе страшен вопрос: „Кто последний?!“
Ибо последние – те, кто побоялся раскаяться: неприкаянные они…»
Повести сибиряка, в том числе «Живи и помни», вызвали волну откликов за рубежом. Французский критик Клод Фриу писал в журнале «Революсьон»:
«Распутин, один из наиболее значительных современных русских писателей, создаёт в своих шедеврах хронику человеческой жизни, раскрывает её высокий смысл и духовность. „Последний срок“ и „Живи и помни“ – это две грандиозные поэмы любви и смерти, одиночества среди людей, где образ дезертира, безусловно, самый волнующий».
С последним утверждением можно, конечно, поспорить: почему образ Гуськова – «самый волнующий»? А драма Настёны, потрясающая своей жестокостью, – менее волнующа? Впрочем, каждый человек имеет право на личное восприятие.
Меня, к примеру, одинаково ранит трагедия обоих героев. Читатели заглянули в такие глубины человеческих душ, которые мог открыть только отважный поводырь. Писатель словно бы прошёл вместе со своими героями их страшный путь и не утаил от нас ничего из их нравственных мук. Он пояснял в одной из своих бесед с журналистом:
«…о Настёне. Читатель был готов к ситуации, когда она или сама выдаст своего мужа, или заставит его прийти с повинной. Но Настёна не делает ни того, ни другого. И я должен был это доказать – и доказать так, чтобы у читателя было полное основание поверить в необходимость и правомерность её поступков. Если бы она поступила по-иному, это уже была бы другая повесть, которую должен был бы написать другой автор. А мне кажется, что я сумел доказать естественность поступков Настёны. Если бы Гуськов сам пошёл и признался в содеянном, была бы одна расплата, а то, что он губит ближних своих, – расплата другая, и, на мой взгляд, гораздо более суровая».








