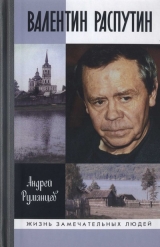
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
И редкие встречи – памятны
Ну а какое впечатление оставил Валентин Григорьевич у тех, кто имел с ним редкие, а то и единичные встречи?
Прозаик Владимир Карпов рассказывает:
«Мне говорили, что Распутин предисловий не пишет. Но я к нему обратился. И он взялся. Принёс ему рукопись на квартиру в Старо-Конюшенном переулке… Он сказал мне, что в день способен только один час или читать, или писать: что-нибудь одно. Я уж, было, обратно рукопись взять, но – это же Распутин! „Нет, нет, Володя, я напишу“. „А куда подевалось в России родство?“ – называлась его статья о моей книге „Можно ли Россию пешком обойти?..“.
Меня пригласили в Иркутск на литературные встречи „Этим летом в Иркутске“. Не ради бахвальства хочу сказать – хотя здоровый человек не может в данном случае не гордиться. Выхожу на сцену Иркутского академического театра, полон зал (таков исторически Иркутск), и на пятом-шестом ряду вижу Валентина Григорьевича с чу́дной его женой Светланой. Светлана была – воистину женщина-свет! Красива, улыбчива, скромна до невероятного! Пара! Иркутское издательство „Сапронов“ выпустило маленькую книжку моих рассказов. Она там же, в театре, продавалась. И после встречи на сцене выстроилась очередь людей с книжками, чтобы автор оставил свой автограф. Я сижу, пишу пожелания, голову поднимаю – ба, Распутин в очереди с моей книжкой стоит! „Валентин Григорьевич, да вы что, я бы сам вам подписал и принёс авторский экземпляр!..“ – „Ну, зачем же, Володя, я купил…“ Плакать, братцы, охота – слеза просится… Такие люди разве возможны?»
Оценил Владимир Карпов и юмор Распутина:
«…мы сидели в кабинете директора театра (Иркутского драматического. – А. Р.) Анатолия Стрельцова – красивого человека с безупречными манерами, чувством такта, идеального соответствия в одежде. Стрельцов вдруг задумчиво и размеренно повёл рассказ: „Вчера посмотрел на карту мира…“ И мгновенно, не меняясь в лице, Распутин добавил: „Не понравилась“.
Это было очень смешно: не понравилась карта мира! Но ещё и лицо Валентина Григорьевича: абсолютно отстранённое. Он, вроде, здесь, и его нет».
Поэтесса Елена Родченкова в девяностых годах оказалась с Распутиным в одной группе, совершавшей поездку в Китай. Она увидела писателя впервые, так сказать, «вблизи». В своих путевых заметках Родченкова написала:
«Китайцы более 20 лет переводят Распутина. На встрече со студентами Шанхайского университета студенты-русисты устроили настоящий праздничный концерт с русскими песнями и танцами, читали на русском и китайском стихи классиков, отрывки из прозы Распутина.
Валентин Григорьевич – удивительный человек. Он почти всегда молчит, а когда выступает, говорит сложно, но очень мудро, красиво. Фразы его похожи на тонкие деревца с пышными кронами, в которых трудно пересчитать и перечислить все веточки и листики нашему переводчику Андрею. Смуглые щёки Андрея становятся пунцовыми, он переводит эмоционально, старательно, и картина получается необыкновенная: сдержанный голос Распутина и восторженный, энергичный, заряженный открывшимися с ходу истинами перевод Андрея…
Едем с Русского кладбища в Харбине. Нас обещали завезти на шёлковую фабрику. Все под впечатлением посещения погоста: русские имена и фамилии, человеческие судьбы, закрытая православная часовня…
Садимся в автобус. Все молчат. Трудно. Единственным лекарством может стать покупка шёлковых кофточек и шарфов.
– Теперь мы едем на шёлковую фабрику? – спрашиваю я и слышу от Валентина Григорьевича:
– Нет.
– Не едем?
– Нет, конечно. После кладбища как можно думать о мирском, о покупках и развлечениях?
– А тогда не пойдём и на банкет! Зачем мы будем на банкетах думать о мирском? – слёзы навернулись на мои глаза.
Валентин Григорьевич понял, что я ослабла духом в этой трудной поездке, оборачивается через плечо и улыбается тихо:
– Лена, я валяю дурака…»
Тут к месту будет привести рассказ зарубежной знакомой Распутина, как раз китаянки, доктора наук Ван Лидань. Свою докторскую диссертацию она посвятила творчеству Валентина Распутина. Об интересе к его книгам, а затем и о своём общении с ним Ван Лидань написала с особой душевностью:
«Моё заочное знакомство с писателем началось очень давно, ещё в студенческие годы. Тогда в учебнике для китайских студентов была помещена повесть Распутина „Деньги для Марии“, которая сразу же меня заинтересовала. Такой простой, но необыкновенно притягательный язык, такой волнующий сюжет, такая грустная история, полная теплоты и нежности. После этого я нашла и прочитала все произведения писателя и поняла, что его книги можно перечитывать всю жизнь.
Но если до личной встречи с ним сильное впечатление на меня произвели его произведения и неповторимые образы персонажей, то после знакомства к этому добавились тихий, сдержанный голос, грустные глаза, в которых запечатлелась человеческая и художническая мудрость, и спокойные шаги писателя. Не знаю, почему мне думается, что именно такая внешность отражает неизъяснимую внутреннюю силу этого человека, надёжность и благородство его духа.
Я познакомилась с ним в Москве в 2004 году. Я тогда проходила стажировку в МГУ и собирала материалы для монографии. Мне дали телефон, и я ему позвонила. На мою просьбу о встрече он сказал, что надо подумать, а на другой день позвонил сам и пригласил приехать в гости, если есть необходимость в личной встрече.
Конечно же, такая необходимость была! Валентин Григорьевич ждал меня у метро „Кропоткинская“. Мы встретились, как будто давно были знакомы. У меня почему-то не было никакой неловкости при общении с великим русским писателем, а что он великий писатель, я понимала давно.
Мы сидели у него дома, говорили о культуре, о литературе, русской и китайской. Тогда я как раз читала его последнюю повесть „Дочь Ивана, мать Ивана“. Повесть получила китайскую премию в номинации „Лучшая зарубежная книга 21 века“ (2005 г.), и уже было принято решение перевести её на китайский язык.
Второй раз, когда мы виделись с Распутиным, – это март 2005 года. Писатель мне позвонил и сообщил, что уезжает в Иркутск, и при встрече подарил мне картину в каменной рамке. На картине была его родина – Сибирь, Ангара и берёзы. Я тогда чуть не заплакала от этой его щедрости и внимания, и потому, что не знала, придётся ли ещё мне увидеть этого человека…
В 2005 году, получив государственный грант, мы приступили к созданию монографии о писателе, которая вышла в свет в 2009 году.
Я передала ему книгу в Иркутске. И в том же году мы хотели пригласить его к нам, в Далянь. Но прилететь он не смог, потому что сам был не совсем здоров и очень болела его жена Светлана Ивановна».
За строками писем
Много интересного о характере Распутина, его каждодневных раздумьях и переживаниях, литературных пристрастиях и житейских привычках можно узнать из его писем, которые есть в нашем распоряжении. У него, человека деревенского и вроде бы не обученного «тонким манерам», были черты врождённого благородства, что читатель, несомненно, отметит, хотя речь в них чаще идёт, казалось бы, о событиях бытовых или творческих – важных только для писателя и его адресата.
10 августа 1979 года Валентин Григорьевич писал В. Крупину:
«Дорогой Володя!
Я ждал, что ты напишешь после Алтая[16]16
Летом 1979 года на Алтае состоялись Дни русской литературы, посвящённые пятидесятилетию со дня рождения В. М. Шукшина. Распутин не смог поехать на это торжество, потому что как раз в это время обустраивал новую квартиру.
[Закрыть], что и как там было, но тебе, наверное, не до того.
Обидно, что не смог ты приехать[17]17
В. Крупин должен был заехать по пути с Алтая в Иркутск.
[Закрыть], очень обидно. А я уж растрезвонил тут, что будешь обязательно, и ждали тебя многие, а пуще всего, конечно, Глеб[18]18
Прозаик Глеб Пакулов.
[Закрыть], который при его нетерпении и безудержной фантазии сочинял, что ты уже приехал и живёшь у него на Байкале, а пойманный на этом вранье, сваливал на меня, что это я виноват – плохо приглашал.
Может, как-нибудь по осени теперь? Я уж боюсь больше и загадывать. В этот раз как нарочно сошлось одно к одному, чтоб и мне на Алтай не попасть, и тебе дальше не двинуться. Как судьба… А я приготовился что-то сказать вслух – да не только вслух, просто нужда большая была поговорить всем вместе – Белову, Астафьеву, тебе, мне. И по поводу Поля Куликова тоже[19]19
В связи с предстоящим 600-летием со дня Куликовской битвы писатели решили подготовить письмо в государственные и общественные организации с предложением обустроить Куликово поле и достойно провести юбилей этого великого события в русской истории.
[Закрыть]. Говорил ли ты об этом с ними? В любом случае – куда бы ты ни дал письмо о Поле и как бы оно ни выглядело, в большом или малом тексте, подпись мою можешь ставить без всякого сомнения. Дело это святое, и заниматься, наверное, надо было им ещё раньше.
А я сижу у моря… сижу в городе ничего не делая и жду квартиру. И уехать никуда нельзя, и не подвигается ничего от сидения. Вот-вот, говорят, вот-вот… а без толку. Квартира не в новом доме, сейчас там четыре семьи, которых расселяют, а расселяются они с трудом: то в принятых уже домах, как это водится, чего-то нет, то семья начинает требовать большего, чем в начале, то ещё что-нибудь.
Сходил, правда, дважды за ягодой, набрал смородины, черники и жимолости, сам опять варил и толок на Байкале, а теперь и сходить больше нельзя. А хуже всего – не получается пока съездить к матери. И сам извёлся, и она заждалась.
Где теперь твои? Вернулись ли? Приветы. Черкни чуть-чуть, как найдётся время.
Обнимаю
В. Распутин».
В одном из московских издательств Распутин познакомился с Никой Николаевной Глен, переводчицей с болгарского языка. Как это часто бывает в писательской среде, она загорелась желанием «открыть» знаменитому прозаику мир болгарской литературы, близкой нам, и начала, конечно, с книги, к которой сама приложила руку. В СССР вышел в её переводе сборник Й. Радичкова. Его Н. Глен послала в Иркутск и получила ответ:
«10 февраля 1980 г. Иркутск.
Дорогая Нина Николаевна![20]20
Распутин неверно назвал имя переводчицы: Нина вместо Ника. Забавно, что в конце письма он просит прощения, «ежели всё-таки сбился».
[Закрыть]
Сердечное спасибо Вам за книгу Йордана Радичкова, а более того спасибо за память, настолько ныне редкое качество, что, когда встречаешься с ним, когда обещанное, спустя какое-то время, всё-таки делают и слово держат, то впору плакать от умиления и благодарности.
Я успел пока прочесть у Радичкова только две вещи – „Последнее лето“ и „Воспоминания о лошадях“, но и по ним видно, насколько это серьёзный и добрый писатель. У меня, признаться, было поначалу нечто вроде сопротивления манере его письма, которая у нас принята мало и к которой мы не привыкли, но скоро оно, сопротивление это, прошло и письмо его полностью убедило меня.
Ещё раз спасибо Вам.
Надеюсь, я не напутал ничего с Вашим именем-отчеством. Помнится, так. А ежели всё-таки сбился – простите великодушно.
Доброго Вам нового года, который, будем надеяться, попугает-попугает нас да и успокоится.
Сердечно
В. Распутин».
В Российском государственном архиве литературы и искусства хранятся два непубликовавшихся письма Валентина Григорьевича главному редактору журнала «Дружба народов» Сергею Баруздину. Это ответы сибиряка на просьбу Сергея Алексеевича. Послания Баруздина в архиве нет, но мне легко догадаться, о чём шла речь. В начале восьмидесятых годов одинаковые письма за подписью Баруздина получили многие литераторы страны. У меня сохранилось его письмо:
«Обращаюсь к Вам с большой просьбой. Подошлите мне, пожалуйста, в редакцию одну-две книги своих с автографами для нашего подшефного Нурека[21]21
То есть для строителей Нурекской ГЭС в Средней Азии.
[Закрыть]: „Интернациональной библиотеке ‘ДН’ в славном Нуреке от автора…“ и т. д. Хорошо?
О нашей уникальной коллекции книг с автографами в Нуреке, которая насчитывает сейчас уже более 13 500 томов, Вы, видимо, наслышаны. О ней много пишут и говорят. По мнению специалистов ЮНЕСКО, она не имеет себе равных в мире.
Итак, дело за Вами!
Жду!
Всего Вам самого-самого доброго!
Искренне Ваш Сергей Баруздин».
Распутин ответил редактору журнала 18 июня 1980 года:
«Дорогой Сергей Алексеевич!
Я получил оба Ваши письма – и в Иркутск, и в Новосибирск – и только от Вас узнал, что я переехал в Новосибирск.
До сих пор даже и в мыслях этого не было.
Книжку я, конечно же, пришлю с радостью, но позднее, потому что она ещё до Иркутска почему-то не дошла. Только что звонил и справлялся – говорят, нет. Как только будет, сразу вышлю.
С книжкой проще. Что касается второй Вашей несколько зашифрованной просьбы[22]22
Вероятно, С. Баруздин просил Распутина прислать для публикации в журнале новое произведение.
[Закрыть] – надеюсь когда-нибудь выполнить и её, но, к сожалению, не скоро. Пока же ничего за душой нет.
Пользуясь случаем, без лести скажу, что Ваш журнал сейчас – лучший, по моему мнению.
Доброго Вам здоровья!
С поклоном В. Распутин».
А через двадцать дней, не забыв в круговерти дел просьбу Баруздина, Валентин Григорьевич сообщает ему:
«Уважаемый Сергей Алексеевич!
Книжка нынешнего издания так и не дошла до Иркутска и, возможно, не дойдёт. Поэтому посылаю ту же самую книжку, но первого и, на мой взгляд, лучшего издания.
Всего Вам самого доброго!
С поклоном В. Распутин».
Его не слушали – ему внимали
Осмелюсь и я сказать несколько слов о Распутине после полувекового общения с ним.
Мне не раз приходилось присутствовать на многолюдных сборах людей умных, знающих жизнь основательно, понимающих искусство и давно служащих ему. Такое собрание не удивишь; имя очередного оратора, часто знаменитого, оно воспринимает спокойно, без видимого проявления чувств. Но стоит объявить Распутина, стоит ему, устраиваясь за кафедрой, только-только произнести первое слово – публика уже натянулась, как струна; все замерли, насторожились, приготовились не слушать, а внимать, ибо произнесено будет что-то особенное, важное, чуть ли не пророческое.
В повести «Пожар» есть одно примечательное место. Герой её, Иван Петрович, который, по признанию писателя, имел своего прототипа, односельчанина Ивана Егоровича Слободчикова, пересматривает свою жизнь. Перед собой он честен, поэтому и оценки его предельно честны. И каковы же они?
«Когда нужно было говорить правду, он говорил; когда требовалось дело – делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда – это река, ложе которой выстелено твёрдым камнем и берега которой в песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремлённой вперёд водой, а не подпёртая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хлябкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни указом поправить её нельзя…»
В случае с Валентином Распутиным правда тоже проистекала из самой его природы, и никогда, ни в общественных, ни в житейских поступках, он «не сворачивал с правды и дела».
Наверное, этим качеством и определяется удивительная цельность его творчества. Все его повести, рассказы, очерки, заметки по поводу и представления чужих книг – всё основано на крепчайшем, нерушимом фундаменте, сцементировавшем веру, трудолюбие и терпение народа. О Распутине можно сказать, что в многоликой и многопутной отечественной и мировой литературе он проложил глубокую, видную отовсюду писательскую тропу, каждый раз не теряя свои следы и заботясь, чтобы «нигде и ни в чём они, эти следы, не отвернули от родного».
У философа начала XX века Ивана Ильина, которого нередко цитировал сибиряк, есть суждение о Пушкине. Оно, пожалуй, очень точно объясняет сущность и Валентина Распутина как художника: «Пушкин, как никто до него, видел Россию до глубины. Он видел её по-русски. А видеть по-русски – значит видеть сердцем. И он сам знал это; потому и написал: „Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви“».
Глава десятая
И ОТЗЫВАЕТСЯ В СЕРДЦЕ: «МАТЁРА!»
Могут ли святыни уйти в небытие?
Прошло только два года после публикации повести «Живи и помни», а в журнале «Наш современник» (1976, № 10) появилось новое произведение писателя «Прощание с Матёрой». И снова – трагедия, история беды, которая имеет не национальные, и тем более не местные, а планетарные истоки и последствия.
Сам Валентин Григорьевич в беседе со мной обронил:
«Если говорить о повести „Прощание с Матёрой“, она мне далась легче. То, что происходило на Ангаре во время строительства электростанций, я видел воочию, это надо было только осмыслить. Моя деревня тоже испытала переселение – трагедию, которая, в сущности, стала знаком времени. Это действительно трагедия: уходят в небытие родные могилы, вся прежняя жизнь, не один пласт, на котором стояла деревня, а все ценности и святыни, которые она нажила. Об этом надо было написать, окунувшись в глубины народной беды. Возможно, что-то не удалось. Может быть, оказалось не по силам, а может быть, я считал тогда, что написать нужно именно так».
Но, как и предыдущие сочинения прозаика, повесть эта – о глубинной русской жизни, о том национальном характере, который сложился за века и продолжает удивлять мир. Кажется, что автор не искал для своего произведения каких-то особых героев, он просто вошёл в первый, и второй, и третий дом родной деревни и рассказал о том, что увидел во время трагического разора – не случайного, не природного, а подготовленного и осуществлённого людьми. Предчувствие беды, её наступление и, наконец, её последствия – это фон, на котором и оказались высвечены русская душа и русский характер.
В Матёре, деревне, обречённой на гибель и уже теперь безжалостно уничтожаемой, одна из жительниц, старуха Дарья, не может успокоиться после варварского разрушения кладбища. Заглянувшему к ней ровеснику, Богодулу, она говорит не о чём-то житейском, а о… совести.
«Раньше её видать было: то ли она есть, то ли нету. Кто с ей – совестливый, кто без её – бессовестный. Теперь холера разберёт, всё сошлось в одну кучу – что одно, что другое. Поминают её без пути на кажном слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же – вот и истончили её, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что железная, ничем её не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на неё не смотрит. Ой, Господи! Чё про совесть, ежли этакое творится!»
И Дарья, и её деревенские подруги, старухи Настасья и Катерина, оценивают любое событие последних дней и часов перед переселением, поведение каждого человека, местного и пришлого, даже свои воспоминания сквозь призму укоренившихся в их жизни понятий, нравственных правил. И всякий раз оказывается, что эти понятия и правила есть главные заповеди, на которых и держится народная жизнь.
Расставаясь с внуком, раньше других покидающим Матёру, Дарья с болью чувствует его душевную отъединённость с деревней, в которой он вырос:
«Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе, не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она всё-таки проводила. Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для неё подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошёлся по Матёре, не погоревал тайком, что больше её никогда не увидит, не подвинул душу… ну, есть же всё-таки, к чему её в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завёл мотор».
Удержать в себе человека
И может быть, главные слова произносит старая Дарья в разговоре с внуком, парнем «продвинутым» и «современным»:
«– Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко. Помнишь, ты говорила?
– Помню. Как не помню.
– Почему тебе его жалко?.. Ты говорила: маленький он, человек. Слабый, значит, бессильный, или что?..
– А чё, не маленький, ли чё ли? – спросила она, втягивая себя постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать. – Не прибыл, поди-ка. Какой был, такой и есть… А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он её раскипятил. Ну дак сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук её упустил. Она над им верх взяла, она с его требует, чё хочет, погоном его погоняет. Он только успевай поворачиваться. Ему бы попридержать её, помешкать, оглядеться округ себя, чё ишо осталось, а чё уж ветром унесло… Не-ет, он тошней того – ну понужать, ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился уж – чё там!
– Как это он, интересно, надсадится, если есть машины?..
– Я знаю, про чё говорю… Я про тебя, про вас толкую тебе… Пуп вы щас не надрываете – чё говорить! Его-то вы берегёте. А что душу свою потратили – вам и дела нету. Ты хоть слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?
Андрей улыбнулся:
– Есть, говорят, такая.
– Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать, ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и Бог, парень. И хошь не верь – изверься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того – человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался. Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На чё угодно такой пойдёт, не оглянется. Ну дак без её-то легче. Налегке устремились. Чё хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на их работаете – не вижу я, ли чё ли! А на их мно-ого чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки…
И в ранешнее время робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас всё бегом. И на работу, и за стол – никуды время нету. Это чё на белом свете деется! Ребетёнка и того бегом рожают. А он, ребетёнок, не успел родиться, ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што он такой годится?
– Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом… Живём, и всё. Кто как может, так и живёт…
– Живите… Она, жисть ваша, ишь какие подати берёт: Матёру ей подавай, оголодала она. Однуё бы только Матёру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильнее того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы её из вожжей отпустили, теперь её не остановишь. Пеняйте на себя.
– Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе человека жалко?
– Путаник он несусветный, человек твой. Других путает – ладно, с его спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево… Это ж надо так не держать себя, под угон пустить. Живёшь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не подумать, какая об тебе останется память. А память, она всё-о помнит, всё держит, ни одной крупинки не обронит…
Ить ничё не стоит сделать как надо – нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ хлестался, есть Бог али нету. Прости, Господи милосливый, прости меня, грешную, – перекрестилась она в дверь, мимо Андрея. – Я чё?! Не мне людей судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу, Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матёру топить? Понимают оне, а всё ж таки топют.
– Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.
– А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матёру – ежли вы всё можете, ежли вы всяких машин понаделали… Срежьте её и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому лишней не дал. А вам она лишняя стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут».
Оттого и разрывается сердце у Дарьи, у других старух, что Матёру-то, по сути, предают люди близкие, родные или земляки, тоже не посторонние. Явно не согласен с бабушкой внук Андрей; собственными руками поджигает отчий дом спившийся сын бабки Катерины Петруха; ждёт не дождётся переезда из опостылевшей Матёры разбитная бабёнка Клавка Стригунова. Да и сын Дарьи Павел, и сноха Соня, и глава трудолюбивого семейства Афанасий Кошкин, и работящая мать-одиночка с детьми Вера Носарева не прочь начать новую жизнь в рабочем посёлке, где и удобств больше, и общество многолюднее. Первым бесполезно толковать о том, что всяк из живущих отвечает за судьбу родного гнезда, а вторые хоть и согласны с наставлениями старух, но не хотят упустить новых выгод. К тем и к этим с неутихающей мукой обращается Дарья на последнем общем сборе:
«…C тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков: каких они нынче любят баб – полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший, весёлый разговор поневоле померк, мало-помалу перешёл опять всё к тому же – к Матёре, к её судьбе и судьбе матёринцев. Дарья, как обычно, решительно и безнадёжно махнула рукой:
– A-а, ничё не жалко стало…
– Жалко-то, поди, как не жалко… – начал Афанасий и умолк: сказать было нечего.
– Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету, – отстав от Андрея, вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли её. – Нашли над чем плакать! И плачут, и плачут… Да она вся назьмом провоняла, Матёра ваша! Дыхнуть нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы все как жуки навозные, за старую хватаетесь, всё какую-то сладость в ей роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матёру и по Ангаре отправить.
Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям.
– Хошь по-старому, хоть по-новому, а всё без хлеба не прожить.
– Без хлеба, чё ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.
– Покеда не сидим…
– Ну горлодёрка ты, Клавка! – вступила, опомнившись, Дарья. – Ну горлодёрка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матёре таких раньче не было.
– Раньче не было, теперь есть.
– Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как это вы нарозь по сю пору живёте? Он такой же. Два сапога – пара.
– Нужон он мне как собаке пятая нога, – дёрнулась Клавка.
– А ты ему дак прямо сильно нужна, – обиделась, в свою очередь, Катерина.
– Вам чё тут жалеть, об чём плакать? – наступала Дарья. Она одна, как за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и волнения дёргалась головой вперёд, точно клевала, синенький выцветший платок сползал на лоб. – У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матёра, что холера… Тут не приросли и нигде не прирастёте, ничё вам не жалко будет. Такие уж вы есть… обсевки.
Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:
– Тётка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житьё по себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идёт… почему вы ничё не видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матёре, мне посёлок на том берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и посёлка мало. Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту деревню?
Андрей замялся.
– Говори, говори, не отлынивай, – настаивала Клавка.
– Жалко, – сказал Андрей.
– За что тебе её жалко-то?
– Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.
– Вот ребёночек! Чё тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться – как же! Это ты говоришь – бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.
– Почему…
– Потому. Меня не проведёшь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тётка Дарья, я тебе всю правду… Ты тоже не любишь её прятать.
Но Дарья и не собиралась обижаться.
– Я, девка, и об етом думала, – призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю. – Надумь другой раз возьмёт, дак всё переберёшь. Ну ладно, думаю, пущай я такая… А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит – кто до нас был и кто после нас придёт. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты её, как туё кобылу, что на семерых братов пахала… ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвёл. Она не твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали… чтоб обихаживали мы её с пользой и от её кормились. А вы чё с ей сотворили? Вам её старшие поручили, чтоб вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать – поглянется. Мы-то однова живём, да мы-то кто?
– Человек – царь природы, – подсказал Андрей.
– Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет».
Дарья и на кладбище, припав к могилкам родителей, продолжает этот надрывный разговор – то ли с отцом-матерью, то ли с неразумными Клавками, то ли с собою:
«… – Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила… я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь чё? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моём, не на чьём веку отрубит наш род и унесёт. Ой, унесёт, унесёт…»








