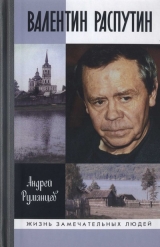
Текст книги "Валентин Распутин"
Автор книги: Андрей Румянцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
Дорога из века в век
Впечатляющим повествованием в книге о Сибири стал очерк Распутина «Транссиб», рассказывающий о строительстве великого стального пути от Центральной России до Тихого океана. Необходимость такого пути назревала несколько десятилетий во второй половине XIX века. Эту насущную необходимость осознавали все государственные мужи страны от губернаторов восточных краёв до императоров. Александр III наложил на одном из докладов такую «покаянную» резолюцию: «Уже сколько отчётов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора».
Великая держава, простиравшаяся от польских земель до японских островов, как бескрылая птица, замерла, не в состоянии проявить свою могучую небесную силу. Распутин приводит суждение философа Ивана Ильина, ярко показывающее тогдашний вызов истории, предъявляемый России:
«Первое наше бремя есть бремя земли – необъятного, непокорного, разбегающегося пространства: шестая часть суши в едином великом куске; три с половиною Китая; сорок четыре германских империи. Не мы „взяли“ это пространство – равнинное, открытое, беззащитное: оно само навязалось нам, оно заставило нас овладеть им, из века в век насылая на нас вторгающиеся отовсюду орды кочевников и армии оседлых соседей. Россия имела только два пути: или стереться и не быть, или замирить свои необозримые окраины оружием и государственною властью… Россия подъяла это бремя и понесла его; и осуществила единственное в мире явление».
Но легко сказать: «замирить сибирские окраины оружием и государственной властью». А как обеспечить Сибири экономическое развитие, «приблизить» её к России при полном бездорожье? Ответ один: только проложив через тысячевёрстные пространства стальные пути.
«8 июня 1887 года, – воспроизводит Распутин хронологию сооружения дороги, – по распоряжению императора состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Уже через три месяца начались изыскательские работы по трассе от Оби до Приамурья…
17 марта 1891 года последовал, как тогда выражались, с высоты престола рескрипт на имя наследного цесаревича Николая Александровича, прибывающего во Владивосток после морского путешествия по восточным странам. В рескрипте торжественно провозглашалось:
„Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей <целью> соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлению вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешённого к сооружению, за счёт казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути“.
19 марта цесаревич Николай Александрович отвёз первую тачку земли на полотно будущей дороги и заложил первый камень в здание Владивостокского железнодорожного вокзала».
А как восприняли необычайный проект России за рубежом?
«Известие о начале строительства сквозной железной магистрали через Сибирь громогласно прозвучало по всему миру. Наше внутреннее дело вести по своей территории дорогу затрагивало интересы многих держав. Никто не желал усиления России; втуне лежащая земля, пустынная и непроходимая, недоступность природных богатств, связанная по рукам и ногам инициатива сибирского общества как нельзя более устраивали всех, кто торопливо заканчивал разделение мира на сферы влияния и не хотел лишнего соперничества. Интересы Англии, как морской державы и одной из победительниц в Севастопольской кампании, страдали оттого, что неостановимым делалось продвижение России к Мировому океану, и результаты Крымской войны уже не в состоянии были этому помешать. Япония считала Японское море, а также Корею и Китай сферой своих интересов, и вплотную приблизившаяся к ним Россия вызывала у островной страны крайнее раздражение. Подле Китая „паслись“, кроме того, пользуясь его слабостью, и Германия, и Франция, и Америка. В Америке, где от океана к океану проложены были к этому времени уже четыре железнодорожных магистрали, с восхищением отзывались о „фантастическом“, как повторялось там, проекте Транссиба, американцы, как народ предприимчивый и авантюрный, не могли сдержать восторга перед грандиозной задачей, однако политиков США не могла не тревожить Россия, в которой кровь начинает пульсировать по всему её богатырскому телу. Японская война, а затем и послереволюционные события (после 1917 года) подтвердили эту общую нелюбовь к России и желание поживиться её лакомыми кусками на севере и востоке».
Но хищные аппетиты держав, привыкших властвовать в мире, только укрепляли желание России осуществить свой проект. В 1893 году был учреждён Комитет Сибирской дороги: огромная стройка требовала единой твёрдой воли, быстрых и чётких решений. Председателем Комитета стал наследник трона, а среди членов этого «штаба» выделялся горячей приверженностью к великому замыслу и большой энергией в его осуществлении министр финансов Сергей Витте.
Писатель приводит ключевое, показательное во всех смыслах решение Комитета:
«…довести до конца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное скоро и прочно; строить и хорошо, и прочно, с тем, чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать; чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов» (выделено мной. – А. Р.).
И вновь, как в прежних главах своей книги, Распутин, основываясь на документах и свидетельствах участников проектирования и строительства Транссиба, ярко и наглядно показывает народный подвиг при освоении Сибири. Уверен, если бы писатель родился и вырос в местах, по которым пролегли рельсы великого пути, он бы воспроизвёл в своём рассказе многое из того, что сохранилось в памяти земляков о народной стройке. Позволю себе привести здесь страничку из истории своей семьи. Мой дед по отцу, Алексей Савватеевич (родившийся в 1880 году, а умерший в 1960-х), был участником Первой мировой войны и часто рассказывал мне, тогда уже журналисту «со стажем», не только об этой бойне, но и о том, как молодым парнем участвовал в строительстве магистрали. Она проходила недалеко от нашей деревни, лежащей на восточном берегу Байкала.
Волостное начальство обязало каждый крестьянский двор привезти на своих лошадях к намеченной железнодорожной насыпи столько-то подвод щебня от реки Селенги и заготовить в тайге столько-то возов лиственницы для шпал. Это была невиданная прежде тягловая повинность. По моим землякам, никогда не слышавшим в своей глухомани ни паровозного гудка, ни звона рельсов, она казалась и необременительной, и радостной. Подумать только: скоро на своём полустанке можно будет сесть в вагон и поехать в любой конец империи! И как же такое чудо не сотворить собственными руками?
Неудивительно, что Валентин Григорьевич связал эту эпопею с другими народными подвигами:
«Надо сказать, что и в прежние времена, как только Россия принималась вынашивать великое дело, зачатое её насущными потребностями, тут же, точно по волшебству, в необходимом количестве являлись яркие и сильные проводники и подвижники этого дела. Вспомним даже и издалека: когда в XIV–XV веках после татарского ига понадобилось заново собирать воедино русские земли и русские души – ученики Сергия Радонежского и ученики его учеников поставили по окраинам Руси сотни монастырей, бескровно и учительно творивших объединительную работу, в том числе за Волгой.
Когда потребовалось открывать Сибирь – сотни, тысячи, десятки тысяч казаков, словно бы прошедших, подобно космонавтам, специальную закалку и выказавших способность к сверхперегрузкам и отчаянному порыву, за полвека, влекомые неудержимой тягой, дошли до Охотского моря.
Когда Петру Великому в его имперском строительстве понадобились соратники столь же могучего духа и силы, как он сам, – „птенцы гнезда Петрова“ слетелись за считаные годы.
В канун Великой Отечественной, когда армия оказалась обезглавленной, а война надвигалась неудержимой лавой – от сохи и станка явились крестьянские дети и превзошли в ратном деле вымуштрованный веками кастовый генералитет противника.
Так и с Транссибом… Всё перемогла она с народом, с тем самым народом, который, как судьбу свою, как памятник своему мужеству и терпению, как „вечный двигатель“, пронёс её на руках через всю начертанную ей для службы земную обитель и бережно уложил: работай, матушка!
С той поры и работает. Дала от себя многочисленные побеги к северу и югу, окрепла и возмужала, налилась соками, похорошела, раскинула объятия свои на весь мах сибирских далей. Вместе с народом воевала и вместе строила, выстояла в смуту 90-х годов минувшего столетия, не потеряв достоинства и не отдавшись в чужие руки, нигде и ни в чём не нарушив присягу Отечеству…
Хорошо, „путём“, смастерили дорогу, верное ей дали направление и воспитание».
* * *
После всего, что сказано писателем о Сибири, её прошлом, настоящем и будущем, так естественно звучат заключительные строки книги:
«Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться; кладовой, которую при нужде можно отомкнуть; силой, которую можно призвать; твердью, способной выдержать любой удар; славой, которой предстоит прогреметь».
Читатель может подтвердить собственным знанием каждое слово автора. «Сибирь стояла крепостью, в которой можно укрыться…» Даже мы, поколение Распутина, запомнили, как в годы войны привезли в наши сёла семьи из захваченных фрицами Донецка и Гомеля, Смоленска и Белгорода. За Уралом и в самом деле укрылись тогда многие тысячи обездоленных людей. Сибирь была для страны «кладовой, которую при нужде можно отомкнуть…». Да, эту кладовую открыли ещё при Российской империи, а уж в конце XX века её нефть и лес, алмазы и золото вычерпывали и выгребали не только вмиг обнищавшее государство для куцых зарплат и пенсий гражданам, но и приспешники власти, безнаказанно и хищно захватившие богатства страны. Сибирь оставалась «силой, которую можно призвать, и твердью, способной выдержать любой удар…». В ту же Отечественную войну она доказала это под Москвой, на Волге, на Курской дуге – всюду, где не последнюю роль в победе над врагом сыграли сибирские дивизии. Наконец, Сибирь и в будущем может обладать «славой, которой предстоит прогреметь», потому что магическая привлекательность, щедрость, отзывчивость на людскую заботу остаются с ней.
Но мы-то, мы-то, дети России, как относимся к ней? Не только для того, чтобы в подробностях вспомнить историю Сибири, выразить своё восхищение и благодарность ей, писал Валентин Распутин свою книгу. Он изливал свою тревогу, он взывал к нам:
«Сегодня пришла пора спасать Сибирь. Огромная и надорванная, величественная и бессильная, многоязыкая и разрозненная, дно золотое и бедность, неуютность и разворошённость – она, теряющая надежду, быть может, глухо и затаённо ждёт или решительной помощи, или нашего последнего вздоха, чтобы начать всё сначала».
Собственно, потому и читаются очерки, подобные распутинским, как завет писателя свято беречь каждый громкий и негромкий край, что у коренной Руси любой город и любое село – старинные, стоившие землякам тяжких трудов, овеянные неповторимой славой. И мы обязаны передать их внукам и правнукам как бесценное земное богатство.
Стойкость, завещанная землёй
Может быть, теперь, после разговора о книге, в которой автор представил подаренный ему Богом отчий край, стоит послушать его мнение: как же должен противостоять здесь русский человек лихолетью?
В 1993 году в верховьях Лены, коротая дождливую ночь у костра, Распутин думает вдали от людских страстей и бурь о соотечественнике, о зле, умертвляющем его душу. С привычной честностью и болью говорит он об этом в очерке «Вниз по Лене-реке»:
«Да, издержался, издерзился, окунулся в срамной балаган человек – да ведь не всякий же! И пусть он, неподдававшийся, осмеян нынче, затравлен, загнан в молчание и одиночество среди торжища зла, но среди миллионов и миллионов „победителей“ тысячами и тысячами стоит неколебимо он, ни за какие пряники не способный расстаться с совестью… „Не участвовать в сраме жизни“ – вот как должен сегодня звучать завет, оставляемый лучшим. Всего-то! – казалось бы: ведь если человек порядочен, ему не составит труда таковым и оставаться, несмотря на окружающую его непорядочность. Однако это „всего-то!“ – почти всё, когда даже государственное устроение вынуждено отступить за спасением в него же, гонимого за остатки своих добродетелей: выстоит он – останется надежда, что сохранит отцовские добродетели и государство. Это „всего-то!“ – в сущности неустанное изнурение, требующее всего себя и даже больше, чем себя. Если замутнена вода, отравлены воздух и пища, а в доме хозяйничает недрёмное око дьявола под названием „голубой экран“, где взять подкрепление силам, из чего сотворить живительную чистоту? А брать надо. И если, воспитывая детей в подобающих правилах, начинаешь замечать с отчаянием: гнутся… „Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи“, – устами святости говорит истина, а между тем не ты опираешься на эту истину, а она ищет в тебе опоры.
Но и это не всё. Не подозревая о том (немногие знают и тем больше тебя ненавидят, что от тебя зависят), всё сонмище срамников, хулителей и обольстителей, составляющих „передовое общество“, потому и может, безумствуя, не знать меры, что мера добра и зла сохранена в тебе. Без тебя и твоей правды, которая есть твоё понимание правды высшей, ось жизни переломилась бы, и тогда уж никому не спастись – ни первым, ни последним.
Но это, к счастью, невозможно. Если бы дошло до самого крайнего и все прельстились, и ты в том числе, то и тогда правда не покинула бы землю, схоронившись где-нибудь в этих лесах и мхах, пока не народился новый человек и какой-нибудь новый отрок Варфоломей не пришёл сюда за нею».
И вновь и вновь встаёт перед глазами картина: трое таёжных путешественников, любящих заповедную Сибирь не напоказ, а затаённо, «растительно», как любит её всё живое в ней, пробираются на надувной лодке от прибайкальских истоков реки Лены к её могучему полноводью. И ночью у костра, отлучённый ото сна, писатель исповедуется перед собой:
«Далеко-далеко осталась сумасшедшая „цивилизованная“ жизнь. Всего-то лишь вчера к ней принадлежали и мы. Жизнь, в которой всё перевернулось, распалось, пошло колесом, всё столкнулось и возроптало, пришло в противоречие, объялось недоверием, злостью и нетерпением. Будто и не было в недавней истории такой же пагубы на народ, когда взяли верх дерзкие и хищные умы и повели за собой – и вот снова с каким-то безумным восторгом по тому же гибельному пути, а страшный урок напрочь забыт. Это приводит в отчаяние и смятение больше всего: заплатили пребольшими тысячами жизней, разрухой, богоборчеством, невиданным насилием над духом, неслыханным чужебесием – и всего-то внуки попустивших попускают в тот же капкан. Здравому уму непостижимо. И тысячелетней истории тоже будто не было, и не отсеивалось в событиях и буднях доброе от дурного и чистое от лукавого, не разводилось каждое решительно в свою сторону до ликообразия и полной узнаваемости, где что есть, – так легко оказалось перемешать одно с другим, заблудить сердца и повести на нравственный престол бесстыдство! Заветы, обычаи, обряды, традиции, хозяйственный уклад, на тысячу раз сверенные с собственной душой и под неё подведённые; песни и сказания, высекавшие сладкие слёзы любви ко всему родному и друг к другу; слава святости и воинская слава, наконец, недавно вновь обретённые храмы с намоленностью древних стен – где всё это, каким ветром унесло, если за всякой справой по-холопьи бросаемся к чужому дяде! За столетия не сумели врасти в свою землю и укрепить свои умы, чтобы устоять против повального растления и последнего одурачивания, – что, в самом деле, за народ мы?! Или уж не народ, а отрод, не продукт предыдущих поколений, а отчленившееся самонадеянно уродливое подобие».
Над этим откровением надо размышлять не на уличной трибуне – в митинговых речах, не за шумным столом – в горячих, пусть даже дружественных, перепалках, а в одиночестве, в глубоком покое, с ясной и трезвой головой. И каждому из нас, каждому.
Глава пятнадцатая
«ГОРИТ ВСЯ РОДИНА МОЯ…»
Откуда они, «архаровцы»?
В 1985 году новый генсек М. Горбачёв объявил в стране так называемую «перестройку». К этому времени чехарда в высшем руководстве правящей партии, ухудшение дел в экономике, дефицит товаров и пустые полки в магазинах вызывали всеобщее недовольство народа. Язвы в духовной жизни стали тоже очевидными. Честные писатели не могли не говорить о них. Появились роман Чингиза Айтматова «Плаха», повесть Виктора Астафьева «Печальный детектив», повесть Валентина Распутина «Пожар».
Произведение иркутянина своим метафорическим названием особенно точно выражало беду, накрывшую страну: разрушительное пламя уничтожало не только богатства нашего общего дома, но и всё ценное в людских душах. В повести был наглядно очерчен тип человека, для которого нет ничего святого, – «архаровца». Шныряющие по стране в бригадах «оргнабора», жестокие и хищные, «архаровцы» определяли «погоду» везде, где появлялись, утверждая воровские законы и ублюдочную мораль. И глядя на них, жители городков и посёлков, вроде бы укоренённые в отчих местах, работящие и вчера ещё имевшие совесть, усваивали новые правила, преображались: если можно преступать Божьи и людские законы тем, пришлым, то почему нельзя нам?
…В таёжной Сосновке загорелись склады, принадлежащие отделу рабочего снабжения местного леспромхоза. Пламя вспыхнуло, можно догадаться, не без рук «архаровцев». Тушить пожар сбежался весь посёлок. Это дало возможность повествователю показать людей самых разных характеров, вглядеться в души отважные и трусливые, энергичные и вялые, бескорыстные и хищные. И может быть, самое главное: убедиться в том, что жадность, бесчестье, подлость уже набрали в людях силу, а совесть, долг, доброта – на исходе, убывают с каждым поколением.
В центре повести Иван Петрович Егоров, шофёр большегрузного лесовоза, фронтовик, никогда не бравший чужого, не живший на халяву, прикипевший к отчим местам. Придя усталым со смены, он тем не менее первым бросается тушить пожар. И само это испытание лишний раз подтвердило его тяжкие раздумья: разор-то уже давно охватил его Родину! И не находит Иван Петрович ни оправдания, ни конца этому разору:
«Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидроэлектростанции затопили – и остались леса…
А лес выбрали – до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он ещё остался. А там начинай всё сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Берёзовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в её сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушёл – и ни одной живой души в покинутом посёлке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.
Та же судьба ждала и их. Её, как могли, оттягивали, но не бесконечно же…»
Открывает Иван Петрович на пожаре и тайну дефицита. Точнее, не открывает, а лишний раз убеждается в том, что знал: партийные бонзы, именитые чиновники и хозяйственники держали под рукой всё, что душа пожелает. А чтобы такое изобилие было для всех – это ж надо уметь страной управлять! Легче припрятать и пользоваться, как крысам:
«На полу немалой горой были навалены пельмени, рядом, и тоже на грязном полу, в грубых верёвочных опоясках валялись толстые, уродливо раздутые колбасные круги, уже размётанные ворвавшимися людьми; в тяжёлых кубах на невысоком помосте у задней стены плавилось, морща и втягивая в себя обёрточную бумагу, масло, там же в нагромождённых друг на друга ящиках выглядывала красная рыба. Что-то было в деревянных бочках, что-то в картонных коробках, что-то в бумажных мешках. Было, значит, всё-таки было! – и куда всё это уходило? Неужели только в котлопункты на лесосеках? Расскажите кому-нибудь другому – будто не едал он на этих котлопунктах, не знает, что там водится и что видится лишь во сне! И усмехнулся Иван Петрович или подтолкнул себя обожжённой мыслью, что надо в этом месте усмехнуться над своим неразумием: а машины из райцентра, оттуда, отсюда, каждый Божий день подворачивающие к ОРСу… Зря, что ли, хлопочут об общих, централизованных складах для всех трёх леспромхозов, которые должны находиться, конечно, в райцентре!..
Сколько же на свете неробей и причиндалов! И как получилось, что сдались мы на их милость, как получилось?!»
А ведь крысы крупные, отъевшиеся и остающиеся, правда в тени, и крысы мелкие, шкодливые и жадные, названные «архаровцами», – одного роду-племени. Лица этих последних повествователь обрисовал рельефно.
«И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы… Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый – фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых всё вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, весёлый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвёртом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:
– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!
Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал её, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чём ещё недавно нельзя было и помыслить…»
В другом месте горящего склада «стоял человек и, как гранаты, метал через забор бутылки». К нему подскочил один из леспромхозовских начальников, тот замахнулся бутылкой. Иван Петрович перехватил её. «Это был один из архаровцев, один из самых отпетых, которого звали почему-то бабьим именем Соня и с которым Иван Петрович уже схватывался. Соня выдернул из рук Ивана Петровича бутылку, откинул её в сторону и принятым среди этого брата иноречием нараспев пригрозил, показывая через головы:
– Ох, как жарко гори-ит! Ох, горячо-о! Ох, больно-о!
И вразвалочку зашагал туда, где горело».








