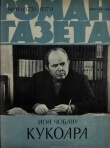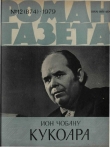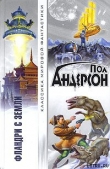Текст книги "Книга путешествий по Империи"
Автор книги: Андрей Битов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 44 страниц)
«Однажды сказали так: Вано глуп, а Нико нет». Или: «Однажды Нико был на двадцать лет старше Вано». Или: «Однажды Нико казалось, что Вано птица, а сам он охотник». Или: «Однажды Вано был всемогущ. А Вано был всего Вано». Или (это почти непереводимо): «Однажды Нико был семью Нико, а Вано был всего один…» И даже: «Раньше Нико был Вано, а Вано – Нико. Потом Нико стал Вано, а Вано – Нико. А под конец оба они стали Вано».
С такой свободой, с такой «скоростью» нельзя говорить много. Дышать таким воздухом повествования легко и трудно, как в горах: не надышаться.
О сказке, может быть, почти так же трудно писать, как и сказку… В этом как бы дань уважения к надличности жанра.
Почти ничего невозможного, невиданного, феерического нет в этих сказках. Вано и Нико – миллионная частица народа, как бы состоящего из Вано и Нико. Они настолько слились, растворились, уподобились, что почти исчезли в сплоченной сутолоке современного мира. Они обнаруживают себя вдруг и с удивлением, чаще всего в том случае, когда видят друг друга: Вано видит Нико, а Нико – Вано. Словно в зеркале отражаются, а отразившись, не узнают прежде всего себя в отражении – возникает конфликт. Странно, но именно приемом этого «обезличивания» обнажает автор их глубокую человечность, их единственность за счет равенства – они принадлежат себе: Вано принадлежит Вано, а Нико – Нико. Хотя Нико и посягает на Вано.
Итак, герои – статичны и обыденны, да и внутренний сюжет знаком каждому, любому. А эффект преображения, переосмысления – чудесен, чудесен уже тем, что практически не поддается анализу. Казалось бы, нет в этих сказках ничего специфически грузинского, кроме произношения имен – Вано и Нико, но это никак уж не «Иван и Николай», даже не «Ваня и Коля» – сказки невыразимо, неуловимо, но глубоко национальны, как линия в орнаменте. Из сказок практически изгнано все то, что могло бы свидетельствовать об оригинальности, индивидуальности прозы именно этого автора, однако они так же невыразимо и неуловимо ни на что не похожи, как народное слово. Может, это и есть свобода? – та полная свобода, о которой художник может только мечтать, – внутренняя?.. В таком случае для достижения ее понадобилась как раз крайняя степень закрепощения, отказа, освобождения именно от себя.
Трудно создать сказку… То ли они давно уже сложены, но даже пусть изящная и тонкая, но все равно разнеженная, жеманная, исполненная намеков и реминисценций, интеллигентная сказочка встречается достаточно редко. Что и говорить о попытке создать сказку, по степени надличности и абстрактности почти равную сказке народной, о попытке сложить ее языком, в котором не существуют менее или более понятные слова, а существуют только слова всех, для всех, слова – всегда. И когда Э. Ахвледиани назвал свою сказку «современной», то это не было свидетельством модернизации жанра, а подчеркиванием того, что именно сказку он сказал, только новую, какой еще не было.
Создав в столь юном возрасте такое чудо бесстильности, на какое посягает писатель разве что в конце собрания сочинений, исчерпав и пресытившись литературой, пытаясь обойтись «без литературы», как если бы мог быть жанром безымянный «памятник литературы», в котором единственной эклектической деталью, единственным словом, которое можно было бы вычеркнуть, было бы имя автора; то есть начав с редко удающегося достижения не в конце, а в начале писательского пути, столь в принципе личностного, столь насаждающего себя, – Эрлом мог оказаться в сложном положении молчания, непродолжения, возвращения к непройденному. И время шло на него, относя вспять. А ему было уже и всего двадцать пять лет.
И я могу поставить ему только в заслугу, что ему достало не то мужества, не то благородной художественной лени – не эксплуатировать столь удачно найденный, самобытный, до него будто никому и не принадлежащий способ сложения этих сказок и остановиться ровно тогда, когда ему самому стало все на этот счет ясно, когда его частный метод до конца выразился и окреп и, казалось, был готов к долгому употреблению.
(Раскрывая литературный памятник безымянного или мифически-легендарного автора (крайняя степень признания в своем роде есть тоже отмена имени личного), мы не задаемся вопросом, было ли им написано еще что-нибудь, кроме этих двух-трех печатных листов, мы не задаемся этим вопросом, потому что для нас там написано все. А когда написано все, мы не можем знать, может ли быть и еще что-нибудь.)
Я не пытаюсь раздвинуть литературную иерархию – я говорю о феноменологии литературного памятника: вот все, что у нас осталось, когда мы держим его в руках. Мы восхищены этой достаточностью. Нам кажется само собой очевидным, что в современное нам время их быть не может, что литературный памятник не может быть создан. Он может только уже быть. И мы правы: трудно сейчас представить, что можно написать всего лишь все, да еще и имя утратить.
Такого не может быть, но вот частный, пусть не такой и крупный случай: одного молодого писателя постигла эта беда с самого начала. И даже условие необходимой утраты имени для меня подтвердилось… О Вано и Нико я слышал много раньше, чем об Эрломе Ахвледиани. Кажется, в 1960 году профессор Н. Я. Берковский как-то спросил меня: «Вы слышали анекдоты про Вано и Нико? Не то чтобы это два идиота… Скорее даже не идиоты. Трудно передать. Но анекдоты очень замечательные (Берковский любил так говорить: „очень замечательно“). Говорят, появился какой-то грузин, который их сочиняет. Неправдоподобно». Вот и Берковскому как литературоведу было очевидно, что не может быть автора у настоящего анекдота. Я прочитал эти «анекдоты» лет через пять после этого разговора и лишь еще года через три познакомился с автором. То есть даже в таком, еще не ушедшем, не канонизированном случае «памятник» начал свое восхождение, первым делом утратив имя автора.
(Исчезновение имен авторов текстов народных песен кажется мне в этом смысле не неблагодарностью и несправедливостью, а комплиментом (так же, как и приписывание многих песен Есенину). Я наблюдал и такой случай, когда поэту Г. Горбовскому не поверили, что он автор песни «Когда качаются фонарики ночные…», которую одно время распевали анархисты почти в каждом историко-революционном фильме как дореволюционную. И в гонораре ему было отказано, хотя мы с ним очень в то время нуждались в небольших деньгах…)
Соотношение жизненного опыта и возможности творческого отображения (воплощения) сложно и весьма непрямо. Мы имеем подавляющее число свидетельств, что зрелый, окончательный опыт может быть изложен разве в форме трактата и уже утратит способность стать искусством. У поэта опыт предвосхищен («Быть может, прежде губ уже родился шепот…»). Опыт, настигший предвосхищение, совпавший, отчасти уже утрачивает творческую потенцию. То ли он больше принадлежит прозе, то ли просто – нем. Этим опытом уже не воспользоваться поэту, приходится предвосхищать грядущий. Этот прорыв гонит впереди себя личную жизнь, формируя черты судьбы. Немудрено, что поэты проживают жизнь вдвое-втрое быстрее. А если ты не поэт, если у тебя нет этой скоростной формы воплощения, если уже не один опыт настиг тебя и перехлестнул тебя так, что о нем только вспомнить можно, а прожить его вторично уже невозможно, то сколько же опытов надо пройти, чтобы возник как бы опыт опытов: как опыт целой жизни (старик), или опыт поколений (род), или опыт истории (народ). И если поэзия есть потенция лишь не прожитого, а предвосхищенного опыта (в этом смысле она всегда молода…), и если опыт все-таки не предвосхищен, а приобретен, то, как мне кажется, единственный способ, каким еще может стать поэзией опыт, – это самый конечный, не предвосхищенный, а сжатый своей множественностью до точки, анонимный творческий продукт: пословица, сказка, песня.
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? – точный смысл народной поговорки.
Такое впечатление, что Э. Ахвледиани каждый раз опаздывает, каждый раз успевает лишь пропустить поэтическое прозрение – приобретает опыт, который было почти предвосхитил, и замолкает снова. Невозможно, в пределах одной своей жизни, приобрести опыт, равный народному (Эрлом не фольклористичен, скорее интеллигентен). Но даже в том случае, если человек не способен в одиночку приобрести народный опыт (если такой не врожден), то впереди у пропущенной, не застигнутой врасплох и вовремя, поэзии – есть, за пропастью опыта, продукт высокой абстрактности – притча, миф.
Писатель, надо полагать, «по определению» занимает место, никогда никем не занятое. Не столько даже не занятое, сколько без него пустое. Эрлом идет трудной прежде всего ему самому, но своей дорогой. И поскольку не изменять своему развитию – есть норма писательской честности, он ему не изменяет. Слово не дается тем, кто неправильно к нему подходит. В той или иной степени все затруднения писателя в его письме – этические. Не только осторожность или смелость, не только гражданственность или независимость – не только это есть, пусть главная, этика писателя… Есть еще этика обращения со словом, с героем, с мыслью, – этика почти неописанная, неизученная, лежащая в основе. Есть, пожалуй, и еще более глубокий след этой этики.
Э. Ахвледиани не искал подходов, когда подошел к слову и встретился с ним прямым взглядом. Но время не остановилось в это мгновение, и для Эрлома началась жизнь «в длину», в которой лишь постепенно, по крохам доходит до сознания то, что поэту удается постичь в момент творения с лету (с тем, быть может, чтобы потом продолжать не понимать). Эрлому пришлось запнуться и признать правомерными и другие сферы жизни и духа, пусть и не столь прозрачно абстрактные, но живые, но существенные, непрерванные, неостановленные, однако прежде всего имеющие значение для жизни, собственно, являющиеся ею и даже для философа привлекательные – именно своей неразъятостью, страстностью, заинтересованностью, своей погруженностью в непонятную середину процесса: «кошка красива, красивая кошка тоже». Философ понял, что не понял. Он онемел и полюбил. В любви мы не окажемся столь же совершенны, как воспаривши мыслью. Философу, постигшему меру вещей, ничего не остается, как замолчать и полюбить все то, что он постиг, и осознать, сколь безмерно оказалось то, что он было полагал понятным. Красива формула! Чудо, когда из нерасчленимого и безмерного, слепого бульканья жизни извлечен и назван закон! Но сколь меньше строчка формулы того океана, в котором она утонет вновь!..
Если человек ничего не может создать, он может подать пример.
И философ смиренно пытался писать сценарии и пьесы, в голову ему приходили прекрасные, невыполнимые замыслы, и он их пропускал, не портил. Кое-что было начато, кое-что вдруг продолжено… Наверно, он упрекал и грыз себя. Но деятельность – еще не дело. По крайней мере, не обязательно быть фонтаном, демонстрируя упругость напора, – это круг воды. И безделье может оказаться занятостью, но чем-то одним. И молчание – отказом от неправильного решения. И робость – свидетельством мастерства и уважения к материалу… И зрела в нем мечта вновь соединить в себе слово и время: «начать бы книгу, которую и писать всю жизнь…» Так он мечтал, не признаваясь даже себе, что уже ее пишет.
Удача, успех – вообще вещь относительная, тем более удача художника. С моей точки зрения, фильм «Пиросмани» режиссера Георгия Шенгелая беспрецедентная удача, а по прокату – почти провал. Правда, время от времени «Пиросмани» берет реванш, месяц не сходя с экрана кинотеатра повторного фильма, что у Никитских ворот (наряду с картинами Иоселиани «Пиросмани» герой повторного фильма). Как продукт кинопромышленности – «Пиросмани» провалился, как художественное достижение – имел полный успех у любителя и ценителя кино как искусства. Зал был наполовину полупустым, пока фильм шел во многих кинотеатрах, и зал был изо дня в день полон, когда фильм пошел в одном. Люди приезжали туда посмотреть именно эту картину, а не вообще кино. Москва – большая, ехать по ней можно очень долго, слишком долго, чтобы попасть на один сеанс в один кинотеатр на одну картину. Лишь когда эта «единичность» стала наконец очевидной, именно в таком качестве картина была уже обречена на успех. Удача это или неудача?
…Горький пьяница, не имевший за всю свою жизнь семьи, умер в холодном подвале от голода, умер никому не известный малеватель базарных вывесок… Какая уж тут удача. И лишь лет еще через тридцать в сознании любителей живописи наконец умирает великий народный художник, и это называется признание. Полуграмотный, спивающийся крестьянин, никогда не видевший живописи, умудряется оставить наследие, выразившее его, его время, его народ и даже самый дух нации с такой полнотой и любовью, с какой это не удалось никому из грузинских художников, выразивший, по-видимому, навсегда. И это сохранилось, и это дошло – это ли не удача!
Теперь бы его накормили, теперь бы выдали ему кисти и краски, и он бы сиживал в Доме художника, – теперь его жалеют за то, что у него не было условий, и не признаются в простой зависти к нему, что он так рисовал. Обыватель лучше ошибется, чем признает себя обманутым. Вряд ли и этот фильм обучит кого-нибудь вовремя признавать талант. А то была бы удача так удача!
Но Пиросмани был без нас одинок.
Зато он свободен и от того, чтобы мы помечтали ему другую судьбу. Вряд ли и создатели картины о неудачнике мечтали, что при выходе из кинотеатра человек, которому эта удача всю жизнь сопутствовала, вдруг решится подать нищему, оступится в лужу, промочит ботинок или поскользнется на арбузной корке, или еще какую потерпит неудачу; сквозь рваный карман на него незнакомо глянет подкладка жизни – и он вдруг поймет, что вот этого-то он не умеет, в этом он неудачлив – в умении оставаться человеком, что в этом он неопытен. Впрочем, он не поймет… Но зато это был бы успех!
Был ли счастлив Пиросмани? Вопрос нелепый. Конечно, нет, но и не было человека счастливее его.
Ибо счастье – это не вещь, не обстоятельства, счастье – это чувство. Оно наступает, когда усилие и результат обретают одно время и одну природу, соответствуют. Вся жизнь Пиросмани потрачена на это соответствие, и в этом ему сопутствовала удача, потому что он не изменил своему чувству счастья. Что поражает в картинах Пиросмани? Конечно, это от природы необычайно одаренный живописец: в цвете, в композиции… тем более если учесть, что он ничего не знал, все – сам!.. Но поражает-то не это, а полное соответствие чувства и выражения, идеальная адекватность: мы воспринимаем именно тот образ, единственный, который видел человек-художник, именно тот же, с тем же чувством, хотя мы – не он. В живописи Пиросмани нет ничего сверх того, что мы видим, и это доходит сразу. У картин Пиросмани не может быть прочтения: они – есть.
Пиросмани – не мастер. Великое отсутствие искусства в его искусстве. Великий талант, великая душа. Что бы там ни говорили, восхищаясь его техникой, – это лишь отголосок сенсации, не это ценно. То, что он умел, умеют все художники, но то, что он мог, – не может никто.
Природа Пиросмани в том, что он сам – равен природе.
Конечно, создание фильма о таком человеке – задача привлекательная. И были пути, ведшие напрямую к успеху: голодный гений – посмертное бессмертие, – безотказная модель. Сочувствие в кино и сочувствие в жизни противоположны. Утирая глаза, зритель выйдет из кино с глубоким сожалением, что фильмы о трагической жизни не снимаются до смерти героя, чтобы можно было вовремя предупредить вопиющую несправедливость. Как это напоминает желание присутствовать на собственных похоронах!
Тем замечательнее, что в конкурсе на сценарий о «Пиросмани» победил сценарий Эрлома Ахвледиани, потому что он не имел ничего общего с той, грозившей удачей концепцией.
Еще более удачно, что и режиссер Георгий Шенгелая отнесся к своей задаче трепетно и свято, что достаточно редко встречается в практике постановок, требующих для своего воплощения определенной грубости и конструктивности задач и приемов, которую чаще называют не примитивностью, а «профессионализмом». Репутация молодого режиссера к тому времени, когда он взялся за сценарий Ахвледиани, была достаточно высока, и профессионализм его не вызывал сомнений. Тем выше отказ, даже своего рода подвиг – отказ. На первый, формообразующий план наконец выступило не мастерство, а страсти художника, трепет перед материалом, неспособность слова произнести – любовь. Отношение к Пиросмани и к тому, что он выразил: к родине, к творчеству, к смыслу одной жизни, – доросло у создателей фильма до такого напряжения и предела, что не только воспользоваться каким-либо испытанным, выигрышным (пусть даже не скомпрометированным ничем) приемом, но и слово молвить, мазок нанести, отснять метр пленки – предстало задачей трагически неразрешимой. Если воспользоваться наиболее ходячим представлением о муках творчества «сопротивление материала», – то именно оно было доведено до предела: предстояло приподнять Землю, не имея Архимедовой точки опоры, материал стал идеально непрозрачен, непроницаем. Но вот именно эта невыносимая любовь к родине, к искусству, к человеку, к самому Пиросмани, эта внезапная незащищенность, невооруженность перед необходимостью воплощать, эта неподсильность взятого на себя – вдруг оказались единственным возможным путем и привели если и не к успеху, то к лестному для чести художника великому поражению, я бы сказал: к замечательной неудаче.
Не было другого пути, как пригласить в «соавторы» самого Пиросмани. Не столько даже его творения, хотя, конечно, и их (кстати, живопись замечательно отснята, «донесена» в фильме), сколько самую душу его, ее чистоту. Надо было стать очень легким, чтобы ходить по лугам его мира. Надо было пройти муку очищений, чтобы из его мира посмотреть на свой, такой другой, такой внешний мир, так же удивленно, так же раскрыв глаза, как смотрит ребенок, как смотрит на вас с картины Пиросмани «Дворник» или «Жираф».
Так возникал единственный путь к созданию современной картины о художнике прошлого – попытка создать этот мир столь же заново, как возникал он перед взором Пиросмани, потому что у него-то, в отличие от наших творцов, никакого другого мира не было…
Было бессилие, неспособность, беспомощность, и вдруг фильм оказался отснятым… И ту же святую муку испытывает благодарный зритель, что и создатель фильма, – вплотную подступает невыразимый образ… «Как это удивительно снято!..» – бормочет зритель. Фильм снят почти «слишком красиво», но оказалось это «почти» неперейденным: мы верим, что эта красота – видение Пиросмани. Оператор, художник Автандил Варази (которой исполняет и главную роль) сделали все невозможное – трудно представить, что что-нибудь могло быть сделано еще тоньше, еще лучше. И конечно, главный герой этой удачи – режиссер. В кино это только так, если есть удача.
Но главным героем того «великого поражения», о котором я говорил: той героической и непрофессиональной тенденции рассказать о молчании молчанием, о горе – горем, о неудаче – неудачей, о любви – любовью, является для меня автор сценария Эрлом Ахвледиани.
«Наверное, – думал Эрлом, приступая к сценарию, – есть у него, – думал он про Пиросмани, – один такой рисунок и есть такое волшебное слово, что встанешь перед этим рисунком, закроешь глаза и вдруг окажешься там, в его мире. Совсем другой воздух в этом мире, другие люди, и совсем о других вещах они говорят. Они понимают друг друга; все здесь – соответственно, и нет ничего чужого и неприемлемого. Покой и гармония царят вокруг. Совсем другое вино в тех кувшинах, по-другому пьянит оно…»
Как эта мысль близка Нико! – подумал я. Близка она и Вано. Вот откуда эта немая нить. Эрлом начинал со сказок о Вано и Нико – тогда все это и началось…
«А я бы хотел, – сказал мне тридцатилетний Эрлом, – я бы хотел воспитать в себе старика». И если в девяноста девяти случаях из ста такое заявление можно было бы считать позой, манерностью, перекосом, то в этом случае, ручаюсь, был более глубокий смысл. Даже не только такой, что можно устать от сутолоки страстей, избытка сил, полнокровия и побуждений – всей той мути, что поднята в душе напряженным и самоутверждающимся прохождением через золотую пору жизни, когда «в соку». И не только то, что на этом пути можно соскучиться по некой отрешенности и ясности, окончательности, которые возможны лишь от малых сил, от угасших страстей, в рассуждении близкого конца. Но еще и тот, вдруг показалось, был в этом печальном заявлении смысл, что Эрлом знал, что говорил, что он уже был стариком однажды и это помнил. Может быть, когда писал эти сказки. Может, когда терял любимого и первого друга. Может, когда отец начинал строить дом, который теперь Эрлому всю жизнь достраивать. Может, когда его старики были моложе.
Когда я познакомился с ним, то это был поэт, в котором философ забыл свои слова, а поэт не находил слов для выражения всей безмерности постигшей его жизни. Это был ласковый, чрезвычайно предупредительный человек, жест которого был чрезмерен по вежливости. Но если вы признавали за ним естественное право на адекватность чувства и выражения, то эта его нежная излишность была боязнью ненароком задеть, причинить боль, повредить хоть паутинку сложнейшего мира, где все всему принадлежит, все связано воедино, и неизвестно, на каком конце какой бесконечности отзывается каждое наше, по крайней мере, несовершенное движение. Не только кого-нибудь не задеть своей тенью, не только что-нибудь – но ничто не повредить, потому что кто знает, что может помещаться в том, что нам покажется как ничто, пустотою?
(У него есть рассказ «Когда мы будем рыбами» – исповедь камня. «Вон то – камень. Я тоже камень. Между нами вклинилась земля и пыль, как неподвижное мгновение нашей разлуки». Это первые строки. И опять можно отметить покоряющую скорость входа, какая была когда-то в его сказках. Это рассказ о камне, который когда-то упал со скалы в реку, и мимо него плавали рыбы. Потом его судьба изменилась – его выудил со дна мальчишка, выбросил на берег. Потом еще поворот судьбы – и камень оказался на улице. Он полюбил здесь другой камень. Казалось бы, сказка, но холодно делается читать эти «мемуары», когда понимаешь, что камень верит в чувство, в то, что еще придет время, когда они станут рыбами и будут играть друг с другом точно так, как он видел в самую счастливую свою пору у веселых рыб…
«Но нет…
Оба мы камни. Из камня все, что внутри нас. Из камня и радость наша и разлука, и наша близость тоже из камня; камень – глаза наши, и мечта наша из камня: окаменело наше небо и наша любовь, и сами мы – камни.
Из камня наша беседа:
– Я камень.
– Я тоже камень».)
Такой был трепетный, как пылинка в луче, он человек, что, право, можно было не поверить, что он такой и есть. Не притворяется. Но сколько бы ты его ни подозревал, убедиться ты мог бы лишь в собственной грубости. Таков был его жест, таково было смущение, нежность и любовь, когда он, странно колеблясь, избегал оказаться грубым с невидимой нежностью мира, поместившего его в себя. И кто поверил ему, тот верил в него и любил – хотя бы за то, что нашел это и в себе.
И вот теперь, спустя еще годы, я сидел в его удивительном недостроенном доме, где, как во сне, можно было ненароком открыть дверь в пустоту, где, кажется, в каком-то углу сквозь крышу можно было увидеть звезду, а через другой влетали в комнату ласточки с прутиками в клюве, словно достраивали этот дом… Дом был удивительно расположен – недостроенный, он еще больше походил на гнездо, прилепившееся на краю Тбилиси. Сразу за домом начинались отроги, поросшие выгоревшей травой, – туда можно было выйти прямо из окна и зашагать по траве вверх, оставив под собой причудливо-жилой город. Отроги эти по грузинским измерениям – холмы, по нашим – горы. За первым холмом открывался следующий, до времени скрывая за собою еще более высокий… И, выйдя таким образом из дому, чудилось, можно было уйти навсегда, до самого неба. Так я сидел на этой границе сна и яви и читал рассказ Эрлама «Агу» – и рассказ оказывался совсем о том, что я выше об Эрломе домысливал. Я сидел и листал своего рода дневник новорожденного, начинавшийся с необыкновенно глубоких мыслей еще не зачатого существа, даже не существа… тоска души по телу. Наконец повезло, нашлись родители… Но еще столько волнений, чтобы был зачат именно он (я – в дневнике!). Это случилось. Какой мудрости, почти равной природе, исполнена каждая запись нерожденного существа!.. Потом появление на свет, мудрость уже слегка смущена возникшей вокруг суетой, но это все еще надмирная, космическая мысль, у подножия которой копошатся младенчески мыслящие родители. От сравнения с ними младенец переполняется сознанием собственного гения и решает нарушить обет молчания, поразить всех глубиной своих суждений и… Он сказал «агу!» – ликует счастливая мать. А младенец в этот момент забыл все, что знал.
Именно этот человек имел право пытаться постичь душу Пиросмани. Подозреваю, что это именно он заразил Г. Шенгелая, кружась над словом и все не находя того, одного, – именно он. И, защищенный этой любовью и немотою создателей, фильм не мог не повторить именно самого Пиросмани Эта смиренная учеба мастеров у безграмотного самоучки не прошла для мастеров даром – и фильм разделил в чем-то ту судьбу, о которой пытайся рассказать…
ВЫХОД ИЗ КИНОТЕАТРА
Я вышел из кинотеатра в выключенный мир. Он был выкручен, как звук у телевизора… Мое изображение пересекало узкий ленинградский двор, где сверху чуть доставался клочок серенького вечереющего неба. Я вышел под колпаком тишины и под ним вышагивал, вокруг лужи, мимо поленницы, серым локтем касаясь серого локтя толпы. Глаза мои были влажны, взгляд неясно различал близость мира, готовность любить переполняла меня, но некого было пугать этой готовностью…
Нет, не то чтобы переселение душ… Не то чтобы Нико вышел в моем пальто в ленинградскую подворотню… Но все-таки именно он, безмолвно шедший по желтой улице в косых штрихах мокрого серого снега по падающей под шагами кривизне старого Тифлиса, шедший, в безмолвии и безлюдье, умирать в свою конуру накануне титра «конец фильма», – именно он так и не дошел до своей смерти, перешагнув из своей тишины в мою, и мир, в который я вернулся, не сразу вырвал меня у этой тишины. Серая и плотная, как парусина под ветром, тишина, в которую врывался то автомобильный гудок, то скрип тормозов, прохожие обрывки речи, напоминала вечереющее, холодное и промытое первым снегом ленинградское небо с косыми и острыми клочьями рваной синевы… День гас, закрываясь как бы изнутри. Куда уходил день? Где он закрывается? Это пространство, этот воздух, люди именно этого дня?
Я помнил эту тишину, я уже встречался с нею… Не только вот это удивление от кино… Какое-то более раннее, более первое воспоминание принадлежало мне, и я не мог его вспомнить и приобщить к себе. Где-то я уже видел, когда-то я слушал такую же тишину не в кино, а в жизни…
Удача кисти и резца
Необъяснима до конца.
ПОСТСКРИПТУМ
Нет, нельзя о молчании – словами! Я написал эти страницы за ночь, а замолчал на полгода. Как бритвой обрезало во мне эту возможность – низать слова. Мычание из выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое – само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее – как рассчитывался с жизнью. Что ж, она сделала свое дело: я так ее и не кончил. Но снова свободен.
Попытался перечитать ее, неоконченную, так, будто меня нет, а она есть… Странное впечатление! Во-первых, она и впрямь будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я натыкался на себя, ощущал оскомину и стыд. По замыслу, даже по конструкции, эта книга – развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились. Но это развалины так и недостроенного храма. Разобраться в этом – для читателя задача сродни археологической. Искать несуществующие обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни, прежде чем догадаться: а был ли купол? может, купола и не было… И все-таки? Покопавшись, довообразив, кто-нибудь дорисует его в чертеже реконструкции – с куполом, с тем самым единственным, выраставшим из недовозведенных стен! Но его никогда не было, он никогда не стоял во времени… Но он был! Раз его реконструировали. Да, он был, и его не было. Потому что он есть. Он был ДО постройки. Его видели до меня и не брались; его, наконец, воочию видел я, увидит и еще кто-нибудь. Культура не пустует; пустует только время вне ее. А она – ЕСТЬ. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии. Ностальгия, в лучшем случае, возведет развалины, как памятник единственному запечатленному в сознании образу. Нет, культура не возрождается; она – творится. Культура не может быть прервана, как не бывает прервана жизнь. Культура вечна и непрерывна, а мы ее либо знаем, либо нет.
Во что обратилось мое усилие! – лубочный медведь держит в лапах лубок, на котором изображен медведь настоящий. Так ровно, так последовательно, мерно, не выбиваясь из реалий, клал я свою краску на каждую в отдельности картинку… чтобы, написав робкую дюжину арабесок, рассыпав этот пасьянс, обнаружить, что вместе, разложенные бок о бок, в невольной общей картине, они не под силу моему воображению.
Над каждым деньком в этой книге встает солнце, и вот когда все в порядке наконец, раздается петушиный крик. Всю жизнь вздрагиваю от этого крика. Никогда не понимал, в чем дело: что плохо, что он кричит? Вдруг понял: петух – реален, он всегда – сейчас. И крик его – сейчас. А я в тот миг всегда – не здесь и не сейчас. Я нереален. Вот и испуг, вот и страх. (Петух родом из Индии… такая же тоска!)
Петух… пустить петуха… потух… пожар… пепел… петел…
Петел… будит… набат… бунт… мятеж… мятель…
Рывок (отчаянием, насилием) к реальности – вот лицо мятежа.