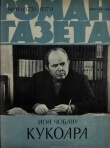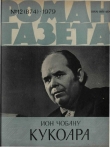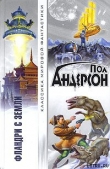Текст книги "Книга путешествий по Империи"
Автор книги: Андрей Битов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, – и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание, – там уже я стоял, на плане. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок.
Там уже я стоял, на дне… В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны – такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.
ОН… выдолбил… во-он через то отверстие, сверху вниз… весь этот храм… Кто ОН? Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек, верующий, как Бог. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры вот что Гехард.
Никакого крепления в храме не было.
Храм уже был в этой скале, надо было только выдохнуть оттуда камень… Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания. ОН верил и видел единственное, вот и все. ОН мог бы и не молиться, и не ходить в церковь, и не знать слова Божьего – в нем был Бог. У него не было чертежа. ОН имел в своем мозгу столь честные и чистые своды, что перенес их сюда и ошибки быть не могло. Его мозг стал подобен будущему храму, храм же был подобие Бога.
Это сейчас я нанизываю косноязычную логику слов – у меня нет другого выхода. Тогда же у меня не было слов, и не могло быть, и не должно было быть – меня не было. И я стал подобен ЕМУ, та же немота, то же отсутствие себя, та же вера жила теперь во мне, потому что я был заключен в его честный и чистый мозг, в его веру, в его цельную и единственную мысль, где никакая другая уже существовать не могла. Это было ЕГО бессмертие.
Но долго наша несовершенная душа этого не могла вынести. Мы переглянулись наконец. И тогда мои друзья, вспомнив, что мне надо показать, как гостю, все, таинственно разошлись в стороны, оставив меня в центре, и остановились каждый у одной из колонн. И запели. Это была старинная армянская мелодия, медленная и скорбная. Эхо многократно повторило их голоса, и вся скала отозвалась, как колокол. Мы и были внутри каменного колокола, как ботало. И многоголосие это было столь же органичным и гармоничным, как и линии храма, да и не могло быть другим. И линия и звук были подчинены здесь одному закону… Разве наше разветвленное знание не есть потеря знания единственного, единого закона? Когда нет этого закона, тогда уже, конечно, – архитектура, чертежи, правила, расчеты, физика, акустика, машины – муравьиное совершенствование обломков единого и цельного, нами утраченного…
Песня была прекрасна, но после пения мы уже могли вынести усталые от прямой нагрузки души на божий свет.
…Просто скала, ничем не нарушенная, обыкновенная. То же, такое внешнее, светское тело церкви… Но когда я поднял глаза вверх и увидел те прекрасные скалы, что уходили так строго ввысь и там остывали стрелами в синем небе замолкшим на верхней ноте хором, – то же великое подобие еще более поразило меня. Оно было теперь обратным. Теперь эти скалы были подобны храму, из которого я вышел. Этот храм был более первозданным, чем природа, и теперь природа уподоблялась ему. Все это дивное место и небо были подобны творению, только что виденному, да и были Творением.
Тут все, отражаясь, повторяло друг друга, утверждая гармонию и единство всех сущих форм, и, когда мы пытались выделить, в чем же это единство, взгляд скользил вверх, вверх, чтобы остановиться на чем-то, как на центре подобия, и нигде не мог остановиться, и вот нам уже некуда больше смотреть, как в небо…
Богослужение в этом храме не прекращалось никогда, свечу можно ставить на любой камень.
Побег
Мы поднялись еще выше, и, уже более со страхом, чем с трепетом, заглянул я в то голубое отверстие, откуда ОН начал… Это была черная немая дыра. «Вот почему, – сказал друг, заглянув мне через плечо в ту же дыру, вот почему я так редко бываю тут… Если бы не ты, то и не был бы… Как отсюда вернуться назад, туда же, тем же?..» И тогда мы по плавной и крутой кривой быстро спустились вниз, все более ощущая пустую усталость. Там во дворе стояла «Волга» (ее не было, когда мы поднимались), водитель копался в моторе, а рядом присел на корточки, так, что черная ряса легла подолом на землю, скрыв его ноги, тот красивый старик, которого мы видели с книгой на балконе. Я увидел его совсем вблизи, я мог бы притронуться к нему. У него было действительно великое лицо, лик – нам не показалось. Присев на корточки, он рассматривал автомобильную свечу, держа ее перед собой в щепоти пальцев. Кисть его была так же одухотворена, как и лицо. Он смотрел на свечу точно так же, как смотрел тогда в книгу: так же неподвижно, с тем же божественным, чуждым светскости простым величием, – веки его были чуть опущены, но лоб, чистый, мраморный, был невозмутим и нервен, как веко. Ох, мы были не правы. Не было книги, не было свечи! Ничего уже не было.
То же красное платье мелькнуло внизу у ручья, сизый дымок там вился, и запах шашлыка тонко достиг нас, обозначив, что вовсе не молитва, а голод терзает нас. «Эх, – сказал шофер, – была бы у нас бутылка, мы могли сейчас спуститься и присоединиться к шашлыку…»
Как поспешно, как охотно рванулась машина и унесла нас из Гехарда, словно выплюнула! Никто не обернулся. Когда входишь – все отворяется тебе, но, когда уходишь, видишь только обратную дорогу. Мы выскользнули из-под лапы льва.
А уж тут нас ждали одни радости. Все легче и голоднее становилось нам. Мы останавливались, пили из ручья воду, мы останавливались, ели шашлык и пили водку и, наконец, к закату достигли Гарни. Гарни – это единственный в Союзе языческий храм. Развалины его. Гарни – это прекрасно.
Но тут можно есть, пить, плясать, петь. Это языческий храм. Мы сидели на циклопических обломках, пили чачу, которую достали у смотрителя храма, шутили, если можно так сказать, с польскими туристками, подмигивали, подхохатывали, ржали, улюлюкали, гикали… Выдавали мы себя почему-то за футболистов сборной. Мы смотрели на удивительнейший закат, и ущелье под нами все глубже темнело.
И наконец мы ехали назад, в город Ереван, оставив все позади и не заметив перехода, пьяненькие, шумные, такие счастливые! Уже ночь спустилась, шофер лихо заламывал руль на повороте, бабочки прядали, сверкнув серебром в свете фар, а сзади мои друзья прекрасно пели прекрасные свои песни, и я чуть ли не подпевал им, такой умиленный, на родном армянском языке. Впереди открывались огни Еревана.
Мы расстались, пожав друг другу руки.
Все очень просто: небо треснуло, земля раскололась, твердь покачнулась, хлябь разверзлась, – всего лишь еще один день прожит, до свидания, до завтра.
СТРАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЯ«Раньше и теперь»
Чем естественней и глубже становилось мое пребывание в Армении, тем расплывчатей и удаленней была конкретная цель моего сюда приезда. Пока я приспосабливался, вживался, пока мне было не по себе, цель эта еще жила, вполне совпадая с общей неловкостью положения. Но как только я начал жить, тут же, словно некую верховную темную силу не устраивало, чтобы я жил, из памяти выплыло, как возмездие, и погрозило пальцем: не живи.
Срок командировки истекал так же неумолимо, как еще в дороге истекают суточные. Час расплаты надвигался, честный и чистый образ главного бухгалтера редакции беспокоил и смущал.
«Раньше и теперь» – таково было мое задание. Взволнованный лирический репортаж о современном градостроительстве.
Только теперь начинал я постигать всю меру того легкомыслия, которое позволяет людям передвигаться с места на место по собственному желанию. Соблазн – это надежда на бесплатность. Платить же приходится не за вход, а за выход. И мне надо было выходить из положения. Вошел-то я в него более или менее с легкостью. Так, затухая, думал я, постепенно подводя себя к уровню задания.
Во-первых, «раньше». Я не знаю, как было раньше. Мне было предложено прочесть очерк М. Кольцова, чтобы знать, как раньше. Но даже очерка этого я все еще не прочел.
Во-вторых, «теперь». Оно требовало, безусловно, восторженного к себе отношения. Это вытекало из задания и было, по заданию, ясно. Восторгов было более чем достаточно, но все они будто не имели отношения к заданию.
Ну прямо как в школе – все, кроме уроков… Я бы покрасил забор Тому Сойеру.
Школярские, предэкзаменационные мысли…
Я ходил по Еревану и рассматривал его современные ансамбли. Они были так хорошо исполнены, словно даже восторг отношения к ним был учтен архитектором и направлен по нужному руслу. Они были выстроены так, чтобы вы не могли не заметить, чтобы вами овладевал восторг в обязательном, рабочем порядке.
И тут невнятная мысль приходит в голову. Что лучше: совсем плохое плохое или плохое несколько получше? Такое, что почти хорошее? Сразу изобличающее себя, постепенно изживаемое временем или годное до сих пор? То есть, представляя себе эпоху, когда был сооружен, к примеру, ансамбль площади Ленина, легко допустить, что это почти невозможный предел органичности, вкуса и естественности для своей эпохи, что для воплощения этого замысла потребовались смелость и талант, почти дерзкие. И современники ощущали ветерок прогресса на своем лице. Но что-то случилось за эти годы – а здания остались стоять, хотя время их ушло. Они стоят в ином времени…
Не так-то легко разграничить «раньше» и «теперь», как может показаться на первый взгляд. Если бы это сводилось лишь к различению зданий, недавно построенных, от зданий, построенных давно, деревьев выросших от деревьев, недавно посаженных, и т. д., то такая формальная задача вряд ли интересна естественный навык, часы. Если же искать границу между прошлым и настоящим, то это просто физически невыполнимо, потому что граница эта сползает ежесекундно, ежемгновенно, и каждый шаг, каждый вздох невозвратим, каждая написанная строка уже написана, а не пишется… По сути, настоящее и есть эта граница с прошлым. Если же провести эту границу по какому-либо важнейшему историческому рубежу (как естественно для нас проводить ее по 1917 году), то ведь и пространство между этим рубежом и сегодняшним днем все растет и заполняется прошлым, и в это пространство уже легко вмещается и человеческая жизнь с ее личным прошлым, как, например, моя… и сравнение становится все более умозрительным и далеким.
Значит, только «сейчас» или, самое большее, «только что» – вот реальный мой материал, о котором я могу успеть сказать в настоящем времени, пока все не умчалось в далекое прошлое. И так ли важна дата творения, если творение живо и дышит до сих пор? Если здание, возведенное тысячу лет назад, и здание, вчера законченное, стоят по соседству сегодня, то они современники. В этом смысле все живое – современно. И то, что они стоят рядом, и есть теперь, а не только то, чего вчера еще не было. Мир населен не одними новорожденными…
Так что, о чем бы я ни писал, только настоящее интересует меня, только живое: и только что родившееся и давно живущее, и возникающее и уходящее в прошлое, но еще не ушедшее.
Только теперь, думал я, только теперь…
И ничего не мог видеть после Гехарда.
Контрольная работа
…И следующее утро наступило, укоротив мою командировку еще на день, а я так ничего и не предпринял, но и жить, радуясь тому, чему радовался еще вчера, тоже уже не мог.
В это утро у меня было назначено свидание с мэром города Еревана, энтузиастом и вдохновителем современного городского строительства – по всем свидетельствам, человеком во многих отношениях замечательным.
Все более совестно становилось мне при воспоминании о всех тех людях, что шли мне навстречу: придумывали тему, чтобы я мог сюда приехать, оформляли командировку, выписывали деньги, помогали советом, интересовались устройством моего быта, предоставляли редакционную машину.
Теперь они все чего-то от меня ждали. Я должен был не подкачать и не подвести.
Я вышагивал по утреннему городу, радостно отмечая в себе, что был не прав, что город мне нравится все больше и больше – просто я закоснел в субъективности и т. д. И действительно, утром город смотрелся. Чистый и нежаркий, с еще длинными тенями, он был тих и скромен, и розоватость ему шла.
«Ереван следует смотреть рано-рано утром…»– так я начну очерк. «Да, именно так я его начну», – бодро сказал себе я, перешагивая порог высокого учреждения.
Без трех минут одиннадцать, довольный своей точностью, я представился секретарше. Она скрылась в кабинете и тут же объявилась: меня просили чуть обождать.
Все пока не расходилось с эскизом, уже возникшим во мне из рассказов различных людей об этом человеке. Рассказы эти носили всегда и только положительный характер. Никто не сказал о нем дурного слова, несмотря на его высокое положение. Но всегда вместе с высокой похвалою постепенно проявлялась некая полуулыбка, улыбочка, не насмешливая, не скептическая, скорее уж добродушная, но – до конца мне непонятная. «Да, да! – говорили все. – Исключительный! Порядочный! Знающий-понимающий!» Само единодушие в оценке этого руководителя было исключительным и отнюдь не объяснялось боязнью или осторожностью, что было бы сразу заметно. И действительно, порядочный и знающий человек на своем месте – явление, достойное всяческого одобрения… Но… тут возникла полуулыбка. Нет, никто не говорил «но», это я говорю «но», на месте «но» была половина улыбки. У некоторых она была без слов, на ней все и кончалось. Один сказал: «Он любит подчеркнуть свое сходство с Н., вот увидишь». Это мне мало что говорило, поскольку о внешности Н., замечательного армянского поэта, я имел еще более отдаленное представление, чем о его стихах. Другой сказал: «О, это актер!» Замечание, впрочем, было лишено язвительности: так, просто – актер, и все…
«Спросите его, сколько лет он не был в отпуску», – посоветовал кто-то, совсем уж загадочно.
И что-то проступало в моем воображении – неотчетливое в чертах, но определенное в характере, и мне уже не терпелось сличить эскиз с оригиналом. Пока все совпадало: и маленькая, опрятная, демократичная приемная, наводившая на мысль, что передо мной руководитель не из тех, что в первую очередь заботятся о солидности своего обрамления, а даже из тех, у кого руки до себя не доходят; и секретарша, не красавица и не бывшая красавица, а в самый раз: не высокомерная и не фамильярная, не эффектная и не уродливая, будто и нет ее и есть она… Все пока было так, как костюм от аристократического портного: и сидит превосходно, но не заметишь, как сшито и из чего.
Тут из кабинета вышел некий ходок – старец-горец, чуть ли не в бурке, чуть ли не барашек выбежал впереди него – представитель народа, простой человек… Секретарша тотчас сняла трубку и попросила меня войти. Было ровно одиннадцать, секунда в секунду.
Он сидел в дали большого и длинного кабинета и говорил по телефону. Я приостановился, закрывая за собою дверь, мы встретились взглядами и какую-то долю секунды как бы покачивались, устанавливая равновесие, как бы на концах одной доски. Потом он перевесил: точным кивком, не суровым и не нарочно любезным, он попросил меня подойти. Мой конец поднялся, и я легко, как под уклон, направился к его столу. Это было время, пока я пересекал пространство между нами… И это было именно пространство, потому что ничего, кроме его стола и пары кресел, в кабинете не было. Это до меня даже не сразу дошло самое вопиющее отличие его кабинета… В нем не было ни буквы Т, ни буквы П. То есть никакого такого стола для заседаний. Ни графина, ни стакана. И телевизора там не было. Не помню точно, была ли там модель парусника, но портрета над головой, кажется, тоже не было. Это был кабинет, из которого все вынесли. Но – как бы сказать поточнее – это не был и кабинет, в котором никогда ничего не стояло из того, чего сейчас в нем не было. Опять же не уверен, действительно ли более светлый прямоугольник паркета обозначал исчезнувшую палочку от буквы Т или только квадрат менее выгоревших обоев обозначал бывший портрет. Во всяком случае, таково было мое впечатление, что сидит он под не висящим над ним портретом и что я обхожу не стоящий перед ним стол для заседаний в виде палочки от буквы Т.
Я подошел к его столу (это был обыкновенный канцелярский столик на месте прежнего океанского стола, и на столе ничего не было) ровно в ту секунду, как он закончил разговор и уже клал трубку, вставая со стула и протягивая руку. Нет, он не заканчивал торопливо разговор, так же как и не тянул его до той секунды, когда я подойду, – V он просто успел его вполне закончить к этому моменту. И он не протягивал мне руку, продолжая разговаривать, не указывал на кресло, прижимая трубку плечом к уху, и не пожимал плечами, и не разводил руками, и не строил нетерпеливую гримасу невидимому собеседнику, он не швырнул трубку, закончив разговор… Нет, он попрощался с абонентом, положил трубку, повернулся ко мне и протянул руку, не заставив меня ждать ни секунды. Но – как бы сказать поточнее – он все-таки именно успел все это проделать, и удовлетворение от этого при всей сдержанности таки отразилось на его лице какой-то светлой тенью или бликом, и то, что он не посмотрел на часы, чтобы убедиться, что секундная стрелка стала на 60, объяснялось лишь тем, что он умел владеть собой.
Такой это был человек.
Мы еще раз покачались в равновесии, теперь уже вблизи, на более точных весах, на двух концах рукопожатия. И рука, и ее пожатие были безупречны: ладонь была сухая, но не шершавая, пожатие уверенное, но не сильное, – ив чистоте рук не возникало сомнений. Он нажал рукой на чашку моих весов – и я опустился в кресло.
Это был короткий и уместный взгляд при рукопожатии, и пауза его, его некоторая длинность, едва ли даже могла быть ощутима, но была. Мы еще раз взглянули друг другу в глаза и как бы поняли друг друга. То есть либо мы действительно поняли друг друга, либо каждый из нас по-своему понял другого и постановил оставаться в этом понимании и упрочаться в нем… Во всяком случае, этот взгляд означал, что, включившись в игру под названием «интервью», мы оба беремся не отступать от правил и не выходить за рамки избранной условности, где каждому очевидно, о чем и как нужно говорить, что отвечать и что спрашивать (именно в этой последовательности, то есть ответ обусловливает вопрос). И если так, просто неэтично было бы производить тайком измерения и на другом, необусловленном уровне. Так же неэтично, как приставать со служебной просьбой в бане.
И если так, то я очень виноват. Но полагаю, что и у него осталось от меня кое-какое «второе» впечатление.
Так вот, он взглянул на меня прозрачными зелеными глазами, очень шедшими к его неправильному матовому лицу, и встряхнул чубом, как бы с легкой досадой, что это встряхивание тоже очень ему шло. И тогда легким, неуловимым жестом он как бы смахнул с лица паутинку. Этот жест… я его уже видел.
С внезапной убежденностью и непреложностью я понял, что этот-то жест и принадлежит поэту Н., о котором теперь уже я имел более отчетливое представление, хотя бы внешне. Именно так: не о моем градостроителе (он как раз стал внешне менее отчетлив в этот момент), а о поэте… Это меня поразило, что похожесть столь самостоятельное качество, даже при отсутствии в поле зрения предмета сходства. Но это – в сторону.
Это был прекрасный мужчина, очень хорошо сохранившийся и выглядящий в то же время без вульгарности цветущего здоровья и моложавости: он был идеалом своего возраста, и только эта идеальность соответствия несколько молодила его. В общем, он был физически интеллигентен. Рубашка была идеальна, как и выбритость его щек, причем идеальна в том дивном смысле, что одновременно не выглядела только что вынутой из комода, так же как и щеки его скорее наводили на мысль о кофе и хороших сигаретах, чем о помазке.
Он предоставил мне начинать, и, пока я ползал, формулируя тему, мне и самому-то не вполне ясную, он прозрачно смотрел мне в глаза, внимательно слушал и молчал, впрочем исключительно как вежливый, умеющий слушать и не перебивать человек.
Я же, хотя и обращал по ходу дела свою неумелость в игру неумелости, чтобы внутренне поддержать себя, все-таки действительно мычал и плавал и чувствовал себя все более неуютно под его внимательным и умным взглядом.
– Вы знаете, – из меня потекли жидкие слова, – я совсем не специалист в вопросах строительства, и более того, не журналист в прямом смысле… «Более того, идиот, – подумал я за него, – в прямом смысле». – Начнем с того, – сказал я, – что я ничего не знаю, кроме того, что Ереван знаменит среди прочих городов своим строительством… Что, – говорил я, – вряд ли возможно за короткое время войти глубоко в курс, а по-дилетантски мне выступать, естественно, не хочется, да вряд ли читателю интересно иметь дело с цифрами; что все мы, простые люди, видим изнутри наружу – из окон своих квартир и учреждений, и взгляд наш частей и дробен, а как раз интересно бы узнать мнение человека, смотрящего снаружи внутрь, то есть, – пояснил я, не забывающего о категориях большого и целого, и интересно бы было бы… – Я иссякал, а он слушал. Наконец, как бы взглянув на свои внутренние часы, тем решительным и порывистым движением человека, который не привык терять время, который давно все понял с полуслова и даже прежде, чем я открыл рот, и лишь из вежливости терпел мое пустое многословие, он вступил в игру.
Безупречность была его единственной слабостью.
– Архитектура как средство воспитания человека, говорите вы? – «Когда я это говорил?» – забуксовало у меня в мозгу. – Да, это так. Человек безусловно, первый фактор в строительстве. Не что мы строим, а для кого мы строим. Его духовный мир, его завтра – вот что должно прежде всего заботить нас, пока все находится на бумаге, в чертежах, а не в камне. Не о сегодняшнем дне, не о сроках и процентах – об этом мы привыкли думать, а что будет через пятьдесят лет?! – Голос его зазвенел. – Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Мы все говорим, что строим во имя будущего… Мы привыкли произносить эти слова, совершенно не вникая в то, что они значат. Мы, как правило, совершенно не думаем о будущем, о том, каково будет людям в построенном нами мире… Погрязая в мыслях о производстве, экономии и плане, мы как раз и не думаем о завтрашнем дне…
Поразительно было это «мы»!
Говорил – будто сам строил…
Казалось, он был готов к нашей встрече более, чем я предполагал. Он говорил мне то, что я не надеялся услышать. Он был готов прежде, чем я появился на его горизонте. И поэтому наивно было бы полагать, что я как-то направил беседу. Получалось так, что он говорил мне даже слишком то, что я хотел бы от него услышать. И те полторы мысли, которые возникли во мне в непосредственной связи с моим заданием, которые я уже представлял себе в набранном виде в форме «размышлений писателя», и их он тут же отобрал у меня. Для точного воспроизведения интервью, а раз этот человек настолько полно и осмысленно говорил от себя, то и следовало, по-видимому, ограничиться его точностью, – для такого воспроизведения у меня просто не было журналистских навыков. И я потерялся в легкой панике, на секунду перестал слушать, что же он говорит; обнаружив это, растерялся еще больше и несвойственным и неумелым движением раскрыл записную книжку и записал первую цифру – 50, которую мне потом еще долго пришлось разгадывать, о чем она. Как списывающий ученик, ужас положения которого помножается еще и тем, что, списывая, он к тому же не знает, то ли он списывает, и уже более стыдится написать какую-либо смехотворную глупость, чем получить честную и прямую, как единица, двойку, – так и я даже прикрыл от него ладонью, что же такое пометил я в своей книжечке.
От него все это не ускользнуло, но и он не ускользнул.
То ли записанное пером не вырубишь топором, но существует у нормального, здорового советского человека некое остолбенение и впадение в гипнотическое состояние от любой формы протоколирования. Оттого, что человек напротив взял перо в руки, на тебя хотя бы в первую секунду да повеет подвальным, дежурным холодком… Если и не так, то сработает рефлекс повышения ответственности – и ты споткнешься, запутавшись в согласовании и падежах. Человек переходит из состояния говорящего в состояние отвечающего, а из состояния отвечающего в состояние допрашиваемого, как пар в воду, вода в лед.
Допрашиваемый на секунду уронил глаза, и, поскольку он позволял себе не много безотчетных движений, взгляд этот брякнул, как льдинка, и речь его прервалась. Правда, предложение уже было закончено, и он мог придать всему вид естественной паузы. В общем, он быстро взял себя в руки, даже, можно сказать, подхватил на лету, и продолжал как ни в чем не бывало. Но что-то, по-видимому, бывало. Потому что не передать даже в чем, но речь его с этого момента как бы несколько перестроилась, настроилась на запись. И хотя я все решался, какую же его фразу записать следующей, а решившись, окончательно не слышал, что же он говорит, но все-таки вертел в руках карандаш… Мой собеседник не позволял себе смотреть на карандаш, но взгляд его был уже привязан ниточкой, и, вертя карандаш, я эту ниточку подергивал.
Я все лучше чувствовал его, но все хуже – себя и все меньше мог слушать, что же он говорит. Я входил в его положение, и мне было неловко, какого черта морочу я голову этому серьезному человеку, у которого без меня полно настоящих дел… Действительно, если бы я еще строчил без передышки, то он бы мог забыть про мой кинжал. А то было совершенно неизвестно, какую из его фраз я подстерегаю…
– Среда – средство воспитания… – говорил он и невольно делал паузу, чтоб я успел записать, а я вдруг не записывал, и он немножко терял нить. Потом усилием воли он прогонял наваждение, – …сохранить национальные традиции и творить сегодняшним днем! – Все-таки всякий раз, как он доводил речь до восклицания, перед ним отчетливо возникало видение карандаша, и он ронял взгляд. Речь его была осмысленна и хороша, и тем более можно было обидеться за каждую фразу, почему она не записана, так же как и удивиться, почему записана другая. Дискриминация, которую наводил в его речи мой карандаш, была ничем не оправдана и несправедлива, как любая дискриминация.
И я, как бы отдавшись слушанию, как бы по-честному отложил карандаш в сторону, настолько поглощенный…
И это не замедлило сказаться.
Он дельно рассказал о перспективах роста города, о том, что существует идея локализации этого роста, чтобы город не разбухал в бессмысленных и бесформенных окраинах, а находил внутренние ресурсы в перестройках, перепланировках, ликвидации отсталых и невыгодных в архитектурном отношении районов. Рассказал о трудностях, стоящих на пути этой идеи, о косности мысли иных деятелей, неистребимой приверженности вчерашнему дню, об административной инерции и лени…
Он легко, без одышки взбирался по ступеням слов на самую кручу, мы одновременно оглядывались вниз с легким головокружением и тогда быстро и плавно соскальзывали по спирали его речи в некую тишину и сумрак паузы, остановленного в задумчивости смягченного взгляда и, отдохнув там под кроной предыдущего периода, начинали взбираться вновь.
Это был уже не тот знакомый мне тип оратора, который получает удовлетворение от ладно скроенной фразы, входящий в речь с мужеством пловца и спелеолога… И вот – выбрался из периода! В конце фразы – слабый свет, как выход из пещеры.
Этот не вползал в пещеру, судорожно нащупывая в аппендиксах «который», «что» и «как» выход из нее, не мочил сандалий в лужицах вводных слов – он работал на открытом воздухе…
– Масштабы еще лет пять назад показались бы мифом. Через день вступает в строй пятидесятиквартирный жилой дом!.. Но именно масштабы и не должны смущать наш разум, поглощая в себе и идею и назначение… Мы уже научились обращать внимание на внешний вид здания, даже на его взаимосвязь с ансамблем, но вот внутренние помещения… Задача сейчас – ликвидировать этот разрыв между комнатой и фасадом!
«Разрыв между комнатой и фасадом» – неожиданно я снова раскрыл книжечку и занес туда эту отважную фразу. Неясное соображение забрезжило во мне, когда я фиксировал слово «разрыв», столь уверенно произнесенное, будто это был узаконенный термин. Я записал эту обычную на первый взгляд фразу, поразившую меня каким-то неуловимым несоответствием между ее смыслом и посторонней отчетливостью ее формы… Смысла, остановившего меня, я так и не уловил, тем более задерживаться было некогда; мой собеседник тоже приостановился с разбегу на этой фразе, потому что именно ее стал фиксировать карандаш после долгого перерыва, а это что-нибудь да значило, и, как человек, обегающий внезапно возникшее препятствие, он метнулся в сторону, сделав вид, что туда-то он и направляется. Мой карандаш оплодотворил эту фразу, она превратилась в завязь, и вот уже созревал, набухая, плод. Мое внезапное недоумение над этой фразой было тут же удовлетворено целой речью, возросшей на ней, и эта речь мне многое объяснила…
– Мы требуем от человека, чтобы он с каждым днем работал лучше и лучше, – говорил он со все большим подъемом, как бы плотнее и устойчивей устраиваясь на окончательно выбранной площадке, – и нас не интересует, как чувствует он себя, идя на работу и уходя с нее… Мы постоянно твердим ему о его обязанности и долге перед родным городом… И никто еще не поставил вопрос так: а город должен человеку?! – Он несильно, но выразительно выкинул руку, как бы поместив эту фразу чуть повыше того уровня, на котором она прозвучала: там, чуть в стороне от источника звука, она никелированно блеснула, как большая скрепка. – Человек идет на работу… Какое настроение возникает в нем от одинаковых, убогих и некрасивых улиц? Или, наоборот, настроение его подымается от окружающей красоты и он приступит к работе с духовным подъемом и приливом сил? Разве не стоит подумать о маршруте человека по городу? Чтобы его проход был как бы оркестрован и город в движении был бы точен и продуман, как музыка?.. Мелодия улицы… – На секунду он смолк, как бы прислушиваясь. – Этот эксперимент…