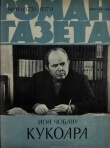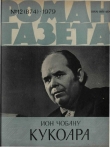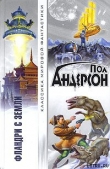Текст книги "Книга путешествий по Империи"
Автор книги: Андрей Битов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
Визит
Это самый знаменитый человек Армении. Хотя «знаменитый» и не то слово. Кто-нибудь, быть может, и более знаменит сейчас. Но он – пока, а этот – уже всегда. Великий сын Армении.
Это-то меня и отпугивало. В мои планы, в общем, не входил визит к нему. Так, если само получится. Опыт общения с великими людьми у меня пока отрицательный. То есть не то чтобы я в них разочаровывался и обнаруживал, что они не такие уж и великие. Маленькие слабости великого человека, наоборот, всегда утоляли мой скептицизм и шли великим на пользу в моем мнении. Дело тут, к сожалению, во мне самом. Я переставал быть собою в их присутствии, глупел, а это неприятно.
Так и вышло, что визит этот откладывался непроизвольно, отодвигался, и вдруг в последний мой день меня повели.
Мы ступили на тихую улочку, там чуть ли не знак висел – «кирпич». Даже прохожих не было. Мне померещилось, что я на ней уже бывал, проходил, но мне никто тогда не говорил, что здесь-то он и живет. Мне это поначалу показалось странным.
Ничего странного, впрочем, нет. Любопытен самый характер его славы. Во-первых, о том, что он здесь живет, как-то и говорить нелепо: всякий знает. Во-вторых, о нем вообще мало разговоров. Разговоры идут по более мелким, частным, сиюминутным поводам. А тут что говорить. Факт. Живет. Всегда жил. Тридцать, пятьдесят, семьдесят лет… Отошли сплетни, пересуды, сенсации – девяносто лет. Что тут говорить? Он – есть. Был всегда. Без него немыслимо.
Мы свернули на эту тихую улочку… И как я ни был предубежден к великим людям, калитку уже отворял с трепетом, и ее тихий скрип звучал пронзительно, а дворик освещался как бы более ярким солнцем. Где-то внутри жила некая ясная, прозрачная дрожь, и я готов был впитывать, как промокашка.
Впитывать же пока было нечего. С особой осторожностью перешагивал я змеиные кольца садового шланга, свернувшегося во дворике. Слева стоял маленький миленький домик, справа возвышалось большое свеженькое здание-модерн: стекло и тот же розовый туф.
Я услышал восклицания и оторвал взгляд от садового шланга, который заставил меня задуматься, деталь ли он, а если деталь, то художественная ли? Явный признак того отупения, что овладевает мною в присутствии великих людей, хотя великого старца еще и не было.
Я поднял глаза и увидел пожилого человека в золотых очках, наследственно интеллигентной наружности. По лицу его волной пробежала тщательно подавленная скука.
Он радостно приветствовал моего провожатого, человека заметного в культурных кругах Армении. «Не может быть», – заторможенно подумал я, но тут же понял, что, конечно, это не мог быть сам. Я улыбнулся широко и тупо, пожал руку, представленный. «Папа! – закричал он через плечо. – Папа!.. ОН в саду, – скромно сказал наш новый знакомый, – пройдемте пока в мастерскую…»
И мы прошли в розовый дом тем тихим, интеллигентным гуськом, где каждый уступает другому дорогу и, таким образом, то один, то другой оказывается впереди, понимает, что забежал вперед, отстает и т. д. При этом еще что-то все время говорится. Первым, привзмахивая руками и как бы даже дирижируя, следовал наш новый знакомый, пояснял на ходу, умудряясь в то же время не поворачиваться к нам спиной (разве на какую-нибудь секунду, ее неуловимую долю, чтобы рассмотреть путь перед собою). В эту-то секунду мой первый провожатый пояснял мне его пояснения шепотом. И я, уничтоженный своими усилиями быть интеллигентным и в то же время сохранять собственное достоинство, хотя где оно, уже было окончательно непонятно, продвигался, внимая обоим, между ними, одновременно, умудряясь не поворачиваться спиной ни к тому, ни к другому, что было очень трудно.
Так мы миновали обширную прихожую, заставленную нежилой мебелью, и еще одну комнату, очень темную, зашторенную, где две женщины, старая и молодая красавицы, лепили на большом столе пельмени. На нас протяжно и непонятно взглянули из этой тишины и сумрака… а мы уже шествовали по новой лестнице. И наконец вошли в фешенебельную мастерскую.
Она только что была отстроена. Холсты, составленные, толпились в центре мастерской, оставляя вдоль стен узкую дорожку. Сверху падал плоский свет. «Папа, папа!» – выйдя на балкон, закричал сын вниз, в сад. Куда-то папа пропал…
Тут он начал показывать нам папины холсты, извиняясь, что не может нам показать их как следует: они только что сюда переехали… Он выдергивал холсты по одному, как из грядки, и сначала осматривал сам, а я тем временем успевал прочесть на тыльной холстине дату и название. Названия, впрочем, были не всегда. Возможно всю жизнь писать горы, фрукты и лица, но невозможно же их каждый раз называть. Осмотрев картину и как бы с удивлением узнав ее, как бы посомневавшись, стоит ли она того, он показывал ее нам. Каждый раз он сомневался – и каждый раз показывал… И лишь одну не показал – так и приставил к стенке, наружу подписью «Весна» и веревочкой (за что вешать).
Как всегда, я не знал, нравится мне все это или нет. Картина всплывала, разрезала пустой объем мастерской, и я ловил в себе отблески восхищения бесконечной любовью художника к родине, восхищения, отчасти мною придуманного, и искреннего удивления перед его трудом: столько фруктов, столько гор, столько лиц! Неужто ни разу за долгую жизнь, столько раз повторив их, не усомнился он в самом факте их существования… И ни разу не захотелось ему, чтобы эта груша перестала быть грушей, стала бы идеей груши, какой-нибудь грушей через два «у» или два «ш», треугольником, шаром… Мне бы захотелось. Но такое поразительное здоровье, при котором все реалии этого мира вечны и вечно достойны воспроизведения в этом длинном-длинном времени каждого дня нашей мгновенной жизни; такое природное сознание, как личный дар этого человека, что на его недолгий срок ему вполне хватит счастья от видения этих горообразных и фруктовых лиц (от множественности, от длины ряда внезапно начинала проступать их общая природа, еще и совпадающая с природой творца), – такое сознание тоже иначе как здоровьем не назовешь… а здоровье в последнее время преимущественно кажется мне прекрасным.
«Папа, папа!» – еще раз, приустав показывать, позвал сын с балкона.
Папы все не было.
Он не любил этот новый дом и предпочитал свой старый флигелек – вполне понятно. Новый дом был прижизненный музей и персональная галерея. Причины постройки музея еще при жизни старика тоже были вполне понятны: посетителей вроде меня тысячи, и это, конечно, тяжело – он был уже очень стар. Велик. Дни его исполнялись как бы все большей ценою и ценностью и требовали хозяйственного к себе отношения – все понятно. Даже трогательно. Но вот что: были ли его дни так же ценны, когда он был молод и влюблен, когда он был гениален? Дни его молодости ничего не стоили, а он жил, чего у него никто отнять не мог. Теперь, признавая и поклоняясь, от него отнимали – а что у старика оставалось? – его дни: они ему не принадлежали, они были национализированы. Старик был одинок для жизни: изолирован заботой и освобожден от выбора. Когда-то ему принадлежало время и не хватало славы, теперь ему принадлежала слава и не хватало времени…
Любовь старику возвращается как младенчество – солнышко, тишина.
Он частенько пропадал, как-то славно сбегал из дому, с живым, теплым торжеством. «Папа, папа!» – но его уже не было, и тщательно скрытое недовольство домашних его побегами было, по-видимому, тем пробуждением живой жизни, которая была еще необходима старику как правда и на которую он еще был способен, как был способен нарисовать еще несколько килограммов груш.
Это сбегание, не такое великое, как у нашего великого старца, не такое значительное, но такое родственное, едва ли не милее моему сердцу. У нашего было слишком много драмы, роли и значения, а в этом сбегании много больше живой потребности, как есть, пить и спать – жить. И почему наш старец не сбежал много раньше? Ведь давненько его гению было все на этот счет ясно…
…Он успевал забрести далеко, он сидел на солнышке со стариками и беседовал с ними, ими не узнанный, наконец равный, свободный, неодинокий… Находили старика, водворяли великого на место, в уют и уход, реликвию и национальную гордость, и жемчужина покоилась в малиновом бархате подушечки, пока не пропадала опять. Но ее всегда находили.
Тут не над кем смеяться – ни над ними, ни над ним. Исправлять нечего. И осуждать нечего.
Опять папа пропал. Мне почему-то очень этого хотелось.
И вот мы спустились, как поднялись. В темной комнате не было женщин они слепили уже свои памятники пельменям. Огромный пес с лапами, помазанными зеленкой, проклацал когтями по паркету и обнюхал нас нехотя на пороге светлой прихожей.
«Папа, ты где пропадал?» – услышал я.
Я был пойман врасплох. Старец сидел в кресле и читал газету, без очков. «Все зубы целы…» – подумал я. Он отложил газету и рассматривал нас, спокойно выжидая.
Удрать уже не было никакой возможности.
Мы заулыбались.
…Он сидел в квадратном кресле, на нем была широкая, черная (в тон кресла) блуза, спадавшая так свободно, словно ничего под ней не было, никакого тела. Голова как бы существовала отдельно и была много красивей, чем на портретах, даже чем на автопортретах. На портретах лицо его выглядело несколько бабьим и чересчур старым. Здесь он был моложе, умней и мужественней.
Мы улыбались.
– Это, папа, ты знаешь, – предупреждая всякие недоразумения, говорил сын, показывая на моего спутника, – это наш знаменитый режиссер с «Арменфильма» такой-то такой-то (Так Такотян)… Ты его хорошо знаешь.
Отец посмотрел на Така Такотяна ясным и приветливым неузнающим взором.
– А эта… – сын указал на меня и сделал заминку для подсказки, – наш гость… – он взглянул на Такотяна.
– Поэт из Ленинграда, – подхватил Такотян.
У меня есть имя, и я не поэт, но тут вдруг, и это было чуть ли не открытием для меня, я обнаружил, что, по сути, это неважно. Мое имя по сравнению с его именем было равно нулю; моя жизнь, хотя бы по длине, по сравнению с его жизнью, была равна зачатию; по сравнению с количеством людей, прошедших через его жизнь, мое количество было равно одному далекому знакомому, причем этим знакомым был я сам. Ну какая разница, думал я, что я – прозаик Битов, а не безымянный поэт «имя им легион»? Это было полезное переживание: я вдруг понял, что имя мне – легион, что слово «поэт» и слово «Ленинград» говорят обо мне гораздо больше, чем имя. Я ощутил себя в истории и легко потерялся в ней. «Что в имени тебе моем…», «Исторической ценности не представляет, самостоятельного значения не имеет…» Я был представителем эпохи. Между нами была эпоха. Быть известным ему не представлялось мне возможным. С равным успехом я мог бы помечтать, чтобы Лев Толстой дал мне «доброго пути» в «Литературной газете». Это была встреча во времени по Брэдбери.
Старец посмотрел на меня с интересом, которого я явно не стоил, – во всяком случае, сиди я на его месте, я бы посмотрел на поэта из Ленинграда с тоскою.
– Из Ленинграда? – спросил он, гениально не придав никакого значения слову «поэт».
Я закивал с облегчением.
Он протянул мне руку. Она вытянулась из пустоты кресла, непомерной длины. Только у стариков бывают такие прекрасные руки, похожие на осенние ветви и похожие (настолько!) на их лица, только у много потрудившихся стариков… Я трусливо поместил ветхую его ветку в свою мясную лапу, и он смело ее пожал.
– Как ваша фамилия?.. Я не расслышал.
Я стал вспоминать свою фамилию. Старец нетерпеливо взглянул на сына.
– Витор, – подсказал Такотян.
– Так? – старец взглянул на меня.
– Битов я, Андрей Битов! – воскликнул я в отчаянии.
– Битов… Битов… – Старец с сомнением покачал головой. – Ты русский? – вдруг пристально спросил он.
– Русский… – ответил я неуверенно.
– Русский-русский? – заточил он вопрос. Тут я что-то начал соображать…
– Русский-русский, – решительно сказал я, отбросив в сторону своих двух немецких бабушек.
– А то, – сказал он задумчиво, и рука взлетела вверх, очень далеко, и оттуда медленно, как лист, стала падать, – поляки, французы, немцы… а где русские? – снова стремительно спросил он.
– Да, да… Где? – повторил я, моргая.
«Откуда поляки? Какие еще немцы?!» – с крайним недоумением думал я. Однако удачно и ловко предал я немецких бабушек!
Мы сели в предложенные нам кресла.
Странный и неуместный восторг овладел мною. Так вот же о чем я непрерывно, мучительно думал с первого шага своего по Армении! Именно об этом! Вот что так тревожило меня. Есть страна Армения – я брожу по ней, вот она. В ней живут армяне. Вот они. Армяне – это армяне. Армяне – есть. А я кто? Русский? Ну да. Никогда об этом не задумывался… Меня мучило сравнение, вот что. Как я не догадался! До самого ведь конца так и не понял, что же так беспокоит меня в наблюдении иной страны. И вот надо же, первые слова, что услышал от старца, показались мне именно об этом. Именно он сказал мне их первый. Действительно великий старик.
Стоп! Куда-то меня занесло… «Поляки, французы…» Откуда он немцев-то взял? Никакой гениальности, даже сомнительной, в его вопросе нет. Что я-то всполошился? Русский, не русский… Стоп.
Тут самое время сообщить следующую мысль. Конечно, неплохо бы усвоить некоторые уроки отношения к своей истории, природе, традициям – это вопросы общей культуры. Но принцип нашего национального существования отличен от армянского, и национальное самосознание строится по иным законам. И главная роль в этом отличии принадлежит арифметике. Все упирается в число. Нас много. Нам некому и незачем доказывать, что мы есть. Все, кроме нас, это знают. Что тут делать?.. То, что прекрасно в маленькой стране, благородно и вызывает восхищение, не может быть в равной степени и в той же логике отнесено к стране большой.
Это похожее на оторопь соображение посетило меня у подножия старца. И если он не подсказал мне эту мысль, то навеял, пусть невольно. Я благодарен ему, что мысль эта сидит теперь во мне как гвоздь. Может, его заслуги в этом и нет, но то, что голова моя как-то особенно заработала в его присутствии, я тоже готов отнести за счет его величия.
Такая простая, прямая, последняя (или первая?) точность – удел лишь великих людей (и не важно, какой он живописец). Как нелепо было с моей стороны рисовать себе образ великого человека на основании собственного опыта! Я ставил себя на его место… Это всегда пустая затея. Никого ни на чье место не поставишь – у каждого свое. Тем более у великого – совсем уж единственное. Как же мог я, невеликий, представить себе величие? Только увеличив самого себя в несколько раз. Но, увеличивая малое, можно создать разве громоздкое, но не великое. Тут другие законы и категории, неизвестные мне, никогда не знаемые. Великий – это в любом случае другой человек. Уж во всяком случае – не ты. Можно представить себя с небольшой долей воображения на его месте. Но это будешь ты на чужом, не своем месте, и ты себе сразу не понравишься, усталый, равнодушный, пресыщенный, и заранее испытаешь антипатию к великому человеку. Будто величие было целью хоть одного воистину великого. Одну мелочь я забыл учесть, рисуя себе великого человека: то, что он – великий. Не поставленный надо мной, не утвержденный свыше, не выдвинутый обществом, как староста… великий – его качество. Ему интересно мое имя именно потому, что ничего, кроме имени и принадлежности роду человеческому, у меня нет, что бы обо мне ни говорили и что бы я сам о себе ни думал. Ему интересны мое лицо, и голос, и жест. Ему Я интересен. Потому что он знает меня, давно уже знает. Ему не надо узнавать про меня. Он может сказать мне что-то, именно мне, потому что другому ОН бы сказал другое.
Скептицизм мой рухнул, обдав меня моей собственной старческой пылью. Старец был моложе меня и потому-то и прожил так долго.
Тот же пес проклацал по полу и улегся у ног старца, разложив по паркету свои зеленые лапы и непомерный мужской мешочек. Старик ласково посмотрел на это чудовище.
– Старая уже? – спросил я с фальшивым сочувствием.
– Нет, совсем молодой, – ответил старик, и тогда я увидел, что и действительно совсем молодой еще пес. Про сто старик был так стар, что и собака его казалась старой.
Сын старца откланялся и пошел в институт, где он, кажется, декан. Такой милый, интеллигентный, старый уже сын, с черным, трогательно потрепанным портфельчиком… Отец поморщился и взглядом не проводил.
– Молодые непонятные пошли… – сказал отец сокрушенно. – Вот куда он опять ушел? На службу? Что они там делают? Что все делают? Что делает крестьянин – понятно, что делает художник – понятно, что делает он, – старец ткнул пальцем в окно, где в люльке висел маляр и докрашивал его новый дворец, – тоже понятно, хотя и не совсем. А вот что они делают – физики, капиталисты, китайцы, фашисты, – кто они такие? Что они делают? Что делят? Едят, пьют, ходят, спорят, заседают, получают зарплату – а что после них остается? Вы слышали про атомную бомбу? – спросил он тревожным шепотом, на клонившись ко мне. (Такотян ухмыльнулся уголком рта.) – Ведь это страшно, так страшно! Ведь сейчас, вы мне по верьте, мне один сведущий человек говорил, – сейчас уже такие штуки выдумали!.. Газы… Представляете? Чтобы всех людей – газом!
Я подумал, что этот, казалось, не получающий информации старик опять точнее нас всех, осведомленных. Ведь мы-то уже привыкли. Угроза нам так близка, и так уже Давно близка, и так хорошо известна, что это уже и не Угроза, надоевший шум, мешающий нам, занятым людям, заниматься делом… А чем мы заняты? Каким таким делом – спохватиться бы… А вот он как стар, а все помнит, что – Земля, что живут на ней люди, что ничего нет прекраснее жизни и священнее ее и что она должна сохраниться, жизнь. Он помнит последнее (или первое?), главное. И говорит свои последние простые слова, их немного, их несколько. Но каждое из этих последних слов на девяностолетнем столбе жизни, в самом первозданном, живом и прямом значении. За каждым из слов такое золотое обеспечение достоинством прожитой трудовой жизни, что не верить этим словам нельзя, и, значит, это самые верные слова на свете. Господи, одни и те же слова, затверженные до непонимания, вдруг снова оживают, проскальзывают, как серебряные рыбы, в заросший тиной пруд и бьются там, живые…
– Один, только один есть выход, – говорит старец, – пространство!.. – И опять рука его взлетает куда-то высоко-высоко. Этот жест тем более завораживает меня, что стремительное это порхание длинных древесных рук про исходит относительно абсолютно неподвижного, отсутствующего под блузой тела. Он мог и не говорить слова «пространство» – так точно передала его рука это понятие. И тут я понял про живопись то, чего не понимал никогда: что живопись – это движение. Только у живописца (не у актера, не у пианиста) возможен такой жест при слове «пространство». Я вижу застывшую картину, статичную, на стене, и на ней все остыло. Она мне кажется нарисован ной, а она – написана. Живопись – это след движения, вот в чем секрет, догадываюсь я. Взмах руки, след мазка. И если живопись прекрасна, значит, движение прекрасно. Вернее, если прекрасно движение, значит, прекрасна живопись. Живопись – это движение, думаю я.
– Пространство… – говорит старец (взмах руки, след мазка). – Земля стала такой маленькой. Нет, это я не образ но говорю. Это на самом деле, физически так. За мою жизнь Земля уменьшилась в несколько раз. Можно объяснить это перенаселением или связью, радио там, самолетами, ракетами… Она крохотная, наша Земля. Это же сигнал, ее уменьшение, – его только понять надо. Раньше она была огромная, трудная, неприветливая – теперь, иногда мне кажется, поместится на моем дворе… Ну как не понять, что это же' призыв в пространство, такое ее уменьшение! Земля – это только площадка. Космос – вот будущее человечества. Пространство… (Взмах, взлет, мазок.) Вот назначение человека! Тут-то нам и надо всем это понять, чтобы овладеть им. Очень, очень тяжело овладеть пространством! И если мы все не объединимся для этой цели, то ничего не получится, и мы погибнем. Все, что было, – предыстория, мы прожили наши несколько тысяч лет, чтобы встать перед такой задачей. Это ведь и была цель человечества – пространство? Запомните, – сказал он, видя, что Такотян встал (он успел мне шепнуть, что нам пора уходить, а то старик очень устанет, разговорившись), – запомните, я вас буду тогда считать своими миссионерами, – он улыбнулся виновато, – и всем объясняйте, что наша цель пространство! В этом наше божественное назначение.
…Некоторое время мы шли молча. Такотян раздражал меня, мне хотелось побыть одному, с мыслями, столь странно разбуженными. К тому же я опасался, что Такотян начнет сейчас посмеиваться над стариком, чтобы показать, что эта болтовня про мир и космос его, такой он развитый, нисколько не трогает. И когда он открыл рот, я сжался, но он сказал вот что:
– Ах, что бы с нами было, если бы его не было? Нельзя представить. Словно и нас бы не было.
Конец (звонок)
Вот и светать начало. Я рвусь к цели, почти потеряв ее из виду. Цель у меня сейчас – уже только конец. Под утро моя машинка стучит, как сердечко, и вместе с ним. Все шустрее и невернее, с перебоями. Позванивает, нарываясь на конец строки.
Очерк, акнарк, намек…
Очерк намечен, очерчен.
Господи, держишь ли ты меня за правую руку?
Я старался. Я пытался быть честным, я пытался быть точным. И мне уже не хватало сил стараться еще и быть понятным. Я рискую быть непонятым и русскими и армянами. Кто я такой, чтобы брать на себя всю эту речь? Да никто. Но никто и не говорит за меня. Я рискую быть непонятым, адрес мой двойствен и неточен. Материал может показаться любопытным русскому человеку, поскольку он так же плохо или еще хуже знает Армению, и тут я проскочу со своим невежеством и наивностью первого взгляда. Чувство же – оно зрелее у меня – более, быть может, будет понятно армянам, чем русским…
Я очень мало знаю Армению, и ни на что не претендую. Поэтому-то и возникла форма уроков начальной школы, учебник своего рода. Я не мог создать сколько-нибудь объективную и точную картину, кроме картины собственного чувства. Я бы назвал свой очерк «Армянские иллюзии», если бы уже не назвал и не построил его иначе. Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я не Армению, а Россию, «ее не победит рассудок мой».
Свою-то родину я знаю, по крайней мере постольку, поскольку я в ней родился и прожил столько, сколько живу на свете, – а как еще что-нибудь можно знать лучше? По сути, эта моя Армения написана о России. Потому что с чем сравнивает, чему удивляется путешественник? Сравнивает с родиной, удивляется несходству: тому, чего у него нет, тому, чего ему не хватает, тому, что есть, но мало, мало. И лишь после этого уже тому, что одинаково, что сходится…
Но уж и Армении я обязан! И если я вернул хоть каплю той любви (конечно же не гостеприимство, нет!), которой она меня столь настойчиво обучала, а именно – любви к своей родине, то я выполнил хоть и не первую, но и не последнюю свою задачу. Во всяком случае, если бы я родился снова, родился бы армянином на твоей земле, я бы безумно любил тебя, свою родину… В чем-нибудь это легче нашей «странной» русской любви.
– Я дал себе слово, – сказал мне однажды мой друг, – что никогда ни о какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего…
И как я согласился с тобой!
И все же – грешу, грешу…
Но – старался быть точным. А никакой другой точности у меня не было, кроме той, что все со мной так и было. И в той самой последовательности. Даже в монтаже не допустил я перестановок во времени по отношению к действительному моему пребыванию в Армении. Вернее, монтаж этот не потребовался. Именно так набирало все силу, и именно в такой последовательности: сначала мне не очень нравился Ереван (если бы не мой друг, то и совсем не нравился), а потом самым сильным физическим впечатлением был Севан (я заболел), а духовным – Гехард, именно сразу после Гехарда выслушал я лекцию о прогрессивном градостроительстве и именно перед отлетом посетил старца, а после этого визита должно уже было вернуться домой: внезапно все обрело свою законченность.
Все могло бы быть и еще законченней… Задержись я на день, то поехал бы в Бюракан, где впервые в жизни посетил бы обсерваторию, и тогда был бы обязан Армении еще и звездами. И до чего бы точно это сейчас сюда легло вслед за старцем и его напутствием в космос! И повествование мое преодолело бы земное тяготение, а в ушах читателя еще долго звучал бы последний космический аккорд, даже после того, как он закрыл и отложил этот учебник. И долго бы смотрел он вслед моей ракете…
Очень многого не успел я повидать в Армении. Что можно успеть за десять дней?.. Я не побывал на знаменитых на весь Союз фабриках и заводах, пастбищах и виноградниках, не посетил лаборатории и институты… Да что говорить! Даже в погребах великого треста «Арарат» я не побывал и не попробовал!.. Я не видел многого из того, чем гордится Советская Армения. От моих заметок до энциклопедического очерка – огромное расстояние. Но так же далеко и энциклопедическому очерку до моих заметок!.. Правда и гармония первого впечатления – достояние, дающееся человеку раз в жизни, и этим можно и следует делиться, потому что за ним (первым впечатлением) простирается такое море познания, что можно, заплыв, потерять из виду все берега…
Я прожил в этой книге много дольше, чем в Армении, – ив этом уже ее содержание. Я прожил в Армении десять дней, а писал ее больше года – я прожил в Армении около двух лет.
Каждый день прибавлял мне так много, что описывать его приходилось месяц. У кого же мне занять столько времени?..
Да, задержись я в Армении хотя бы еще день, читал бы сейчас читатель «Урок астрономии»! Но жизнь диктовала свою точность. В том-то и дело, что точность у жизни одна – та, что есть, и все остальное неточно.
Я сорвался с последнего урока и промотал астрономию.
Я вернулся из школы на час раньше и застал дома тех, кто как раз в этот момент собирался, быть может, уходить из дому. Вернись я на час позже, то и не застал бы. И в этом – своя точность.
Виньетка
Как же я напился в первый свой день на родине! Помню, что встретил на Арбате Рогожина, а дальше ничего не помню.
Проснулся, думал, в Армении. Но смотрю: сарай какой-то странный, сам я и одет и обут, а вместо чистой и тщательной постели, приготовленной руками жены друга или ее сестры, лежу это я на раскладушке, обернутый в тюремное одеяло. Глянул в окно: лужок, березы… Дома! Слава богу!.. «И напиться-то можно только на родине!» – такова была моя первая, вполне патриотическая мысль.
Разулся я, побродил по мокрой траве, такой свежей – какое счастье! Голова чуть меньше болеть стала. Кто бы мог подумать, что и пятки с головой связаны?.. Разыскал друзей, сразу двух: они в другом сарае спали – но Рогожина среди них не было. Бочаров и Чудаков были их фамилии… «Как вы сюда попали? – ответили они мне. – Где мы? Ладно, чего спорить, похмелиться бы…»
Тут и Рогожин – как из-под земли. Все объяснил, хороший человек. Что мы не где-нибудь, а у него на даче. Это мы в сараях, а он в доме спал, с женой и дочкой. Тут же поскребли мы по сусекам: копейка да копейка – рупь. Рогожин, тот пустой стеклотары еще насобирал… Нагрузили это мы Чудакова как самого молодого и на велосипед посадили. Выехал это он по кривой из ворот на большую дорогу и уехал, казалось, навсегда.
Увидел я жену Рогожина– вышла она с дочкой на руках на крыльцо. Обрадовался я ей, заулыбался и руками замахал.
– Глаза бы мои тебя не видели! – сказала она, но дала мне полную кастрюлю щей. А щи, вчерашние, еще трезвые, – утром единственная возможная еда.
Тут и Чудаков, к счастью, припетлял на своем велосипеде. Правда, фару разбил, но сам цел и бутылки целые.
Фара же ни к чему – и так светло.
И вот сидим мы вчетвером, утро такое хорошее, пьем «Розовое крепкое» и щами из кастрюли поварешкой захлебываем. Понемножку и разговор пошел. У меня на душе – Армения, как ссадина. Смотрю на друзей и от любви плачу:
– Как же это – где русские? А мы кто такие? А вот мы где!
И действительно, сидят передо мной Бочаров, Чудаков и Рогожин – уж такие русские, дальше некуда. Волос – русый, нечесаный, глаза – все голубые, как на подбор, немножко красные с перепою, как у кроликов, и носы все курносые, щетина же – рыжая. Такие красивые, не темные – светлые, и лица, как у детей, вточь такие. И вдруг слово забытое поражает меня – отрок! Это же все отроки сидят, кому за тридцать, кому за сорок, а лица-то – отроков. Нетронутые совсем. Никакой мужской побежалости на лицах их нет. Даже щетина кажется первым пушком.
– Отроки мы! – кричу. – Нет и не было на Руси муж чин. Одни пришлые. Псы-рыцари, да варяги, да французишки! Старцы еще были, а теперь нет, теперь старики… Раньше, значит, отроки и старцы, а теперь отроки и старики. Вот оно в чем дело-то!
Смотрят тогда они друг другу в лица, как в зеркала…
– А ведь верно! – говорят. Тут Рогожин и гитару взял.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
И вот уже нет меня – счастье одно. Это я – «в кандалах», это я «кого-нибудь зарежу», а «сердцем – чист». Роняю слезы в щи.
Или:
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Какое же поразительное уродилось на этой сырой земле слово! Русский человек – он весь в слове. Весь в слово вышел. В слове великое утешение и великая беда – слушаешь песню, гениальное слово – и растешь, и ширишься, и это уже твой гений и словно из тебя исходит великое слово, и ты велик, действительно – велик! Оборвалась песня – шлеп на землю. Тупой, глупой, варежка. Выпить, что ли? Разве есть еще хоть один такой язык! Этот язык – и есть наша родина, что за глупые вопросы!
Но безмолвствует, пышно чиста, Молодая владычица сада: Только песне нужна красота, Красоте же и песен не надо.
До чего же хорошо поет сегодня Рогожин!
– Дудки! – кричу. – Есть мы, нет нас – какое кому дело! Мы всегда возникнем! – кричу я. – Просто у них нет больше истории. А у нас все еще история! Большая переменка между уроками истории, как сказал мой великий друг.
И прочее безобразие.
До чего же удивительно русское слово – безобразие. Без образа. Образа нет.
Так и живу я в этом утре по сей день. На коленях кастрюля щей, слезы в щи капают. Передо мной три отрока русых и белокурых – летят три пичужки через три пусты избушки; за окном лужок и березы, белейшие, высоченные; небо над этим самое высокое, и патриаршая церковь на пригорке горит от ранних лучей, как печатный пряник… Гениальная песня, гениальные слова, гениальный певец и гениальные слушатели… И больше – всё. Ничего. Слово – моя родина.