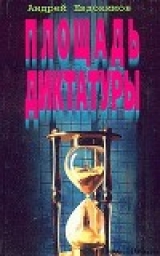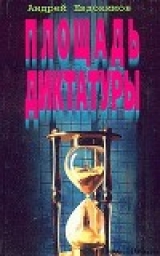сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 59 страниц)
Коршунов просидел в приемной больше часа, успев прочитать и обдумать статью Щекочихина, с которой его ознакомили под расписку. Он собственно читал не саму статью, а копию, размазанную краской от множительного аппарата "Эра", на которой внизу, под грифом "Секретно" уже выстроились в столбец подписи руководителей отделов и служб Управления.
Наконец раздался глухой скрежет, и огромные часы пробили пять мощных ударов. Часы стояли в углу с незапамятных времен и обросли легендой: их, якобы, реквизировал в Зимнем Дворце сам Дзержинский, и поставил к себе в кабинет на Гороховой, выделив среди прочих атрибутов царизма из-за наличия тяжелых и легко снимающихся гирь, чтобы вразумлять непонятливых.
– Проходите, Коршунов, - с последним боем часов сказал дежурный адъютант.
Миновав двойные двери, Коршунов вошел кабинет начальника, но там никого не было и он остался стоять у входа.
– Проходите, Павел Васильевич, - и Коршунов увидел открытую дверцу, обычно закрытую портьерой. За ней оказался обеденный зал с овальным, столом из красного дерева, один конец которого был накрыт льняной скатертью. Сурков уже шел ему навстречу; он, видимо, принимал душ, аккуратно зачесанные волосы поблескивали капельками влаги. Он был одет в идеально отглаженный и застегнутый на все пуговицы двубортный костюм в полоску, и Коршунову стало неловко за свою не совсем свежую сорочку и пузырящийся на локтях пиджак.
– Знаю, вы еще не обедали, так что милости прошу, - Сурков жестом указал Коршунову садиться за стол. - После загранработы никак не могу привыкнуть к обедам. Ведь у англичан в середине дня ланч. Я поначалу так и говорил, но потом узнал, что шепотки какие-то возникли: дескать, чудит генерал, не по-нашему чудит. Думал, думал, потом вспомнил пионерлагерь и придумал: полдник! К полднику уж никто не придерется.
– Да вы не стесняйтесь, Павел Васильевич. По тридцать капель даже доктора рекомендуют. Вот этого возьмите на закуску, - генерал налил рюмки и придвинул блюдо с мелко нарезанной серебристой рыбой.
– Я, знаете ли, Алексей Анатольевич, не люблю селедку, - признался Коршунов и по лицу Суркова понял, что выбрал правильный тон, обратившись по имени-отчеству и показав, что не стесняется, отказавшись от предложенной закуски.
– Господь с вами! Какая же это селедка? - всплеснул руками Сурков. - Это - омуль, натуральный байкальский омуль. Помните, как в песне: "… славный корабль - омулевая бочка"? А вот - копченый лосось, редкий, признаться, деликатес. Даже капиталисты им нечасто лакомятся. Мне товарищи присылают, знают мою слабость по части чревоугодия.
Собеседники чокнулись, но Коршунов не выпил, только пригубил. Водка была сладковато-горькой с едва уловимым привкусом каких-то трав, а омуль, который он все же попробовал, оказался нежным и очень подходил к напитку. Подумав, Коршунов выпил до дна и не отказался от второй, закусив ее знаменитым лососем.
– Наша осетрина не хуже, а кавказская форель на вертеле, пожалуй, и лучше, - осторожно заметил Коршунов, подумав, что не зря приглашен, видимо, генерал хотел приглядеться к нему в неожиданной ситуации.
– Ну, вряд ли стоит портить аппетит спором о вкусах, тем более - гастрономических, - засмеялся Сурков.
Порученец в накрахмаленной белой куртке, как у официанта, принес горячее: ростбиф с овощным гарниром. Мясо было нежным и хорошо прожаренным. Генерал сосредоточился на еде, быстро и аккуратно орудуя ножом и вилкой. Коршунов тоже молчал, не решаясь заговорить первым.
После того, как на столе появился кофейный сервиз, а все лишнее было убрано, Сурков наконец заговорил:
– Сильно ошибается тот начальник, который думает обойтись без подчиненных, но подчиненный, считающий, что может обойтись без начальника, ошибается еще сильнее.
Этих слов Коршунов никак не ожидал - генерал чуть изменил цитату из Ларошфуко, которую он только вчера записал в свой личный блокнот и перед уходом запер в ящик стола.
Заметив удивление собеседника, Сурков довольно улыбнулся:
– Чему ж вы удивляетесь, Павел Васильевич? Я должен знать, чем занимаются мои офицеры в свободное время. О вашем, так сказать, хобби собирать изречения и афоризмы мне давно докладывали. Психологи даже сопроводили ваши выписки обстоятельной справочкой об особенностях вашего характера…
– Надеюсь, ничего предосудительного? - выдавив кривую улыбку, спросил Коршунов.
– Тщеславны несколько выше нормы. Впрочем, "добродетель не достигла бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие", не так ли?
– Начальники нетерпимы к тщеславию подчиненных потому, что оно уязвляет их собственное, - нашелся Коршунов, вспомнив свои записи.
– Ну, ко мне это не относится, а вот глупость и разгильдяйство я действительно не терплю и стараюсь на них реагировать. Иначе моим плечам пришлось бы расстаться с головой. А кому нужна голова без плечей? - добродушно ответил Сурков и, как бы между прочим, спросил: - Так что вы думаете об этой статейке и ее последствиях?
"Вот, зачем он меня позвал", - похолодев, догадался Коршунов.
– Не стесняйтесь, у нас откровенный разговор, - подбодрил собеседника Сурков.
– Следует признать, что при осуществлении оперативной разработки и ее реализации допущены серьезные просчеты. Факт расшифровки оперативного интереса к Брусницыну, а также форм и методов нашей работы безусловно имеет место, - осторожно высказался Коршунов.
– Что-то вы не своим языком заговорили, Павел Васильевич, - прервал его Сурков. - Давайте конкретнее. Главный вопрос: что известно нашему противнику о замысле операции "Дымок" в целом? Какое противодействие следует ожидать в плане засветки и дискредитации наших дальнейших мероприятий?
– Думаю, противник выстроил достаточно точную логическую цепочку, располагая фактами по реализованной части оперплана "Волкодавы" и… - Коршунов замялся, -… разрешите откровенно, товарищ генерал?
– Конечно! - воскликнул Сурков.
– Одним из наших проколов стало совещание в Обкоме. От вас скрыли вопиющие нарушения, допущенные в ходе обыска, благодаря которым Рубашкин стал очевидцем этого мероприятия. С другой стороны проявился фактор случайности: никто не ожидал, что он проберется на совещание в Смольный, запланированное как начало подготовки к завершающей, открытой фазе операции "Дымок". В сложившейся ситуации ваше упоминание о найденном у Брусницына оружии сыграло против нас, засветив следующий этап реализации. В тот момент вы приняли единственно правильное, хотя и нелегкое, решение по нейтрализации главного возмутителя спокойствия - Рубашкина.
– Не занимайтесь подхалимажем, я только утвердил ваше предложение, - вставил Сурков. Коршунов заметил, как на лице генерала обозначились носогубные складки, он выглядел хмурым и сосредоточенным.
– Боюсь, не видать мне поощрения за это предложение, - чуть улыбнувшись, скаламбурил Павел Васильевич.
– Нам не привыкать: либо щит и меч, либо голова с плеч, - взяв себя в руки, пошутил Сурков, но его улыбка сразу растаяла. - Нельзя не согласиться с вашим анализом: схвачена самая суть ситуации. Тем более хочется услышать прогноз.
– Не берусь предсказать, как поведет себя высшее руководство, если наши действия станут предметом информационного противоборства. В нынешних условиях у нас нет подавляющего преимущества в этой сфере.
– Пожалуй, не только подавляющего, вообще никакого преимущества! - воскликнул Сурков.
– К тому же в настоящий момент мы утратили главное в замысле всей операции: инициативу, - продолжил Коршунов. - При продолжении операции нас могут вынудить уйти в глухую оборону - пойдут проверки, заверещат депутаты-демократы, вроде Станкевича с Собчаком…
– Ну, с этими-то справимся, - отмахнулся генерал.
– Сегодня утром я готовил справку о положении в районе. Получается, что при полном напряжении всех сил и средств, включая партийный и комсомольский актив, удалось провести всего пять митингов с нужной направленностью. На них собрали меньше двух тысяч. А неформалы, не имея никаких организационных ресурсов, легко привлекли на свои семь сборищ свыше десяти тысяч. Если же учесть численность демонстрации в защиту Гдляна и Иванова, то завтра мы рискуем получить массовые акции по поводу Брусницына. Вы приказали говорить откровенно, поэтому скажу, что ситуация тревожная, есть признаки, что она выходит из-под контроля.
– Вижу вы клоните к тому, что следует свернуть операцию? - прищурившись, как от яркого света, спросил Сурков.
Все будет зависеть от того, что он ответит, подумал Коршунов и, глубоко вздохнув, коротко выдохнул: "Так точно! Следует свернуть!"
– Ну, что ж, ваше мнение убедило в правильности моего решения. Для Москвы подготовим справку по "Волкодавам" в самых общих чертах, не вдаваясь в глубину предварительной проработки и ее связи с замыслом операции "Дымок". Я прошу вас немедленно подключиться к ее подготовке. Для этого я освобождаю вас от нынешней должности. Пока будете за штатом в моем непосредственном подчинении. Не забудьте: виновные в расшифровке спецмероприятий должны быть примерно наказаны. В первую очередь, этот - как его, Арцыбашин?
– Арцыбулин, товарищ генерал!
– Да, Арцыбулин! Надо же придумать - хлестать водку во время обыска, черт знает с кем. Таким вообще не место в органах. Пусть гуляет, дышит свежим воздухом, пока зима и снега толстый слой, - Сурков было повысил голос, но передохнув, продолжил сухо и ровно. - Предложения по остальным - на ваше усмотрение, кроме Косинова. Нечего ему в аппарате Управления делать! Переведем с понижением на ваше прежнее место. Думаю, пока все. Проекты документов представите лично мне по мере готовности в течение ближайших трех… нет, двух дней, начиная с завтрашнего.
Коршунов понял, что беседа подошла к концу и, встав, попросил разрешения уйти.
– И последнее, Павел Константинович! - окликнул его у самых дверей генерал. - Я не оговорился: Павел Константинович! Интуиция мне подсказывает, что скоро придется забыть ваш оперативный псевдоним. Конечно, Коршунов - это хорошо, это устрашает! Орел, ястреб, коршун - смелые и гордые птицы. Видят противника с большой высоты, поражают стремительно и беспощадно. Именно так жили и работали наши предшественники. Но, боюсь, грядут другие времена, и у меня есть на вас определенные наметки. Впрочем, еще будет время их обговорить. Все! На этот раз действительно все. Можете быть свободны!
2.17.5 В сумерках
На душе было маятно беспокойством и неприкаянностью. Еще утром Рубашкин опять разругался с женой. Накричав обидное, он оделся теплее и сунул в карман куртки недопитую вечером бутылку "Пшеничной" с бутербродом из плавленого сырка "Дружба". На последнюю перед полуденным перерывом электричку он успел вовремя. В вагоне было пусто и зябко, из щелей в полу и окнах несло сырым холодом.
Прислонившись к стеклу, Рубашкин с трудом продышал дырочку в наледи. У несущихся мимо пейзажей было только два цвета: черный и белый. Белыми были низкое небо, поля, крыши и хлопья снега на неподвижных елях; черным - все остальное, даже ватник на старушке, куда-то бредущей вдоль полотна, казался темным.
На остановке в Солнечном он вышел и по пути, не торопясь, выпил полбутылки прямо из горлышка. Стало тепло, даже жарко, но хмель не подступил, голова оставалась ясной.
"Выпили, но не забалдели", - Рубашкин вспомнил любимую шутку Бори Горлова, когда не хватало.
До залива было километра два: сперва по долгой и прямой, всего с одним поворотом Вокзальной улице, потом чуть наискосок вдоль старого, проложенного финнами еще до революции Приморского шоссе.
Дойдя до перекрестка, Рубашкин аккуратно опустил пустую бутылку в заваленную снегом урну у входа в магазин. Внутри было пусто и убого, как в колхозном сельпо. В дальнем конце, привалившись грудью к прилавку, скучала пожилая продавщица в меховой телогрейке поверх халата.
– Мне бы пару пива, - попросил Рубашкин.
– Пива не завозят, еще на той неделе кончилось, - оживилась она.
– Тогда маленькую "Московской", - заметив знакомые бело-зеленые наклейки, обрадовался Рубашкин.
– Вы с Луны свалились? Или иностранец? Не знаете, что винно-водочные до двух не даем?
Рубашкин посмотрел на часы - оставалось чуть меньше четверти часа.
– Я подожду, - сказал он.
– До трех! - злорадно ухмыляясь, уточнила продавщица.
– Почему? - выходя из себя, крикнул Рубашкин.
– С двух до трех обеденный перерыв! А будете выражаться, милицию вызову. Вот, видите кнопка?
Рубашкин проглотил готовое сорваться ругательство и, выходя, изо всей силы пнул ногой дверь. Но громкого хлопка не получилось, только скрежет проржавевшей пружины. С наружной стороны двери намертво приклеился кусок бумаги с крупными буквами:
В семь часов поет петух,
В десять - Пугачева.
Винотдел закрыт до двух,
Ключ у Горбачева!!!
Рубашкин рассмеялся и злость, как рукой сняло. Прочитав дважды, чтобы на всякий случай запомнить, он пошел не к морю, как собирался, а по шоссе в сторону города. Дома стояли заколоченными, было тихо и пусто. Голые неподвижные деревья будто плыли в густом молочном тумане.
А летом здесь все было ярким и праздничным. За голубыми или зелеными заборами играли дети, хлопало под ветром разноцветное белье, шла отгороженная и загадочная жизнь опрятных государственных дач. Их обитатели изредка выходили за границы своих владений и запросто прогуливались от дома до золотистой кромки залива. Секретари райкомов, горкомов и обкомов, утомленные работники исполкомов: Фрол Козлов, по слухам проворовавшийся еще при Хрущеве, безвестно канувший Юрий Замчевский, полные тезки Смирновы - оба Николаи Ивановичи, один был председателем горисполкома, другой командовал Советской властью в области, - Василий Толстиков, придумщик суда над Иосифом Бродским, навеки впечатанный в мировую историю громогласными призывами закрыть эрмитажные залы импрессионистов.
Здесь отдыхали Булганин, Маленков, Хрущев, Суслов, Косыгин, Андропов и многие, многие другие - их следы давно замело мелким прибрежным песком, замыла неугомонная финская волна.
Последними были сменивший Толстикова Григорий Васильевич Романов и Юрий Филиппович Соловьев, бесцветный и, пожалуй, самый безобидный из всех ленинградских секретарей, ничего плохого о нем не говорили. Впрочем, и хорошего - тоже. Даже Гидаспов, за семь месяцев прославился больше, чем Соловьев за несколько лет!
Рубашкин помнил многих - на лето родители снимали у хозяев покосившийся сарайчик с керосинкой и старинным примусом.
В детстве отец водил его гулять к "Арке" - так называли деревянную ротонду с надписью "Курортный район Ленинграда". Рядом кустились чайные розы и между ухоженных клумб замысловато извивались посыпанные толченым кирпичом прогулочные дорожки. Петру было года три или четыре, когда на придорожном холме соорудили пятипролетную каменную лестницу, а на самой вершине возвысился памятник Сталину. Местные обходили это место стороной. Днем и ночью Арку и памятник охраняли милиционеры.
Однажды памятник исчез, будто его и не было. Дикий шиповник задушил чайные розы, а ротонду потихоньку растащили на дрова. Но, удивительно: лестница осталась! Проваливаясь в снег, Петр поднялся по ее скользким ступеням и запыхавшись, остановился.
Верхушки деревьев между шоссе и заливом едва колыхались далеко внизу, за ними выстлалась гладь замерзшего залива, а над трубами заводов в Кронштадте клубилась дымная мгла. Правее, на Западе было светло, и черная кромка берега тянулась до горизонта. Там, в глубине нависших надо льдом туч пробивался багряный отблеск. Внезапно край неба озарился красным и алым, и вслед высветилось заходящее солнце. Оно полыхало, будто языки пламени в бушующей угольной топке, но неудержимо валилось куда-то вниз, на глазах истончаясь до узенькой полоски. За считанные секунды оно исчезло вовсе, оставив над собой только быстро темнеющие бордовые отблески.
"Куда все подевались?" - подумал Рубашкин, заметив что за несколько часов не встретил ни одного человека. Даже асфальт на обычно оживленном шоссе был ровно запорошен снежной пылью. - "Почему нигде никого нет?"
Рванул резкий порыв ветра, от которого заскрипели деревья, и высоковольтная линия отозвалась глухим гулом осевших под наледью проводов.
Рубашкин решил не возвращаться на станцию, а пройти километров пять до Сестрорецка и там сесть на поезд. Почти час он шел по середине шоссе, только раз уступив дорогу встречной машине. Когда он поднялся на путепровод над железной дорогой, и внизу засветились огни Сестрорецка, пошел косой снег, порывы ветра лепили в лицо влажные хлопья, и от них слипались глаза.
Рубашкин чувствовал ломоту и озноб, ноги будто перестали слушаться, но он миновал поворот к вокзалу и продолжал идти в сторону Ленинграда.
– Черт с ними! Дойду, обязательно дойду! - говорил он вслух и, пошатываясь, вышагивал дальше.
Поздно вечером на глухом участке между Лисьим Носом и Ольгино его обогнала и остановилась грузовая машина.