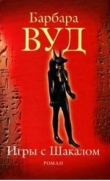Текст книги "Полукровка. Эхо проклятия"
Автор книги: Андрей Константинов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Знаешь, если бы я тогда рванул со всех ног, возможно, и не догнали бы. Но я так перетрусил! Стою как дурак, ничего понять не могу. Пытаюсь платье из-под рубашки вытащить, а оно, как назло, за брючный ремень зацепилось… Так меня с этим платьем, на штанах висящим, и повязали.
– Били? – в ужасе спросила Самсут.
– Да ну, что ты! Это же не Россия! Здесь народ вполне себе культурный, а за полицию и говорить не приходится… Подошли двое, вежливо так под локоточки взяли и – вниз. Посадили в патрульную машину и отвезли в участок.
– А дальше?
– А дальше посмотрели они на мой молоткастый серпастый, позвонили куда-то, отвели в камеру, велели ждать. Я думал, они за консулом поехали, но нет, оказалось, ни фига подобного… Часа через два заходит ко мне мужичонка в штатском и, не представляясь, начинает вести задушевную такую беседу. Это я уже позднее догадался, что он был из СЕПО.
– А что такое СЕПО?
– Шведская политическая полиция. Вернее, контрразведка… Особо рассусоливать со мной он не стал. Говорит, у вас, мол, господин Головин, теперь есть только два пути. Первый: прокатиться в местный суд, получить свой честно заработанный год за кражу, после чего отправиться в общеуголовную тюрьму. За своих домашних, дескать, не беспокойтесь – мы им обязательно сообщим. И в консульство сообщим, и в театр, и в вашу профсоюзную организацию… Веришь-нет, я после этих его слов чуть в обморок не грохнулся. Это ж позор-то какой! Актер Ленинградского малого драматического театра попался на мелкой краже в магазине. Ключевое слово-то даже не «кража», а именно что «мелкой».
– А второй путь? – нетерпеливо перебила отца Самсут.
– А второй вполне себе банальный: я вполне официально прошу убежища в Швеции и выступаю с несколькими политическими заявлениями. С теми, которые они мне сами и напишут. Словом, невелик выбор: либо во всеуслышание объявляют тебя вором, либо – диссидентом, подпольным борцом с коммунистической тиранией… В общем, ситуация как в присказке нашей бабушки Маро про курицу, которой «всё едино, свадьба или поминки»… Дали они мне на раздумье полчаса, больше просто нельзя было – наша труппа уже на паром грузилась. Но мне и десяти минут вполне хватило: раз уж, куда ни кинь, всё одно – клин, так уж лучше прослыть «узником совести», нежели мазуриком, эдаким «голубым воришкой Альхеном». Вообще-то был еще и третий вариант – удавиться от стыда да позора. Но в камере с веревкой, сама понимаешь, плохо, да и брючный ремень у меня на всякий случай отобрали… Потом-то я, конечно, узнал, что развели меня эти самые «сеписты» как фраера лопоухого.
– Как это развели?
– Да так, как наперсточники на рынках разводят. По всем местным законам никакая тюрьма мне за это несчастное платьице не светила вовсе. Максимум – денежный штраф да запрет на последующий въезд в страну… Но мы же советские люди были, у нас в крови панический страх перед правоприменительной системой на генетическом уровне заложен! В общем, слаб в коленках оказался твой отец. Не смог поддержать репутацию героического однофамильца…
– Это ты какого однофамильца имеешь в виду? – не поняла Самсут.
– Как это какого? Разумеется, Камо.
– Это того самого, которого иголками кололи, а он терпел, притворяясь сумасшедшим?
– Ну да.
– Но какое отношение он имеет к нам?
– Да в общем-то никакого, кроме фамилии.
– Какой фамилии?
– Тер-Петросян, разумеется. Ведь это девичья бабушкина фамилия.
– Надо же, а я и не знала… Но, погоди, а что же мама? Почему ты ей потом не написал, не позвонил, не объяснил? – в отчаянии вскинулась Самсут. – Она ведь до сих пор уверена, что ты осознанно сделал тогда свой выбор, а нас просто-напросто бросил на произвол судьбы!.. Господи, папочка, если бы только знал, как все эти годы, пока была жива, проклинала тебя бабушка Маро!
– Неужто даже проклинала? – горько покачал головой отец.
– Да. Ей было больно осознавать, что ее сын, ее Матос продал, причем не какую-то там абстрактную Советскую страну, а настоящую родину. Даже две: родину предков – Армению и свою – Ленинград… «За сытую жизнь все равно как за тридцать сребреников», – говорила она… Ой, папочка, прости меня, дуру, пожалуйста, – осеклась вдруг Самсут. – Представляю, как тяжело тебе всё это сейчас слушать.
– Ничего, дочь, всё нормально. Зная характер нашей Маро, примерно такую ее реакцию я себе и представлял. Но… что сделано, то сделано. Прошлого все равно не воротишь… А написать или позвонить поначалу я вам не мог в принципе. Я же первый месяц, пока под их диктовку заявления делал и интервью давал, в специальном изоляторе сидел. Это уже потом, когда шумиха улеглась и более я сделался шведам категорически неинтересен, меня в еврейский лагерь для переселенцев перевели. Там я полгодика просидел.
– А почему в еврейский?
– А черт его знает! – улыбнулся Матос. – Знаешь, шведам, им, в принципе, по барабану, каких ты кровей-корней. Здесь все толерантны до умопомешательства. Скорее всего, просто кто-то решил, что, раз диссидент из СССР, значит, обязательно еврей. Ну а нам, армянам, как и татарам, всё едино. К тому же, из сугубо меркантильных соображений, в материальном плане всё было довольно неплохо. Там ведь как? Половину содержания платила местная еврейская община, синагога, а вторую половину – государство… Да и свободы, конечно, стало побольше. Я, кстати, как только переселился, первым делом отправил Гале телеграмму, в которой предложил ей заочно развестись.
– И мама высылала тебе уведомление о разводе?! – потрясенно переспросила Самсут. «Так вот, значит, что мать имела в виду в тот день, когда во всеуслышание объявила, что у меня больше нет отца!»
– Ну конечно. А разве ты не знала?.. Ты только пойми меня правильно, Самсут, – с этими словами отец сделался необычайно серьезен. – Решиться на это мне было непросто, безумно непросто. Но я прекрасно понимал, что жить в Союзе жене «изменника родины» ой как тяжко. Кто ж тогда знал, что скоро задуют все эти ветры перемен?
– Ну а хотя бы письма?
– Писем я вам не писал всё по той же причине – не хотел, чтобы их гэбэшники читали. И потом – разве в письме всё расскажешь? Да и не умел я никогда письма писать: вечно со мной так – вроде хочешь одно сказать, а на бумаге прочтешь – совсем другой смысл получается.
– Но почему же ты не приехал к нам потом? – не унималась Самсут. – После всей этой перестройки, в девяностые, когда с загранпоездками не стало абсолютно никаких проблем?
– Десять лет – довольно большой срок, дочь. Я хотел дать Гале шанс забыть про меня и начать новую жизнь Встретить другого, путёвого, работящего, правильного мужа.
– И правильного отчима для меня?
– Ну, к тому времени ты была совсем взрослой девочкой и едва ли нуждалась в отце.
– А вот я, представь себе, нуждалась! – не без нотки вызова в голосе резко отозвалась Самсут.
– Извини, дочь, я хотел сказать, «не нуждалась в той степени, как раньше». Я детство имею в виду.
– Зачем же ты все-таки прислал нам ту рождественскую открытку?
– Понимаешь, к тому времени я уже год как сошелся с Хельгой. Одному, да еще и в чужой стране… тяжело всё это, дочь. Я ведь здесь больше десяти лет один был, бобылем жил, а потом Хельга подвернулась… Она женщина в общем-то неплохая, разве что угрюмая малость.
– Это я заметила, – съязвила Самсут.
– Во-во. Так что ты ничего такого на свой счет не подумай, она со всеми такая. Ничего не поделаешь – скандинавская ментальность. Здесь женщины в большинстве своем величавы, холодны и неприступны. Как скалы, как вечная мерзлота. Не то что наши стожки-реченьки малороссийские… – здесь отец закашлялся и поспешил сменить тему. – В общем, взяли мы кредит в банке и аккурат под Рождество купили дом в Кепинге. Видишь ли, жить в Стокгольме, безусловно, престижно, но безумно дорого. Да и суеты много. А здесь – совсем другое дело… Вот тогда я и решил отправить вам открытку. Так, на всякий случай. Чтобы вы просто знали мой новый и, скорее всего, последний адрес, – невесело заключил Матос. А потом вдруг неожиданно добавил: – Но в России после перестройки единожды я все-таки побывал! Правда, всего полтора дня, поэтому мало что успел посмотреть.
– И где же именно ты был? В Москве? – предположила Самсут.
– Зачем в Москве? В Ленинграде, естественно… Знаешь, никак не могу привыкнуть к этому новому помпезному – «Санкт-Петербург». Тем более что сия красочная обертка ничуть не соответствует нынешнему внутреннему содержанию. Как мудро написал про это мой бывший ленинградский кореш Мишка Сапего: «Санкт-Петербург! А в моем Ленинграде не было столько ворон».
– И в каком году это было?
– В мае 1992-го.
Услышав эту дату, Самсут невольно вздрогнула: в том месяце она уже была в декрете и с трудом носила свой гигантский живот.
– Но почему ты не зашел к нам?! – потрясенно воззрилась она на отца и, кажется, даже крепко сжала при этом свои кулачки, словно бы намереваясь атаковать его в зависимости от полученного ответа. – Господи, папа! Какая же ты у нас с мамой всё-таки бестолочь!!!
Глаза Матоса увлажнились, мгновенно среагировав на ее невольно вырвавшееся, отчаянное «у нас с мамой».
– Я… Дочь, я очень хотел, я собирался… я, вот честное слово, – сбивчиво принялся объяснять отец, – я очень хотел вас всех увидеть. В конце 1991-го, когда МДТ опять приезжал в Стокгольм на гастроли, я ходил на все спектакли… Из ребят, ну которые актеры, никого уже не знал, но вот монтировщиком сцены, представь себе, у них по-прежнему трудился наш вечный жид, дядя Аркаша! Вот с ним-то мы вечерком и встретились – посидели, выпили… Прощаясь, попросил его по возможности разузнать про вас: как? что? где?.. Конечно, особо не надеялся, но аккурат под Новый год Аркаша прислал мне письмо. С полным, что называется, отчетом. Тогда-то я и узнал, что Гала замуж так и не вышла… И что три года назад умерла мама, а еще раньше – дед Иван… Про тебя Аркадий написал: дескать, дочь настоящей красавицей стала, учится на педагога в Герцена, весной будущего года заканчивает институт… Вот после этого письма я и решил: поднакоплю к весне деньжат и рвану-ка в Ленинград. К дочери, на выпускной… Ты гляди, – невесело улыбнулся Матос, – даже в рифму получилось.
– А дальше?! – не в силах сдерживать свое нетерпение, потребовала Самсут.
– Прилетел я в Питер. Как сейчас помню: аккурат в день готовящейся к самоликвидации пионерии, девятнадцатого. Сразу из аэропорта рванул к нам. Вернее, к вам… Как-то очень быстро добрался, еще в восьмом часу. Устроился на нашей любимой лавочке, той самой, что в кустах сирени спрятана, и принялся ждать, когда ты из дома выйдешь, в институт поедешь. Долго ждал, часа полтора, не меньше, где-то под две пачки «Мальборо» успел скурить. И тут, наконец, ты выходишь. Я смотрю – а у тебя животик такой… Короче, внушительный. Месяцев эдак на восемь тянет.
– Семь, – машинально поправила Самсут. – Просто Ванька очень крупным родился. Это он сейчас – кожа да кости… И что же ты?
– Я, признаться, тогда просто обалдел! Сижу, прикидываю: если я сейчас, как чертик из табакерки, перед тобой выскочу, ты, чего доброго, тут же и родишь от неожиданности. Какие тут, на фиг, выпускные в институте, ей в роддом пора собираться!.. В общем, иду за тобой. Держусь, как филёр киношный, в почтительном отдалении. Так до самой женской консультации тебя и проводил… Ну, думаю, раз уж взялся в шпионов играть, надо идти до конца. Поехал в Герцовник. Зашел на факультет, постоял у доски объявлений. Читаю, так и есть: «Головина Самсут Матосовна – академический отпуск». Спустился в курилку, потолкался среди студентов. Ну а, поскольку была в портфеле у меня вечная валюта – блок «Мальборо», – расположить к себе молодежь оказалось делом нетрудным. Десять минут наводящих вопросов, и общую картину я себе уже более-менее представлял. И про тебя, и про этого твоего козлину… Виталий Алексеевич, так, кажется, его звали?..
Закусив губу, Самсут напряженно кивнула. В последние годы она уже без былой обиды, ненависти и боли вспоминала красавца аспиранта, увлекавшего десятки студенток речами о Достоевском и его романе-пророчестве, почти запрещенном в те времена. Виталий Алексеевич казался ей воплощением какой-то манящей романтической инфернальности. Неудивительно, что горячая головка юной Самсут пропала тогда безвозвратно… Но сейчас, когда отец своим рассказом невольно затронул потаенно-забытые нервы-струны, ей вдруг снова сделалось невыносимо тоскливо. А еще совсем некстати вспомнились слова Карины о том, что женщины намного умнее мужчин, хотя бы по одному тому, что никогда не выходят замуж за красивые ноги. «Одна я дура», – в который раз с горечью подумала она. Впрочем, дело здесь, наверное, все-таки заключалось не в глупости Самсут, а, скорее, в каком-то буквально катастрофическом невезении. Ведь на Руси дуракам, говорят, везет. А что же ей, славной представительнице сего рода-племени, до сей поры в жизни так и не попёрло?
* * *
– …Потолкался я у кафедры русской литературы и наткнулся-таки на этого деятеля наук, – продолжал тем временем Матос. – Веришь-нет, один только разочек в глаза посмотрел и сразу понял: с этим – разговаривать бесполезно. Не в коня корм. Да и про свадьбу июньскую с дочкой декана, истфака что ли, мне к тому времени уже нашептали… Ну что, думаю, Матос, прямо сейчас засветить этому светиле российской науки в рыло или погодить малость? Решил погодить, одного рыла в такой ситуации было явно недостаточно. Спустился на улицу, выбрал стратегически правильный наблюдательный пункт и принялся ждать… Где-то в восьмом часу выползает он, с той самой дочкой декана под ручку. Я – за ними. Они – прямиком в кабак, в «Чайку» на Грибоедова, я – туда же. Они из кабака в метро, я – следом. Короче, проводил он свою кралю до дому и только тогда уж поехал к себе, на Воинова. Вошел я у него на плечах в подъезд, убедился, что сзади никто не идет, и окликнул – не по батюшке, а исключительно по матушке, разумеется. И вот когда он, удивленно так, обернулся – тут-то я ему и врезал: сначала, как и первоначально планировал, в рыло, а потом по всем остальным местам прошелся. Особенно налегая на те, которые за процесс деторождения ответственны. По ним я ботинками прошелся, чтоб для полной уверенности… Мм, знаешь, все эти годы мне отчего-то было безумно интересно узнать: сыграли они тем июнем свадьбу?
– Сыграли, – потрясенно кивнула головой Самсут, – только не в июне, а в августе. Он до начала июля в больнице лежал.
– Приятно слышать, – удовлетворенно причмокнул губами Матос. – А детей они впоследствии заимели, ты часом не в курсе?
– Не знаю. Кажется, нет.
– Значит, нормально я тогда… прошелся. Но это я сейчас, после почти десяти лет, такой смелый. А тогда выскочил из подъезда, воздуха холодного глотнул, а самого натурально трясет. Вот ведь, блин, думаю, а обратно в тюрягу попадать чего-то совсем не хочется. Тем более, не в трехзвездочную шведскую, а в нашу, доморощенную, отечественного розлива. В общем, как ни крути – опять на Камо никак не тяну… Но тут благо такси свободное проезжало: тормознул, доехал до Лиговки, а там пересел на автобус и прямиком на площадь Победы, в «Пулковскую». Ночь в номере пересидел – сна ни в одном глазу, трясся как заяц, все боялся, что сейчас за мной заявятся «двое с конвоем». Ну а утром первым же рейсом обратно в Швецию. Что называется, «поматросил» – и бросил… Такая вот поездочка получилась. Ты уж прости меня, Самсут, но это было всё, что я тогда смог сделать для тебя.
– Спасибо, папа, – тихо проговорила Самсут и нежно прикоснулась к его чуть дрожащей руке. – Нет, конечно, не за то, что ты сделал, – это… это просто ужасно… И все же спасибо тебе! Отныне я твердо знаю – в моей жизни был и есть, пускай всего один, но зато – настоящий мужчина. Мужчина, который готов за меня заступиться.
– Дочь, у тебя так совсем никого и?.. – смущенно-виновато спросил отец.
– Нет, – хмуро подтвердила Самсут. – Настоящего – никого. А так… Возникают, периодически, на горизонте разные всякие красавцы. Восхищаются, клянутся в вечной любви до гроба. Но только до гроба всё как-то не дотягивают – максимум, до моего сообщения о Ваньке. После чего начинаются исключительно предложения вечной дружбы. Или вечной постели. Но и дружба, и постель, как ты знаешь, вечными, по определению, не бывают.
– Извини.
– Да ничего, всё нормально, папа. Ой, зибо! – Самсут случайно бросила взгляд на часы и в испуге подскочила. – У меня автобус через двадцать минут!
– Как, уже?! – вслед за ней подорвался и Матос. – Слушай, дочь, а может, бог с ним, с этим автобусом? В конце концов, уедешь завтра. А мы бы с тобой сегодня…
– Прости, папа, но вечером у меня самолет. Понимаешь, ну никак не переиграть, путёвка и всё такое…
– Понимаю. А куда ты летишь?
– На Кипр.
– Здорово! Представь, а я, когда в Швеции остался, в какой-то момент подумал: ну да нет худа без добра, хотя бы мир теперь посмотрю… Но какое там! За все двадцать лет лишь несколько раз по работе в соседнюю Финляндию смотался. Да один раз в Австрию слетал, «Парсифаля» послушал. А так…
– Ты в театре работаешь?
– Да что ты, бала! Какой театр? Кому здесь, на фиг, сдался русский артист второй категории Матос Головин? И тогда, в начале восьмидесятых, а уж сейчас – и подавно!
– Чем же ты все эти годы занимался?
– Да чем только не занимался. Был и монтировщиком сцены, и плотником, даже водителем автобуса работал. А последние три года у нас с Хельгой свой маленький собственный бизнес. Фирма «Матозиус Шёстрем»! Идиотски звучит, правда?
– Очень даже красиво звучит, – не согласилась Самсут. – А что ваша фирма производит?
– Мы печем лаваши! – не без гордости озвучил Матос.
– Ла-ва-ши?! Вай ме! Ну и как бизнес?
– Отбою от клиентов нет, – улыбнулся отец. – Шведы обожают всякого рода экзотику. Особенно гастрономическую.
– Рада за тебя, папа. Ну, всё, мне пора.
– Что ж, пойдем, я хоть провожу тебя, – суетливо засобирался Матос. – Ты извини, дочь, я бы обязательно сам тебя отвез, но мы с тобой немножечко… – он махнул рукой в сторону стола, на котором красовалось початая бутылка коньяка, – …немножечко пригубили, а здесь с этим делом очень строго. Прав лишают влёт. А я теперь без машины как без рук.
– Я понимаю.
– Хочешь, я могу попросить Хельгу, и она отвезет тебя прямо в аэропорт?
– Не надо, папа, спасибо. Я прекрасно доберусь сама.
– Ну, как скажешь, – тяжело вздохнул Матос.
Они вышли во двор, и тут вдруг отец неожиданно вспомнил:
– Постой, Самсут, ты ведь собиралась спросить меня о чем-то важном!
– О, черт! Хорошо, что ты мне напомнил! – И Самсут, сбивчивой скороговоркой, поведала отцу о своем разговоре с Хоровацем и историю с таинственным наследством…
* * *
– …Даже и не знаю, что тебе на это ответить, – растерянно проговорил Матос, выслушав ее рассказ. – Скорее всего, это действительно просто розыгрыш. Ни о чем таком я никогда не слышал. Хотя я по глупости своей очень мало интересовался фамильными скелетами в шкафу и прочей генеалогией. Посему… Слушай, а что, если ключ к этой якобы загадке содержится в бабушкиной тетради?
– Так она у тебя? – встрепенулась Самсут.
– Ну да. Сам не понимаю, за каким таким лешим я решил взять ее с собой, уезжая на гастроли? Кажется, просто хотел скоротать время в пути, в кои-то веки поизучать семейные предания. Но как в автобусе раскрыл её – так сразу и убрал обратно в сумку. Я ж с армянским никогда не был в ладах.
– Послушай, папа, если эта тетрадка тебе сейчас не нужна, можно я возьму ее с собой?
– Да-да, конечно, – Матос поспешно скрылся в доме и через минуту вернулся, держа в руках тетрадь, тоненькую, но большого формата, в ветхой обложке из черного, с красными прожилками, картона. Он протянул ее Самсут, присовокупив дискету в пластмассовом футляре.
– А это что? – спросила Самсут, взяв в руки дискету.
– Это… Это я как-то попросил одного здешнего армянина перевести текст на русский. Думал, может, употребить при случае в дело…
– Но так и не употребил?
– Нет. Здесь это никому не нужно и не интересно…
Они добрели до автовокзала – автобус на Стокгольм уже подали под посадку. Отец и дочь какое-то время молча постояли, обнявшись, словно бы успокаивая друг друга.
– Ты не забывай меня, бала! Очень тебя прошу! – Голос Матоса чуть подрагивал.
– Конечно, папа! – кивала ему Самсут, пряча мокрые от слез глаза. – Обещаю, как только мама с Ванькой возвратятся из Ставищ, я сразу же возьму его в охапку и мы приедем к тебе. Честное слово!
– Спасибо, дочь. Да, слушай, и вот еще что, – он слегка отстранился, полез во внутренний карман куртки и достал из него кусочек желтого пластика. – Вот, возьми.
– Что это?
– Это кредитка «Виза». В последние годы я понемножечку откладывал деньги. Там не очень много, тысяч двадцать-двадцать пять. Всё ждал подходящего момента, чтобы… И вот, как видишь, дождался.
– Папа, я не…
– Прошу тебя, ничего не говори! Просто возьми – и всё. Это для тебя и для внука. Очень тебя прошу!
– Спасибо, – дрожащими пальцами Самсут осторожно взяла кредитку.
– Код для снятия денег семизначный, – пояснил отец.
– Боюсь, столько цифр одновременно я не запомню, – грустно улыбнулась Самсут.
– Запомнишь, он очень простой. 320.26.94.
Услышав знакомое сочетание цифр, Самсут, не выдержав, разрыдалась в голос, уткнувшись головой в плечо отца.
То был номер телефона их ленинградской квартиры.