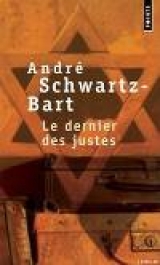
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
ШТИЛЛЕНШТАДТ
1
Биньямин задержался в Варшаве. Он никак не мог выбрать страну своего изгнания. У него было такое чувство, будто он играет в детскую игру. Названия стран, которые ему предлагали, казались такими же причудливыми и выдуманными, как названия, которые он с мальчишками надписывал на еврейских классах, когда они прыгали по их клеточкам: «хала», «вздох», «фунт орешков», «обида», «курятина», «поляк ударил», «миллион злотых», «тиф», «ангелы» и, наконец, «погром». Шарик катился по названиям, занесенным в список Эмиграционного комитета, влек его за собой от одной страны к другой и грустно возвращался к исходной точке ни с чем.
На слове «Англия» он вовсе не задерживался: это ведь остров, как с него бежать в случае чего? На слове «Америка», наоборот, он останавливался охотно, но лишь из праздного любопытства туриста: это слово напоминало прежде всего о необходимости пересечь грозный океан, который навсегда разлучил бы Биньямина с родителями, а затем оно напоминало отрывок из Библии, в котором дано описание плясок вокруг Золотого Тельца, потому что бывший хозяин Биньямина, земиоцкий портной, сравнил как-то эти пляски с жизнью американских евреев, а потом представлялся и сам Телец: жирный, похотливый, выпучил свои слепые глаза и смотрит на творение Всевышнего. Что же касается слова «Франция», то оно просто раздражало слух: сразу же вспоминалось слово «Дрейфус», а Биньямин его слышал не раз. Говорили, будто французы сослали этого Дрейфуса на Чертов остров. Уже одно название вызывает дрожь, как же можно при этом туда податься?
И, наконец, после этого путешествия по горестному миру Биньямин решил в пользу слова «Германия».
Ведь немецкие евреи, как ему сказали, настолько хорошо устроены в этой стране, что многие из них чувствуют себя немцами чуть ли не больше, чем евреями. Это во всяком случае любопытно, хотя и не похвально, но свидетельствует главным образом о мягкости и терпимости немецкого характера. Биньямин немедленно воодушевился, представив себе, насколько чувствительны, обходительны, наконец, благородны эти немцы. Настолько, что евреи в восхищении не могут устоять и всей душой стремятся тоже стать немцами.
Берлин разочаровал его сразу же. Ну и город! Ни конца, ни края. Сутки еще не прошли, как Биньямину захотелось из него удрать. Но, Боже милостивый, на сей раз куда? Комитет поселил его вместе с другими беженцами из Восточной Европы в бывшую синагогу. Большой зал был расчерчен мелом на «комнаты», в которых жили целые семьи. Коридор шириной с полметра (тоже нарисованный мелом) вел к выходу. Каждый делал вид, что не замечает присутствия соседа. Переступить меловую черту значило вторгнуться в чью-то личную жизнь. Поэтому, прежде чем зайти в гости, люди с улыбкой произносили «тук-тук-тук» и вежливо ждали ответного «войдите». Казалось, все с ума посходили, оттого что у них нет крыши над головой. На веревки, прикрепленные к потолку, люди подвешивали – кто зеркало, кто картину, кто семейную фотографию… И только дети не обращали внимания на «стены», зачем-то нарисованные взрослыми, что вызывало постоянные ссоры.
– Все они ждут квартир и верят, что получат их! – в первый же день сказал Биньямину молодой человек, разместившийся возле самого «коридора».
– А вы чего ждете? – улыбнулся Биньямин, беспокойно поглядывая на выплывшее из тени лицо: рыжие вихры торчали во все стороны, поперечная морщина, как шрам, рассекала лоб.
– Я? Я жду прихода Мессии, но он не торопится, – съязвил молодой человек. – А зачем ему торопиться? Перед ним вечность! Ну, ладно, здравствуйте!
Так произошла первая встреча с несчастным молодым человеком из Галиции, которого Биньямину предстояло видеть еще долгие недели; он либо лежал, либо сидел на кровати, обхватив голову по-старчески дрожащими руками. Биньямин подозревал, что он умирает с голоду, и поэтому, получая от Комитета вспомоществование, сразу же предлагал молодому человеку разделить с ним яичницу, кошерные сосиски (совсем как дома!) или другие деликатесы, которые сам готовил. В зависимости от настроения молодой человек из Галиции либо принимал приглашение (хоть и раздраженно улыбаясь), либо оскорблял Биньямина раньше, чем тот успевал рот раскрыть.
– Хоть бы кто-нибудь меня избавил от вас! – закричал он однажды на Биньямина.
– Извините, – пролепетал Биньямин. – Я как раз работу нашел… решил устроить маленький праздничный ужин… Понимаете?
– Убирайтесь-ка вы отсюда, – сказал молодой человек уже спокойнее, почти великодушно. – Знаю, знаю: вам ужасно хотелось найти работу. Я заранее себе представлял, как вы будете из кожи вылазить в тот день, когда найдете ее, и от счастья на седьмом небе окажетесь. Вот я и поздравляю вас. Чего вам еще?
– «А у кого не будет вечером куска хлеба?» – затянул Биньямин.
Мягкий свет озарил тусклые глаза молодого человека, потом ровное пламя затрепетало и вдруг вспыхнуло непонятной злобой.
– Вот вы и ешьте за меня! – вызывающе выкрикнул он.
Биньямин предусмотрительно попятился назад под дружный ропот соседних «жильцов». Они единодушно клеймили позором молодого человека из Галиции, хоть их и коробило слишком хорошее отношение к нему Биньямина – они усматривали в столь деликатном обращении некий упрек их рассудительности добропорядочных людей.
Вернувшись в свою «комнату», Биньямин оглянулся: молодой человек уже успел принять обычную позу – обхватил голову руками и весь ушел в никому не ведомые мечты; эти мечты надежно охраняли его одиночество от окружающего мира и враждебные взгляды двух сотен людей для него не существовали. «О чем он все-таки думает?» – спрашивал себя Биньямин, испытывая острую тревогу не только от присутствия молодого человека из Галиции, но даже при одной мысли о нем.
Биньямин уткнулся в котелок и без всякого удовольствия принялся за кошерные сосиски. «Я, наверно, слишком надоедаю этому несчастному парню, но если бы он только знал, как мне и больно и тепло в его обществе…»
На минуту перестав жевать, Биньямин, наверно, в тысячный раз вернулся к наболевшему вопросу: пресловутое «острие» колет только других или его самого тоже?
Однако Биньямин почувствовал большое облегчение (хоть и упрекнул себя в том), когда на следующий день, проходя по дороге на работу мимо молодого человека из Галиции, убедился, что тот едва скользнул по нему пустым взглядом. Молодой человек лежал на кровати одетый и бесцеремонно выставил босые грязные ноги прямо под нос детям, которые играли возле него в «коридоре», стучась в воображаемые двери. На его лице не дрогнул ни один мускул. Да, он окончательно перерубил последнее волокно слабого крепления, удерживавшего его еще в синагоге, и теперь Биньямину казалось, что он с каждым днем все дальше и дальше уходит от родного берега, плывет на своей кровати в открытое море, известное лишь ему одному, и только грозные бури отражаются в его глазах.
Однако молодой человек из Галиции, с которым у Биньямина, как он считал, все было кончено, появился в его жизни снова – на сей раз в образе товарищей Биньямина по швейной мастерской. Они тоже были заражены (правда, в меньшей степени) «берлинской лихорадкой», как он сам назвал это душевное состояние, когда пришел его черед испытать это состояние на себе.
Все работники господина Фламбойма были беженцами, уцелевшими от погромов. И, хотя на всех остались, можно сказать, следы кораблекрушения, в мастерской царила атмосфера язвительной насмешки и горькой иронии по поводу прошлой жизни в Польше или в России, которую они старались представить в более черном свете, чем она была на самом деле. Какой-то бесовский дух вселился в этих несчастных людей. Он превращал чистую воду в кровь, уничтожал на корню само понятие добра, не давал взрасти ни одному побегу еврейской мысли. Биньямин протягивал руку, и ему чудилось, будто он видит, как на ней появляются когти. Он никому не противоречил, благоразумно не поднимал головы от иголки, но это не помогало: все копья, стрелы и шпильки были направлены именно против него. Над ним потешались. Однажды в отсутствие хозяина закройщик по имени Лембке Давидович вскочил на стол и, «по-берлински» оскалившись, не то серьезно, не то плаксиво выкрикнул:
– Послушайте, если наш раввинчик будет и дальше оставаться девственником, у него на спине крылышки вырастут! Вот будет здорово! Всем хватит пищи! Вы или я, или последний немецкий сморчок – кто только проголодается, тот и цапнет себе крылышко или лапку, и – пожалуйста, ешь на здоровье! А знаете, что будет потом? Кроме ангельского сердечка, ничего не останется! А скажите мне, дорогие мои соотечественники, кто позарится на сердце, на этот дряблый кусочек мяса? Грош ему цена в базарный день! Даже на берлинской бирже он и то не котируется! И вот тогда возьмут этот жалкий ошметок, усадят в поезд, и ту-ту! Гремите, Божьи трубы: еврейское сердечко едет домой!
Его речь вызвала бурное оживление. Оратор раскланялся на все стороны, спрыгнул со стола и стал пожимать тянувшиеся к нему руки. О жертве совсем уже забыли, как вдруг кто-то закричал:
– Смотрите, смотрите, он поранился!
Биньямин оторопело смотрел на свой палец, с которого текла кровь, да еще прямо на рулон светлой ткани.
В мастерской стало тихо.
– Это мы его ранили, – тихо сказал Лембке Давидович.
– Это мы, – послышался еще чей-то голос.
– Неужели мы уже все позабыли? – начал снова Лембке, глядя на Биньямина с таким удивлением, словно впервые открыл для себя его присутствие в мастерской.
Плотная фигура Лембке Давидовича, казалось, осела под тяжестью этого открытия. Длинные ресницы дрогнули, глаза округлились, и взгляд стал по-женски печальным и растерянным.
– Неужели мы и впрямь стали «немецкими господами»? – наконец, произнес он.
Его смущение тотчас же передалось остальным работникам господина Фламбойма. Кто-то взволнованно спросил:
– Кость хотя бы не повреждена?
Лембке подошел к Биньямину.
– Послушай! – закричал он, размахивая руками.
– Скажи что-нибудь! Ну, обругай ты нас! Только не молчи! Да скажи же хоть слово!
Но Биньямин лишь задумчиво качал головой. Глаза у него блестели от еле сдерживаемы» слез, и он не переставал сосать пораненный палец, что придавало ему печальный и в то же время комичный вид. Вместе с горьким привкусом собственной крови он уже вкушал сладкое чувство, подсказывавшее ему, что у этих людей навсегда отпала охота ранить его.
2
Биньямин стоял перед синагогой и, неистово вытирая ноги в польских башмаках о грязную и мокрую от снега тряпку, думал о том, что в этом подлом мире одной головой не обойтись.
А войдя внутрь под высокий темный свод, едва освещенный крохотными язычками свечей, сразу же почувствовал тоску при виде этих людей, выставленных на всеобщее обозрение. Вон старик под одеялом охает, вон молодожены прильнули друг к другу и застыли, пригвожденные любопытным взглядом бледной девчонки. А вон и мать девчонки – присела на корточки возле печи и как бы пытается удержать дрожащими руками языки пламени, которые так и норовят улизнуть по холодным как лед плитам. А какой шум поднимают дети! Биньямин не знает, то ли слух у него обострился, то ли их крики стали пронзительней от долгого заточения в этой огромной общей спальне без воздуха и света…
– Уже вернулись, господин Биньямин?
Биньямин остановился посреди «коридора». Он немедленно узнал этот голос, но сделал вид, будто всматривается в темноту, пытаясь понять, кто его окликнул.
– Вы и узнавать меня уже не хотите, дорогой господин?
Биньямин смутился.
– Простите, здесь темно, прямо хоть глаз выколи. Ну, Янкель, что хорошенького расскажете?
Страдальческое лицо молодого человека из Галиции выглянуло из тьмы.
– Ничего. Жив еще, – проговорило это лицо. Юношеская худоба только подчеркивала горькие складки вокруг нервного рта и длинного висячего носа с горбинкой. Из узких глаз исходил такой холод, что Биньямин едва выдержал их взгляд.
– Да входите, входите, честное слово, я за вход денег не беру, – сказал Янкель спокойно.
По необычному поведению юноши Биньямин тотчас же учуял, что в так называемой комнате «пахнет душевной болью», и, осторожно подняв ногу, аккуратно переступил меловой круг.
– Ну, Янкель, как жизнь идет?
– А она мне не идет: слишком велика на меня и в длину и в ширину. Или слишком мала, не знаю. Но вы, наверно, спрашиваете себя, с чего это Янкель вдруг заговорил со мной, целых два месяца не здоровался и вдруг – здрасьте вам. Не иначе как яичницы захотелось или кошерных…
– Нет, нет, – запротестовал Биньямин, – ничего такого у меня и в голове не было!
– Извините, – сказал Янкель, – я просто не знал, как подступиться. Уж такой у меня язык. Не язык, а нож во рту, сам чувствую. Стоит ему высунуться, как он тут же кого-нибудь ранит. Только, знаете, он не всегда был таким, мой язык…
– Правда?
– Правда-правда, – рассмеялся Янкель. – Когда-то язык у меня был шелковый, можете мне поверить! Когда-то… Да садитесь, садитесь. Ну, зачем на краешек! Располагайтесь поудобнее. Вот так. А теперь дайте посмотреть на вас. Полюбоваться, так сказать, новым человеком. Ах вот оно что! На вас еще шерстяная кепка! И все те же неуклюжие башмаки! И хасидский кафтан! Боже мой, вы еще и пейсы не остригли! Вы что же, до сих пор не знаете, что живете в Берлине?
– Это я не знаю? Вы что, шутите? – удивился Биньямин.
Молодой человек из Галиции неопределенно улыбнулся.
– Еще как знаю! – взволнованно продолжал Биньямин.
– А раз так, – удивленно зашептал Янкель и, не спуская беспокойного взгляда с соседних кроватей, в отчаянии заломил руки под самым носом у Биньямина, – если вы это знаете, как же вы можете… ну, скажем, ходить по улице… Нет, в самом деле, вот, идете вы по улице или даже лежите, как, например, я сейчас… Вам не кажется, что вас что-то давит? Вы не чувствуете, как наваливается на вас какая-то тяжесть? И с каждым днем она увеличивается…
Биньямин даже подскочил от испуга: кто-то читает его мысли!
– Ну, конечно! – оживился он. – Вы очень точно говорите. Именно тяжесть. И… и даже шаг ускорить нельзя: фонари мешают…
– Какие фонари? При чем тут фонари?
– Ну, как же! – слегка усмехнулся Биньямин. – Раньше я ходил посреди тротуара, знаете, как немцы, военным шагом. Но на меня все смотрели, и я начал семенить поближе к домам. Все бы ничего, да вечно кто-нибудь из парадной выходит или фонарь торчит на дороге.
Янкелю понравился ответ Биньямина, но он не подал виду.
– Ну, и как же вы из этого выкручиваетесь?
– Представьте себе, – сказал Биньямин, переходя на шутливый тон собеседника, – да простит меня Бог, хожу осторожненько, бочком, бочком, семеню себе, как положено еврею.
– Как положено еврею! – расхохотался Янкель.
– А люди? Или вы полагаете, что вам удастся не сталкиваться с людьми?
– Где там! Ой, люди, люди! От них-то и «тяжесть», о которой вы говорите. А мне еще ни разу не удавалось избавиться от нее… Тем более здесь. Даже когда я представляю себе, что сижу дома, там, в Польше, она и тогда давит меня. Люди здесь и правда ужасные. Хуже машин! Даже евреи… – Биньямин задумался. – Даже евреи давят меня. Ну, так что же, прикажете рвать на себе волосы?
Биньямин заметил, что на соседней кровати сидит человек, уткнувшись в раскрытую на коленях Библию, и не шевелится. Свеча, которую он держит возле виска, освещает морщинистое лицо и курчавую бороду. Будто страж ночной. Биньямин почувствовал, что он прислушивается к их разговору. Янкель перехватил взгляд Биньямина и презрительно бросил:
– Брат мой и соплеменник! Не обращайте внимания на сумасшедшего старика. Он воображает, будто занят размышлениями. Сыч он противный! Ночью то и дело заглядывает мне в лицо – хочет знать, сплю я или нет.
Человек даже не поднял глаз и лишь слегка вздрогнул, отчего свеча наклонилась, и неживой слезой на книгу упала капля воска.
– Ну, видите, все мы варимся в одном котле! – зло загоготал Янкель.
Его голос опять стал свистящим, а рука рассекла темный воздух и сорвала коричневое кашне, обмотанное вокруг шеи. Под кашне оказалась рана. Черная струйка крови запеклась на шее и на голой груди, покрытой легким пушком.
– Последний подарок Берлина! – засмеялся Янкель.
Огорченный Биньямин догадался, что Янкель борется с желанием что-то рассказать, что признание комом застряло у него в горле, и участливо спросил:
– Брат мой, пожалуйста, расскажите, что они с вами сделали…
Темноту пронзил ледяной смешок.
– Ну, знаете, вам признаваться – одно удовольствие: ничего не пропадает зря, все входит в ваше доброе сердце. Ох, сердце, сердце! А все почему? Потому что вы еврей, можно сказать, из наших. Ангел, а не еврей!
Заметив покорное выражение на лице Биньямина, Янкель смягчился и, согнувшись в три погибели, глухо сказал:
– Простите. На мой язык не надо сердиться. Вот уже два года, как ему тесно во рту: он не знает покоя, так и выворачивается, так и выворачивается.
Его сгорбленная спина неожиданно распрямилась, широко раскрытые глаза затуманились, а голос зазвучал по-детски растерянно:
– Подумать только! Два года! Даже не верится! Мне все кажется, что это случилось вчера. Каждое утро, когда я открываю глаза, мне кажется, что погром был вчера. Вам тоже так кажется, дорогой мой брат? Странно. Нет, в самом деле странно, что время остановилось. Понимаете, я все еще сижу в колодце. Понимаете, в том, куда я тогда спрятался. Вода мне по горло, а там наверху – круглый кусок голубого неба, он даже ни капельки не изменился. А потом стало тихо-тихо. Я и сейчас слышу, как кругом тихо. Вот, пожалуйста, – ни одного звука… Потому что, когда я вылез из колодца, у нас в местечке уже не осталось ни души. Синагоги тоже не было. Ничего уже не было. Кроме меня, конечно…
Янкель хитро подмигнул, словно в том и заключался необычайный фокус, который с ним проделали.
– Да, да, – зашептал он снова, – я всех-всех похоронил, все местечко – ноготка не осталось. И над каждым прочел молитву. Даже над этим паршивым жуликом Мойшеле, моим соседом. Над каждым, над каждым я прочел все молитвы. От первого до последнего слова. Я же в то время был знаменитым молельщиком перед Всевышним, ай, ай! И целую неделю я все хоронил и хоронил, хоронил и хоронил… В местечко носу никто не показывал – крестьяне боялись. А когда кончил хоронить – почувствовал себя глупо, неловко: ну, а теперь что? Понимаете? А дальше что? Что дальше? Было это на кладбище. Я очнулся, начал хватать камни и швырять их в небо. И в какой-то момент небо раскололось. Вы меня понимаете?
– Еще бы! – пробормотал Биньямин, глотая украдкой слезы. – Очень даже понимаю.
– Раскололось. Как простое стекло. И осколки на землю попадали. И вот тогда я себе сказал: «Янкель, если Бог – в этих осколках, что же в таком случае значит быть евреем? Ну-ка, посмотрим поближе». И что вы думаете? Как я ни смотрел, как ни разглядывал, кроме крови, я ничего не видел. Кровь, сплошная кровь… А смысла – никакого. Ну, ладно, а какое место занимает в мире еврейская кровь? Вот в чем вопрос. И что делать еврею, который больше уже не еврей? А?
В полумраке синагоги безумный взгляд молодого человека из Галиции делал его лицо неправдоподобным. То мертвенно бледное, то пылающее жаром, оно призрачно поблескивало от пота в желтоватом свете коптящих свечей.
– Что же не нашел себе хорошую еврейскую девушку? – боязливо спросил Биньямин. – Такой красивый парень…
Янкель на секунду сбился, но тут же тряхнул головой, словно отгоняя неуместное вторжение в его рассказ, и зарычал:
– Будете вы меня слушать или нет? – Он схватил Биньямина за локоть с такой силой, что тот даже вздрогнул. – Ну, значит, сегодня они устроили демонстрацию, – без всякого перехода заговорил он о чем-то другом, словно торопясь покончить со своим безумным признанием. – Нет, конечно, не евреи. Вы что же хотите, чтобы евреи начали выставлять напоказ свою беззащитность, свою слабость? Интересно, как вы себе это представляете: армия несчастных окровавленных сердец вышагивает по Унтер ден Линден – раз-два, раз-два… Так, что ли? Ой, вы – просто прелесть… Нет, – продолжал он с какой-то сдержанной яростью, – демонстрацию устроили спартаковцы. Серп и Молот. И вот, я увидел, как они идут по улице… Спокойно так – прямо река течет. А над головами – красное знамя. Я и сам не понимаю, почему бросился в их ряды… Но, хотите, верьте, хотите, нет – сначала они меня не распознали. Иду это я с ними в ногу, вижу перед собой знамя… Так странно было… Вы меня понимаете? Я даже их духом проникся. Ха-ха-ха! Но тут ко мне обернулся сосед: «А тебе какого черта здесь надо, жид? Тут ведь будет драка!» Он сказал это беззлобно, просто от удивления. Но тот, что шагал сзади, заорал: «Провокатор! Не иначе как провокатор!» И тогда… Тогда они вытолкнули меня на тротуар… Но я за себя отомщу! – неожиданно заорал он, переполошив всех обитателей спальни. – Отомщу! Вот увидите!
Мгновенно вокруг странного разговора выросла стена молчания.
– Что же все-таки они с вами сделали?
– Ничего. В том-то и дело, что ничего. Они же вас топчут, не замечая! Идут себе, а вы под ногами валяетесь. Вот они и шагают по вас! А как же иначе? И тогда я сказал себе: «Янкель, сердечко мое, ты мне доставишь большое удовольствие, если постараешься не попадать больше в такое дурацкое положение». Вопрос только в том, что делать еврею, который больше, уже не еврей? Что должен он делать, чтоб не стать на четвереньки? Сегодня я целый день об этом думал и, кажется, придумал. Это очень просто. Достаточно лишь… Словом, так: ага, ты хочешь потащить меня на бойню? Ну, так я сам стану живодером!
– Что с вами! Кого вы собираетесь убивать?
– Кто говорит «убивать»? – Янкель растянул рот в ехидной улыбке. – Никого не нужно убивать! Может, вы и готовы к этому, а я – нет. Мне еще нужно подумать! Э, да о чем тут толковать… – вдруг добавил он рассеянно.
Усевшись на кровати поудобнее, он с любопытством начал следить за Биньямином своим пронзительным взглядом, как за пойманной птицей. Казалось, он вдруг увидел, что между ним и этим бледным трепыхающимся птенцом лежит целая пропасть. «Ну, как вам это нравится! – говорил его взгляд. – И что меня дернуло довериться этому пустому месту!»
– Ладно, – наконец, произнес он, насмешливо улыбаясь, – вам этого все равно не понять, вы еще стоите одной ногой в прошлом, так сказать, в сонной грезе. Впрочем, как и все эти несчастные, – добавил он, указывая величавым жестом на окружающих. – Ну, идите, идите. Дайте мне побыть одному.
– Да вы же сами начали разговор, – неуверенно возразил Биньямин.
– Знаю. Спасибо вам. Начал, потому что во мне еще живет маленький Биньямин, который бьет крылышком. Ай, как ему не хочется умирать! Посмотрите, посмотрите, как он отбивается! Тсс! Не мешайте нам теперь уснуть. Мне и ему. Ладно?
И вспомнив про недружелюбное окружение, Янкель раскланялся на все стороны и, улыбаясь, потрепал Биньямина по щеке. Потом он поднял длинные руки и спокойно стянул с себя майку, словно был один в четырех стенах. На голом теле, испачканном кровью, торчали худые ребра.
Биньямин молча посмотрел на него: что все это значит? Рассеянно поскребывая пейсы, он поднялся и, не сказав ни слова, прошел к себе. С чувством облегчения он перешагнул меловую черту и принялся готовить фрикадельки. Съел самую малость и улегся на матрац с мыслью о том, будут ли его сегодня заедать клопы, как обычно. В синагоге все еще стоял негодующий ропот, потом наступила ночь, огласившаяся плачем бессонных малышей. Биньямин закрыл глаза, и ему представилось, что меловой прямоугольник начинает медленно подниматься вверх… Вот он уже превратился в стены, которые дошли до потолка и стали такими толстыми, что вскоре Биньямин почувствовал себя надежно укрытым от всего мира.
На следующее утро кровать Янкеля оказалась пустой. Но вернувшись из швейной мастерской, Биньямин обнаружил, что ее уже заняла похожая не черепаху старая дама, одетая во все черное. Не успел Биньямин с ней поздороваться, как она втянула голову в плечи, словно торопилась спрятаться в скорлупу своего возраста. Биньямина даже смех разобрал.
Тремя месяцами позже молодой человек из Галиции появился в последний раз. Рассеянный, ко всему равнодушный, сидел он на самом краешке кровати у Биньямина, ни на кого не смотрел и с какой-то, можно сказать, нежностью катал по одеялу оказавшуюся там катушку ниток. Его нескладную длинную фигуру украшал костюм английской ткани, а цыплячью шею наполовину скрывал крахмальный воротничок, под которым болтался ошеломительный галстук. Замедляя шаг, Биньямин еще успел отметить, что кудлатая рыжая пакля превратилась в прилизанную прическу с аккуратнейшим пробором посредине. Лицо по-прежнему было худым и бескровным, но губы пополнели и выпятились вперед.
– Простите, – сказал он, вставая и протягивая Биньямину холеную руку, – я позволил себе зайти в ваши апартаменты без приглашения.
Холодные глаза смотрели по-прежнему грустно, хотя пополневшие губы подрагивали в иронической улыбке.
– Чтоб меня холера взяла, если вы не стали другим человеком! Настоящий «господин»! – воскликнул Биньямин и тут же об этом пожалел.
– «Другим человеком», говорите? – огорчился Янкель.
– Но как? Каким чудом?
– Успокойтесь, брат мой, я никого не убил. Просто стал коммерсантом. Я торгую. Что, возможно, еще хуже.
– А чем вы торгуете?
Янкель улыбнулся хитро, как старая лиса, но глаза и на сей раз остались печальными.
– Брат мой, – по-мальчишески вызывающе сказал он, – в Берлине все покупают и все продают.
Острая жалость к Янкелю вдруг пронзила Биньямина. Рука его поднялась сама по себе и боязливой птицей опустилась Янкелю на плечо. Губы тоже раскрылись сами собой, давая волю откуда-то появившимся непривычным словам.
– Брат мой, очнись, прошу тебя! К чему тебе весь этот стыд, этот ужас?
Но Янкель, видимо, остался глух к его словам, и, испугавшись своей непрошенной смелости, Биньямин отдернул руку.
Однако его столь сильный душевный порыв все же подействовал на Янкеля. Он встал, напустил на свое постное лицо загадочную улыбку и дрожащим от усталости голосом пробормотал:
– Еврей. Настоящий еврей! Из наших! Ах, какой вы благородный. До того благородный, что хочется выбить вам зубы. Все до одного.
Он резко повернулся, переступил меловую границу и, пройдя по синагоге своим крупным неровным шагом, вышел и исчез навсегда.
А еще через час, забираясь под одеяло, Биньямин обнаружил между матрасом и подушкой спрятанный там конверт и догадался, что в нем целое состояние. Несколько строк на идиш были выведены каллиграфическим почерком конторщика: «Милый человечек, эти деньги – вполне законная прибыль от вполне законной торговой сделки. Они украдены честно, по всем правилам коммерции. Видимо, скоро мне представится возможность (по крайней мере я надеюсь) наворовать на собственный дом. Бросьте-ка вы грандиозный Берлин, перебирайтесь в провинцию и вызовите к себе родителей, если, конечно, они у вас есть. Потому что в Польше, мой друг, еврей еще может выстоять один, держась за свою селедку и синагогу, но здесь, поверьте мне, если, кроме собственных ног, других корней у вас нет, живые соки не дойдут до сердца. Даже до вашего, милый мой человечек. Не судите меня строго. Спасибо. Ваш Янкель».
3
Биньямин вышел на перрон маленького прирейнского вокзала, пододвинул к себе перевязанный веревкой ящик (весь свой багаж) и очутился нос к носу с неким господином, одетым на немецкий лад, который, очевидно, и был штилленштадским раввином. Биньямину его облик скорей напоминал сатану, чем раввина, и поэтому он понес свой «чемодан» сам, утверждая, наперекор истине, что он легче перышка. По дороге раввин расхваливал мастерскую, которую ему удалось подыскать на Ригенштрассе. Просто находка!
– Господину Гольдфусу, владельцу мастерской, непременно хотелось облагодетельствовать какую-нибудь жертву преследований из славянских стран, а вы как раз и есть такая жертва, верно, дорогой единоверец? В стоимость помещения – не стоимость, а щедрое пожертвование – входит утюг, швейная машина и кое-какая мебель, правда, подержанная.
Все оказалось точно, как говорил раввин, кроме одной мелочи: Биньямин не представлял себе, что помещение и мебель могут оказаться настолько «подержанными».
– С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят, – заметил раввин, улыбаясь.
Пока они так беседовали, в мастерскую вошло человек десять, как Биньямину показалось, немцев. Они бросились к нему, начали пожимать ему руку. Биньямин испуганно вскрикнул и чуть было не потерял сознание, но тут он с облегчением заметил среди немецких лиц две-три еврейские бороды. Окружив его со всех сторон, посетители стали громко, как на базаре, рассуждать о нем.
– И не стыдно вам? – раздался низкий женский голос. – Вы же его совсем раздавите! Из него косточки вылезут, как из сливы!
Проложив себе дорогу к «жертве преследований из славянских стран», плотная еврейка в цветастом платье и в шляпе с перьями остановилась перед Биньямином, улыбаясь слишком ярко накрашенными губами.
– Раз так, – заявила она хозяйским тоном, не допускающим возражений, – он достанется мне!
– Что вы хотите этим сказать? – едва выдохнул Биньямин, предусмотрительно кладя руки на «чемодан», подле которого он понуро стоял, как на сторожевом посту.
– Да оставьте ваш ящик! Неужели вы боитесь, что эти господа его стянут?
– Ничего, ничего, – пробормотал Биньямин, чувствуя, что недоверие его возрастает, – смотрите, я поднимаю его, как перышко.
Однако он так пыхтел и сопел под непосильной тяжестью, что роскошная дама не сдержала своего любопытства:
– Брат мой, что там у вас такого ценного?
– Все, – ответил Биньямин, изнемогая от усталости.
Со вчерашнего вечера, с того самого момента, как Биньямин выехал из Берлина и поезд нырнул в туннель (вот оно, новое погружение в темные недра изгнания!), он ни на минуту не расставался со своим ящиком, в котором действительно заключалось все, чем он обладал на этой земле: два-три отреза, купленных по случаю, несколько утюгов, манекен, ввинчивающаяся ножка к нему, гладильная доска, разные швейные принадлежности – словом, все, что удалось приобрести на те деньги, которые неизвестно почему подарил ему молодой человек из Галиции. Полагаясь больше на ящик (его трудно незаметно стащить), чем на свою способность распознать карманного воришку, Биньямин зашил остаток «состояния» в ту часть манекена, где заканчивается спина и начинается другая часть фигуры. В поезде щемящее чувство тоски, страха и опасения почему-то обернулось героическим решением напустить на себя вызывающий вид. Время от времени Биньямин издавал короткие восклицания, чем вызывал тревогу у своих попутчиков. Эти провинциалы, как завороженные, смотрели на странного заморыша. Одет на русский лад, отчаянно трет кулаком подбородок с жидкой бороденкой, глаза какие-то остекленевшие, но полные жгучего страдания…








