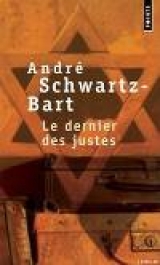
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
Но семья Леви не получала никакой помощи «с почты» и даже не ждала ее.
Кому это не известно, что покинуть родину – значит отдаться на милость американских идолов, добровольно покинуть Бога! И если польские евреи считали, что лучшего места, чем Польша, для Бога нет, то семья Леви полагала, что особенно хорошо Он себя чувствует в Земиоцке, на территории, отведенной Праведникам. Поэтому они остались в Земиоцке нищенствовать, лишь бы быть поближе к Богу.
Так как они были теперь просто нищими, то бедняки Земиоцка собирали для них нечто вроде подаяния. Ведь богатые испытывают сострадание только к себе подобным, верно же? В разгар летнего сезона семья Леви нанималась на работу в соседние хутора. Но польские крестьяне презирали тощие еврейские руки и платили им за труд такую же тощую мзду.
К концу XIX века детей Леви распознавали очень просто: ни кровинки в лице.
Мордехай Леви (дед нашего друга Эрни) родился в бедной семье резчика по хрусталю. В детстве у него было узкое лицо, живой взгляд и огромный нос с горбинкой, который как будто тянул все лицо вперед. В те годы еще не было ясных признаков того, что по натуре он искатель приключений.
Однажды, когда на столе не оказалось даже традиционной для бедняков селедки, Мордехай заявил, что завтра же идет наниматься на соседние фермы. Братья удивленно на него посмотрели, а мать подняла крик. Она вопила, что польские крестьяне обидят его, побьют, убьют и Бог знает что еще с ним сделают.
Началось с того, что ему вообще отказали: евреев брали на работу только в случае крайней необходимости, и то скрепя сердце. Наконец, после многих дней тщетных поисков его наняли копать картошку на каком-то очень далеком хуторе. Управляющий сказал:
– Ну и здоровенный же ты еврей! Что твой дуб! Положу тебе десять фунтов картошки в день. Только вот, не побоишься ли ты драться?
Мордехай встретил холодный взгляд управляющего, но ничего не ответил.
На следующее утро он встал за два часа до восхода солнца. Мать не хотела его отпускать: с ним будет то же самое, что было с тем и вон с тем, и вон с этим. А что с ними было? Все они вернулись в крови! Мордехай ее слушал и улыбался: он же – «что твой дуб».
Но когда и сером снеге наступающего дня он оказался на дороге один и все тепло от жидкого чая и наспех проглоченной перед уходом картошки из него вышло, он вспомнил и другие слова управляющего. Боже мой, подумал он, ну чего бояться: ведь идет он туда работать, со всеми будет ниже травы и тише воды; у самого черта не хватит духу его обидеть…
Утро прошло спокойно. Широко расставив ноги, он усердно орудовал мотыгой, подкапывал жухлый картофельный куст, освобождал его от налипшей земли и снятую картошку клал на край канавы. Слева и справа от него продвигались вперед рядами польские батраки – примерно с той же скоростью, что и он. Его заботило только одно: не отстать бы. Поэтому он не замечал, с каким злобным удивлением смотрели они на огромного еврейского подростка. Ишь ты какой! Степенный и в черный длинный кафтан вырядился! А мотыгой-то как машет! Прямо тебе лихой кузнец и усердный ксендз сразу!
Дойдя до середины поля, он снял свою круглую черную шляпу и положил на кучку картофеля.
Но пот по-прежнему застилал глаза, и еще через десять шагов он оставил на борозде и аккуратно сложенный кафтан.
Когда, наконец, подвижный ряд сборщиков картофеля почти достиг края поля, спина у Мордехая так ныла, что он не мог распрямиться. Будто тысячи паучьих лап впились в нее и раздирают на части. Согнутый в три погибели, он медленно поднял мотыгу и так же медленно ударил ею по комку земли. «Боже!» – сказал он про себя и тут же почувствовал, что в глубине души впервые зародились слова: «Помоги рабу Твоему!». Мордехай повторял мольбу у каждого куста. Только благодаря ей, как он полагал, ему и удалось кончить борозду одновременно с поляками.
В полдень он взял шляпу и кафтан и, дрожа от холода и смутного страха, подошел к костру, вокруг которого сидели батраки.
При виде его они замолчали. Он присел на корточки и сунул в золу три картофелины. Эти молчаливые взгляды наполняли его душу смертельной тоской. Управляющий ушел по своим делам, и Мордехай почувствовал, что попал в волчью пасть, – еще движение, челюсти сомкнутся, и острые зубы разорвут его на части. Тяжело дыша от сдавившего грудь страха, он вынул из золы одну картофелину и стал усердно перекатывать ее с ладони на ладонь.
– А есть и такие, что, не спросясь никого, к чужому костру пристраиваются! – прогремел сзади чей-то голос.
Мордехай в испуге уронил картофелину и приподнялся, выставив вперед локоть, словно защищаясь от неминуемого удара.
– Я не знал, панове, – пролепетал он из-под руки, с трудом подбирая польские слова, – простите меня, я верил…
– Слыхали? – радостно заорал поляк. – Нет, вы только послушайте его! Он «верил»!
Крестьянин был примерно его ровесник. Несмотря на лютый холод, он стоял в одной рубахе с закатанными рукавами, и из расстегнутого ворота виднелась бычья шея. Он ухарски подбоченился, словно припаял жилистые руки к бокам, и эта поза еще больше подчеркивала его сходство с могучим животным.
Мордехай задрожал: красная рожа ухмылялась и светло-голубые глазки с чисто польским спокойствием сверлили его ненавидящим взглядом.
– Да чего тут разглагольствовать! – послышался чей-то голос. – Деритесь уже!
– Ну зачем же, зачем драться? – запротестовал Мордехай. И, повернувшись к неподвижно сидящим крестьянам, он применил старый способ защиты, который рекомендуют в подобных случаях самые древние авторы.
– Панове, – начал он, выразительно разводя руками, – пожалуйста, сделайте милость, будьте свидетелями… я же не хотел обидеть этого пана. Верно? Ну, испек я картошку в золе, но не в обиду же… А раз обиды никакой не было…
Он стоял на коленях, голос его дрожал, но ораторское вдохновение вздымало ему грудь.
– А раз обиды никакой не было, то достаточно мне извиниться… Верно, панове?.. И ссоры как не бывало… – закончил он на болезненно тонкой ноте.
– Ну и мастаки же они языками чесать, эти жиды! – убежденно сказал молодой поляк и, размахнувшись что было силы, опрокинул Мордехая на землю.
Тот на четвереньках быстро отполз в сторонку. В нос бил запах земли. Далеко-далеко, где-то вне времени и пространства, крестьяне хохотали над его испуганным нелепым видом. Он стер с подбородка ком грязи, который попал в него, когда он падал.
Молодой поляк шагнул вперед. Мордехай приложил руку к ушибленному месту. Нужно показать я этим людям, что они совершают непростительную ошибку! Нельзя заставлять драться еврея да еще религиозного, который всей душой противится насилию: оно никак не вяжется с учением наших мудрецов. А уж про молодого Леви и говорить не приходится: он ни разу в жизни даже не присутствовав при драке, и что такое удар кулака, знает только понаслышке. Но обидчик, играя мускулами, продолжал наступать, и Мордехай понял, что доказывать что бы то ни было бесполезно.
– Да разве эта обезьяна способна что-нибудь понять? – закричал он вдруг на идиш.
Только он встал и собрался бежать, как в поясницу больно ударили деревянные башмаки, и он снова повалился ничком на землю. Всякий раз, когда Мордехай хотел подняться, молодой поляк колотил его по заду, спокойно приговаривая: «Жид пархатый, жид пархатый…» И такое торжество звенело в его голосе… Мордехай почувствовал, что презрение к этой обезьяне переходит в мучительный огонь, который пожирает душу, дает волю плоти и превращает его тело в натянутую тетиву…
Он не знал, как это случилось. Не помня себя от ярости, он вскочил на ноги.
– Ты что? – заорал он и бросился на молодого поляка.
3
Мордехай совсем озверел. Пьянея от крови, он колотил поверженного противника чем попало: кулаками, локтями, ногами, чуть ли не всем телом. Когда же крестьяне оттащили его, он понял: христианский мир насилия раскрылся перед ним сразу и до конца.
– Этот еврей не такой, как другие, – сказал один из свидетелей драки.
Жгучий стыд медленно затоплял сердце Мордехая.
– Значит, я могу теперь печь картошку в вашем костре, – заявил он, и его наивное высокомерие всем понравилось.
Этим вечером он вернулся домой, уже зная, что у него есть преимущество перед остальными членами семьи. Крохотное, горькое, но есть. Ведь он стоит ногами на земле и тесно связан со всем, что его окружает: со слабыми былинками и с могучими деревьями, с безобидными животными и с опасными зверьми – включая тех, которые называются людьми.
Первое время каждая новая усадьба означала драку. Но по мере того как он колесил вокруг Земиоцка, репутация «злого еврея» вызывала к нему симпатию. А вот «добрые евреи» в его родном местечке смотрели на него косо. С одной стороны, они уважали его и жалели: Леви нельзя не уважать, а падшего Леви нельзя не жалеть. С другой стороны, они относились к нему, как к знаменитому пирату: презирали и втайне завидовали. Семья же наблюдала за ним с недоверием: его грубые руки так и притягивали к себе испуганные взгляды. А что стало с осанкой! Ни традиционной сутулости, ни привычной отрешенности! Он выпрямился во весь рост, шептались вокруг. Неслыханный скандал!
Мало-помалу привык он возвращаться в Земиоцк только в канун субботы, что, конечно, всем бросалось в глаза. Суббота проходила в покаянии, а в воскресенье чуть свет он аккуратно укладывал в котомку молитвенник с талесом и снова исчезал, как в поле ветер.
Однажды шел он из Земиоцка на дальнюю ферму; и встретил по пути старого еврея, разносчика мелких товаров. Тот сидел у края дороги на своем коробе, и по глазам было видно, что его мучит недуг. Мордехай взялся донести товар до соседней деревни, где у старика была, как он сказал, «кое-какая семья». В коробе лежали популярные романы на идиш, разноцветные ленты, стеклянные бусы и другая мелочь. Дорогой Мордехай забавы ради торговал понемногу в деревнях, а старый разносчик с улыбкой наблюдал за его стараниями. Но когда спустя три дня они дошли до места, он сказал Мордехаю:
– Кончен бал! Я свое отработал. Нет у меня больше сил бродить по свету. Бери короб – и в добрый час! Вот тебе мой товар, мои причиндалы, вот названия деревень, где я торговал – бери и отправляйся. Ты – Леви из Земиоцка – значит, я ничем не рискую. Заведется у тебя немного злотых – вернешься сюда и отдашь мне начальный капитал. говорю тебе, иди!
Мордехай медленно взвалил на плечо короб.
Разносчик легко находил себе ночлег в любом местечке: он вносил свежую струю воздуха в этот затхлый мир.
Держался Мордехай непринужденно, громко смеялся, ел до отвала, перебранивался с теми, кто разглядывал его товар с кислой миной. Но, как только на горизонте показывался Земиоцк, в глазах потухал живой огонек и тихонько накатывала тягучая волна тоски. С какой-то не то робостью, не то смущением клал он на край стола свою выручку, подавленный холодным молчанием всего семейства Леви.
– Ну, что, вернулся? – в конце концов, говорил отец с легкой иронией. – Смотри-ка, и на сей раз они тебя отпустили на все четыре стороны!
И, так как Мордехай пристыженно опускал голову, добавлял:
– Подойди ко мне, бездельник, подойди! Дай посмотреть, как выглядит мой сын, похож ли он еще на еврея. Да иди же сюда, я хоть обниму тебя. Ну, чего ждешь? Прошлогоднего снега?
Мордехай дрожал, как осиновый лист. Когда же он снова выходил на проселочную дорогу и покосившиеся стены Земиоцка оставались позади, на ум приходили очень странные вопросы. Как-то другой разносчик товаров в знак расположения к Мордехаю преподнес ему финик. Все приходили поглазеть на этот диковинный плод и торопливо перелистывали Пятикнижие, чтобы снова и снова насладиться словом тамар, что значит «финик». И, хотя Мордехай уже давно стал жестким коммерсантом, он никак не мог вдоволь налюбоваться своим сокровищем. Всякий раз, когда смотрел он на этот маленький плод, ему казалось, что он видит весь Израиль. Вот пересекает он Иордан, вот подходит к могиле Рахили, стоит в Иерусалиме у Стены Плача, купается в теплых водах Галилейского озера, где карпы так и сверкают на солнце… И всякий раз, когда Мордехай возвращался к действительности, он задумывался: Боже, как это все понять? Затерявшийся среди полей одинокий торговец, Леви, «злой еврей», просто молодой человек на пороге жизни, финик. Галилейское озеро…
И еще много подобных вопросов приходило на ум, очень много…
А однажды, подходя к окрестностям местечка Крыжовницк, что в двадцати днях ходьбы от Земиоцка, если не больше, он даже спросил себя, зачем вообще Бог создал Мордехая Леви. Конечно, в Земиоцке уже давно не было своего сумасшедшего, а, как сказано, «и каждом местечке есть свой сумасшедший и свой мудрец». «Но что делать такой скотине, как я? – опечалился вдруг Мордехай, – полосатый я какой-то – немножко того, немножко сего…»
Нужно, правда, принять в соображение, что он в тот момент не чувствовал под собой ног от усталости: отправился в путь ни свет ни заря, а сейчас того и гляди стемнеет. Крыжовницкие холмы так и пляшут перед глазами – до того он изнемог. Он то и дело тревожно посматривал на небо: не зажглась ли еще первая звездочка – признак того, что на землю опустилась Суббота. Однажды уже случилось, что она застигла его посреди дороги. Пришлось оставить предметы торговли тут же на поле в высокой траве.
У входа в местечко Мордехай увидел колодец. Молодая девушка набирала воду. Казалось, она, как грациозный котенок, играет веревкой, изъеденной холодной водой. На девушке был субботний наряд: туфли на низком каблуке с перламутровыми пуговками и длинное платье темно-зеленого бархата с традиционными кружевами вокруг шеи и на рукавах.
Мордехай еще издали почувствовал, что есть в ней что-то напоминающее хищного зверя: в мягкой красоте ее движений таилась опасная сила.
Неслышно ступая по траве, он подошел совсем близко и увидел настоящую еврейскую красавицу, стройную, ростом почти с него. Короткий нос, брови оттянуты к вискам, невысокий лоб. Кошачий профиль, удивился он. Тяжелые косы, туго заплетенные от самого затылка, оттягивали голову немного назад. «Да простит меня Бог, – сказал он про себя, – она мне нравится!»
Спустив короб на траву почти у самых ног девушки, Мордехай крикнул зычным голосом разносчика, расхваливающего свой товар:
– Эй, голубка, не покажешь ли мне, как пройти в синагогу?
При звуке этого окрика девушка вся вздрогнула, даже веревку выпустила из рук, но тут же поймала ее снова и поставила деревянную бадью на край колодца.
– Мужик! – воскликнула она, оборачиваясь.
Но увидев улыбку на лице молодого человека, усталого и белого от пыли, она сразу же подобрела и степенно добавила на мягком гортанном идиш:
– Зачем так на меня кричать? Я же не лошадь и не осел. Можно подумать, что быка погоняют. Или верблюда.
Подвигая бадью, она тряхнула головой и отбросила назад косы. Черные, как угли, глаза смотрели на Мордехая со жгучим любопытством, но губы поджались крайне пренебрежительно.
– Вообще-то я с посторонними не разговариваю, – сказала она, наконец, – но если хочешь, так иди на десять шагов позади меня, и по дороге я тебе покажу, где синагога.
Окинув его лукавым взглядом, она гордо выпрямилась и направилась в местечко, не обращая больше внимания на «постороннего».
Мордехай даже присвистнул.
«Да простит меня Бог, – вздохнул он про себя, с трудом взваливая короб на плечо, – она мне нравится и даже очень, но я с удовольствием… выдрал бы ее хорошенько».
Движимый этим противоречивым чувством, он не переставал отпускать колкости в ее адрес, однако дистанцию в десять шагов сохранял. Она же при каждом его замечании сердито встряхивала головой, и тогда косы мотались по ее красивым плечам, как грива по шее норовистой лошади. В этом движении сквозило животное кокетство, и оно подстрекало Мордехая на новые колкости.
– Ах, вот как принимают гостей в этом краю? Подпускают не ближе, чем на десять шагов? А известно ли вам, что Бог вознаградил гостеприимство Авраама, давшего приют неимущим странникам? Призадумайся-ка, может, я тоже Божий посланец?
Но гордая барышня продолжала свой путь, упорно делая вид, что ничего не слышит, а Мордехай не решался сократить дурацкое расстояние, отделявшее их друг от друга.
Он громко смеялся, глядя на танцующий впереди него силуэт девушки.
– Тебя послушать, парень, так скорее ты посланец дьявола, – вдруг донеслись до него резкие слова, чуть смягченные ветром.
Они крайне удивили Мордехая, он просто ушам своим не поверил, но, пока он размышлял, рассердиться или нет, черная грива торжествующе взметнулась в знак победы, и Мордехая стал душить смех.
– Дьявола! – добавила она. – Это еще мягко сказано…
Странная тоска напала на Мордехая. Он решил обидеться и замолчать. Ох, как короб намял плечо! вдруг почувствовал он. И, наверно, впервые за всю жизнь он пожалел, что желтая подкладка его тулупа висит клочьями, сапоги каши просят, а шляпа потеряла всякую форму, потому что служила ему и тарелкой и кружкой. «Да мне-то что! – вдруг разозлился он. – Что я, золотая монета, чтобы всем нравиться!»
В эту минуту он увидел, что девушка поставила бадью на землю, улыбаясь, обернулась к нему и насмешливо передернула плечами, словно хотела сказать: «Ну, ну, не сердись – сам же и затеял, верно?» Затем она тряхнула головой, подхватила тяжелую бадью, и та снова закачалась в такт ее мягкому шагу. С виду она несла воду легко, как букет цветов, но теперь водяные брызги стали выплескиваться на ее бархатное платье, покрывая его сверкающими капельками. Молодой человек почувствовал все очарование этой минуты.
За церковью начали уже попадаться первые еврейские хижины, дряхлые и покосившиеся, они жались друг к другу, как пугливые старушки. То тут, то там вдоль стены скользила черная фигура – тряслась длинная борода и поблескивал муаровый кафтан. Совсем стемнело. Посыпал мелкий дождь, и не стало барышни – только танцующая тень маячила впереди. Внезапно тень перестала двигаться, и тонкий белый палец показал на соседнюю улицу: синагога там, говорил этот палец. Потом исчез и он.
«За кого она меня принимает? – вознегодовал в душе Мордехай. – Что я ей, собака, которая… которую…»
Поставив короб на землю, он стремительно ринулся вперед, как человек, уверенный в своей правоте.
Услышав за собой шаги, девушка поспешила укрыться в подворотне. Он увидел ее всего в нескольких шагах от себя – она стояла в тени, такая красивая… И он нежно подумал: «Ну, на самом-то деле не ей же меня благодарить…» Она напряженно поджидала его, держась на всякий случай рукой за щеколду.
– Хочешь… – вдруг пробормотал он. – Позволь донести бадью.
– Ты ведь бродячий торговец, – чуть задыхаясь, сказала она, – сегодня здесь, завтра там… Как же ты смеешь со мной так разговаривать?
И, улыбаясь ему широкой лукавой улыбкой, в которой (по крайней мере, ему так показалось) промелькнула легкая тень сожаления, она наклонилась к уже наполовину пустой бадье, взялась за ручку, медленно выпрямилась и, тряхнув на прощанье гривой, пустилась бежать… Вот она уже скрылась за водяными брызгами, а он лаже не успел заметить, в какую улочку она свернула.
Медленно поднял Мордехай свой короб и поплелся к синагоге. Мерцала на небе звезда, то прячась за черными домами, то появляясь снова. Но сегодня звезда не напоминала ему о легком свете Субботы, потому что лоскут неба, куда была приколота эта золотая булавка, казался ему выкроенным из темного бархатного платья: перед глазами стояла еврейская девушка.
4
Кончилась вечерняя молитва, по верующие из синагога не ушли, а, собравшись вокруг печки, повели между собой спор. Они задыхались от дыма, кашляли, кричали, размахивали руками и все никак не могли решить, кому на сей раз выпадет честь оказать гостеприимство. Обычно стоило людям поглядеть на Мордехая, как его отправляли к какому-нибудь почтенному еврею, известному своим повышенным интересом к внешнему миру. Но на сей раз раввину и в голову не приходило принять пришельца за «веселого разносчика»; он счел его «паломником, подрабатывающим торговлей», и пригласил к собственному столу.
– Рабби, добрый рабби, – сказал Мордехай. – не место мне за вашим столом, непутевый я еврей. Просто, понимаете, немного грустно мне сегодня.
– А почему тебе грустно? – удивился раввин.
– Почему мне грустно? – улыбнулся Мордехай. – Потому что не получился из меня хороший еврей.
Маленький толстенький раввин еще больше выкатил и без того выпученные глаза.
– Идем без всяких разговоров! – проверещал крохотный рот, прятавшийся в бороде.
Ужин был царский, о лучшем Мордехай и мечтать не мог: рыбный холодец, говяжье жаркое, а на закуску – необыкновенно вкусный цимес.[7]7
Цимес – морковь в сладком соусе.
[Закрыть] Мордехай был настолько очарован приемом, что рта не раскрывал: сидел чинно, словно в Земиоцке в кругу степенных Леви. Но когда хозяйка принесла блюдо с рожками – тут уж он не выдержал и весело похлопал себя по животу.
– Эх, братья мои, полакомимся рожками! У них же райский вкус, у этих рожков! Только увижу их – вспоминаю Землю Израильскую. Ну, а уж когда в рот возьмешь – сразу же начинаешь мечтательно вздыхать: «Всевышний, верни нас в землю нашу, в край, где козы жуют «рожки в изобилии».
Эти слова настроили присутствующих на определенный лад, и начались вечные вопросы: когда придет Мессия? Явится ли он на облаке? Вернутся ли с того света мертвые? И чем люди будут питаться? Ибо сказано: «В тот день я заключу мирный союз между вами и всеми тварями».
– И как можем мы, кроткие агнцы мои, ускорить его пришествие? – спросил, наконец, раввин, беспомощно разводя руками.
Гости хорошо знали, что сейчас дискуссия, продолжающаяся уже две тысячи лет, достигнет той головокружительной вершины, откуда можно объять все Мироздание.
– Мы должны страдать, – начал старик, сидевший по правую руку от раввина.
Оттопырив отвислую розовую губу, прикрыв впалые глаза и не переставая качать головой, он продолжал:
– Страдать, страдать и еще раз страдать, ибо…
– Господин Гриншпан, – раздраженно перебила его хозяйка, – а что, по-вашему, мы делаем? Или вам еще мало?
– Ша, ша, – робко прошелестел раввин.
– …ибо сказано, – продолжал, как ни в чем не бывало, старик: «Страдание идет народу израильскому, как красная лента белой лошади». И еще сказано: «Мы несем на себе страдания всего мира, мы взяли на себя эту ношу, и на нас будут смотреть как на проклятых Богом и униженных. И только когда Израиль погрузится в страдания каждой косточкой, каждой жилочкой своего растерзанного на перекрестке дорог тела, тогда и только тогда пошлет Бог Мессию». Увы! – закончил господин Гриншпан, выкатив глаза, словно видел перед собой эту страшную картину. – Только тогда и не раньше.
– Господин Гриншпан, – грустно пропищал раввин, – ну, я вас спрашиваю, ну, что вам за удовольствие нагонять на нас страх? Мы что, Праведники, чтобы жить с ножом у горла? Знаете что, дорогой господин Гриншпан, поговорим лучше о чем-нибудь веселеньком: что слышно о войне?
Едва успев произнести последнее слово, раввин затрясся от хохота, хотя эту убеленную сединами шутку знали все присутствующие. Он так зашелся, что все по-настоящему перепугались за него. Но с помощью обычных опрыскивание и постукиваний по спине приступ веселья прошел так же внезапно, как и напал на него, и раввин вернулся к столу.
– Так о чем мы тут говорили? – пробормотал он смущенно, но, заметив всеобщее неодобрение, напустил на себя задумчивый вид и замолчал.
– Я знаю, дорогой господин Гриншпан. – проговорил он, наконец, – сколь неуместной могла показаться моя шутка. Даже обидной. Но хочу вам заметить, что ни против вас, ни против ваших слов я ничего не имею. Развеселился я исключительно потому, что радуюсь субботе. Вы мне верите?
– Охотно верю, – растрогался старик, – но позвольте и мне вам заметить, что, согласно учению рабби Ханина…
Завязался разговор о смехе. Что такое смех? Каким законам он подчиняется? Каков его человеческий и божественный смысл? И, наконец, совершенно загадочным образом дошли до того, что стали выяснять, какая связь между смехом и приходом Мессии.
Оставаясь верным своему положению бродячего торговца, Мордехай до сих пор сидел тихо. Перед мысленным взором порой проплывало темно-зеленое платье. Как бы увидеть его снова? Эх, была не была! Он наклонился вперед, как делал в таких случаях отец, и важно заявил:
– Позвольте заметить. Что значит Ицхак! Имя «Ицхак» значит не что иное, как «он будет смеяться». Добавлю еще: Сарра увидела, что сын Агари, Исмаил, мецахек, то есть «смеется». Осмелюсь отсюда заключить, что сыновья Авраама, Исмаил и Исаак, отличаются между собой тем, что первому назначено было смеяться сейчас же, а Исааку, отцу нашему, – только в будущем. С приходом Мессии, благословенно имя его, все будут смеяться. А до того нужно плакать. Так скажите же мне, братья, может ли сердце истинного еврея смеяться в этом мире, если только не при мысли о мире грядущем?
После столь высокого рассуждения Мордехай поднес ко рту рюмку, запрокинул голову и, к великому удивлению окружающих, выпил залпом, как простой мужик.
Затем, прищелкнув языком, он не без лукавства добавил:
– К счастью, у нас сердца не совсем еврейские, иначе как бы мы могли сейчас наслаждаться субботним покоем?
Последнее замечание было крайне высоко оценено. Раввин усмотрел в нем хасидский дух. Он начал удивляться такому кладезю мудрости в простом разносчике товаров. Вот тут-то Мордехай и довершил свой тонкий маневр. Кокетливо наклонив голову, он сказал, что он – Леви из Земиоцка.
– А я мог бы в этом поклясться! – воскликнул маленький раввин.
– Но я вовсе не Праведник, – скромно уточнил Мордехай, широко улыбаясь обольстительной улыбкой, а про себя добавил: «Да простит меня Бог, если только Он может, но уж очень она красива».
Утром Мордехай проснулся в большой супружеской кровати, куда накануне его силой уложили раввин с раввиншей. Он сразу же пожаловался на недомогание: онемело все тело, не двинуть ни рукой, ни ногой – словом, верные признаки близкого приступа лихорадки.
Ему тотчас же дали новую кружку, и в сопровождении огорченных хозяев он отправился к реке.
– Река, река. – сказал он. – дай мне воды на дорогу.
Затем в присутствии многочисленных зрителей, хранивших должное молчание, он семь раз прокрутил новую кружку над головой, выплеснул воду через плечо и закричал:
– А теперь, река, унеси свою воду вместе с моей лихорадкой! Заклинаю тебя, река, именем нашего общего Создателя!
Вся процедура была проделана с большим искусством в истинно земиоцком духе.
Затем больной и его сопровождающие вернулись в дом раввина. Мордехая снова уложили в постель, и у его изголовья собралось много жителей местечка: их привлекала слава Ламедвавника. У него ужасный вид, беспокоились они, вот-вот на тот свет отправится! А он и в самом деле плохо выглядел, потому что провел бессонную ночь, заранее терзаясь угрызениями совести.
Кое-как дал он себя уговорить не отправляться снова в путь. Это было бы безумием! А так как лихорадка все никак не отпускала его, то он еще и согласился заменить на зиму крыжовницкого синагогального сторожа. Все пришли в восторг от такого решения, но больше всех – густая грива. Несколько дней назад он увидел ее снова: почему-то он случайно бродил вокруг колодца.
– Знаешь, твоя болезнь меня не очень-то напугала.
– Правда? – огорчился он.
– Как? Разве ты на самом деле…
Она даже отступила назад и прислонилась к колодцу. От лукавства не осталось и следа: его вытеснило выражение заботы и тревоги. Мордехай почувствовал, что у него радостно екнуло сердце, и он, как заправский бродячий торговец, лихо подкрутил усы.
– Да. Я на самом деле болел, – сказал он, хитро улыбаясь, – и теперь я болен. Да так серьезно, как никогда прежде, – закончил он выразительно.
Она так и покатилась со смеху. В тот день Мордехаю было дозволено следовать на расстоянии уже только пяти шагов. На следующий день это число сократилось до трех, а затем и до нуля. Счастливый, как ребенок, он тоже держал ледяную ручку бадьи.
Этот последний знак благосклонности его опьянил. Он не переставал говорить всякие слова: нежные, грустные, серьезные, – все, какие, по его мнению, полагалось говорить девушке из Земиоцка или из Крыжовницка, или откуда бы то ни было. Но ему дали понять, что предпочитают видеть в нем «веселого разносчика», и Мордехай с тоской в груди покорился. Вот оно что! Ей, значит, нравится в нем шут гороховый, которого он из себя разыгрывал, чтобы привлечь ее внимание. С каким удовольствием он задушил бы сейчас этого шута.
– Охота была выть на луну! – говорила девушка. – По-моему, когда любят, стараются сделать приятное. Чего на меня вздыхать? Что я, луна? Я – Юдифь.
Однажды она как бы в шутку призналась, что никогда в жизни не видела такого разносчика, как он: такого высокого, сильного, нежного и веселого. И, конечно же, быть замеченной самим Леви из Земиоцка – большая честь, да вот она, дура такая, никак не может это прочувствовать. Она предпочла бы просто Леви. Что за кровавые истории рассказывают о его семье? Какие-то сплошные ужасы! Даже дрожь пробирает! – продолжала она шутливо, но, увидев, какое высокомерное выражение появилось у него на лице, взорвалась:
– Не хочу я этого, слышишь? Я жить хочу, жить! Зачем мне Праведник?!
– А я и не Праведник! – запротестовал Мордехай.
– Знаем мы вас! Кто это скрывает, тот и есть настоящий Праведник. Зачем тебе страдать за весь мир? Как такое только в голову приходит?! Что, этот мир страдал за тебя хоть разочек?
– Да не страдаю я вовсе, клянусь тебе!
Но Юдифь его не слушала. Она заламывала руки, закатывала глаза, ноздри у нее дрожали, губы покрылись крохотными капельками слюны, как у кошки, и, как-то странно посмотрев на молодого человека, она сказала:
– Ну почему должно было случиться, чтобы из всех ливней, из всех потоков слез, какие только Бог посылает на землю, на меня упала самая горькая капля? Ламедвавников не тысячи и не сотни – всего-навсего тридцать шесть! Так надо же. чтобы именно я, Юдифь Аккерман, дура из дур, сумасшедшая из сумасшедших, полюбила его! Не успел он показаться мне на глаза, как – нате вам! – я его уже люблю! Слышишь?
Она нежно вздохнула – удивительно, как из груди такой статной, такой своенравной девушки мог вырваться такой нежный вздох! Подавленный. Мордехай молчал.
– Ты слышишь, убийца? – крикнула она.
Вместо ответа Мордехай состроил настолько покорную и жалостную мину, что девушка бросилась на своего палача и, закрыв ему глаза обеими руками, неожиданно поцеловала прямо в губы. Мордехай стоял, ошалев от радости, и растерянно улыбался. Сколько в ней силы, сколько жизни, думал он. Самые веские доводы рассудка по сравнению с ее губами – ничто, как легкие пушинки они улетают в высокий серый небосвод мыслей. Сжимая ее в объятьях, он вспомнил, как ему хотелось задушить в себе шута, и прошептал:








