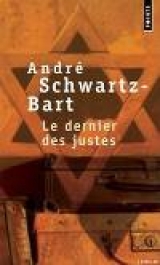
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
СОБАКА
1
Статистика показывает, что в течение ряда лет перед началом конца процент самоубийств среди немецких евреев практически равнялся пулю. Эти данные относятся в равной мере к тюрьмам, к гетто и ко всем темным закоулкам, где звериная морда фашизма выглядывала из бездны. Эти данные верны даже для преддверий крематориев, или, как их по-ученому назвал один нацистский обозреватель, “анусов мира”. В противоположность этим данным попытки самоубийств среди евреев школьного возраста начиная с 1934 года насчитывались десятками и сотнями; в десятках случаев они оканчивались успешно.
Так что первая смерть Эрни Леви заняла скромное место в статистике среди десятков подобных смертей (хотя другие смерти были первыми и последними). Конечно, восхищает нас то, что те самые учителя, которые учили арийских школьников убивать, учили еврейских детей кончать жизнь самоубийством. Вот что такое немецкая техника, строгая и простая, не изменяющая себе даже в педагогике.
Когда Мордехай нашел во дворе под стеной бездыханное тело ребенка (его птенчик разбился на лету, превратился в кровавый комочек), он почувствовал, что сходит с ума. Его серые глаза словно высохли и застыли в орбитах, как камни. Чем ближе подходил он к ребенку, тем глубже впивался зубами в нижнюю губу. По бороде потекла красная струйка, за ней другая, третья… Эрни лежал, прижавшись щекой к земле, как гончая собака, курчавые волосы стыдливо закрыли его лицо. Казалось, смерть настигла его, когда он спал на боку. “Господи, не ты ли вылил его, как молоко, и как творог, сгустил его; кожей и плотью ты одел его; из костей и жил сплел его… и в прах обратил теперь?” Мордехай упал на колени. Его удивило жужжание мух, круживших над худеньким трупом. Одна из них, зеленоватая, огромная и прожорливая, уселась на торчащую из локтя кость. Мордехай поднял растерзанное тело с окровавленного каменного ложа.
– Вот я вопию к небу, – ровным голосом сказал он ребенку, – и нет мне ответа.
В этот момент школьная блуза приподнялась, опустилась и снова приподнялась с чудесной равномерностью человеческого дыхания. Мордехая пронзила глубокая благодарность к столь милосердному Богу. Как был, в старом домашнем халате, с окровавленным, растерзанным ребенком на руках, старик миновал гостиную и выбежал на улицу. Все остальные Леви, обезумевшие от страха, кинулись за ним. Тем же вечером, так и не придя в сознание, Эрни уже лежал в Майнцкой больнице, в отделении для евреев. Его превратили в гипсовую куклу. Мордехай не переставал благодарить Бога, явившего свою милость. Он благодарил его полгода, год, но по возвращении Эрни в Штилленштадт вынужден был признать, что если Всевышний в своем милосердии возвратил Ангелочку, жизнь, то душу он ему не вернул.
Эрни сразу же понял, что смерть наложила свою костлявую руку на его мозг. Он лежал подвязанный ремнями к специальному устройству с многочисленными трубочками, введенными в гипс, через которые вливали жизнь в его тело. Из всех страданий, которые ему причиняла каждая клеточка его организма, самое страшное исходило от единственного глаза: он снова обрел способность воспринимать краски и очертания предметов, а вместе с ними и жестокость окружающего мира. Сначала, еще не придя в себя от перенесенного потрясения, Эрни подумал, что Бог покинул все предметы и поэтому они стали бесцветными и бесформенными, как халаты, брошенные в больничном коридоре. Но потом он понял, что просто-напросто видит предметы такими, какие они есть на самом деле, потому что душа больше не обманывает его зрение. И тогда он решил перестать разговаривать с этим безжалостным миром, хотя язык у него не был поврежден. “Может, он еще не совсем проснулся”, – послышался голос Мордехая. Над единственным глазом Эрни поплыло огромное лицо Муттер Юдифи, и с каждой ресницы посыпались прозрачные брильянты слез.
– Ты проснулся, мой ангел?
Вместо ответа Эрни открыл и снова закрыл единственное веко…
Так продолжалось бесчисленное количество дней и ночей. Слова не могли выйти из отверстия, проделанного в гипсе над ртом, потому что Эрни удерживал их на языке. Только по ночам среди похрапывания и стонов соседей он молил Бога, чтобы тот сменил правительство. Но его молитвы услышала дежурная сестра, чем немедленно воспользовались жители этого света, чтобы мучить Эрни. Поэтому он перестал двигать языком и по ночам. Однажды Муттер Юдифь была особенно невыносима. Но когда он увидел, как печально опустила она голову, пробираясь между белыми койками, и как странно подрагивают у нее плечи, он почувствовал, что из глаза у него выкатилась капля и просочилась под гипсовую маску. Вечером прошлое нахлынуло на Эрни, как взбесившаяся река в половодье: она уносила с собой вырванные деревья, детские колыбели, разбухшие животы мертвых животных, силуэты на крышах, Ильзу, стоявшую на плоту, который гнали какие-то кривляющиеся чудовища. И среди всех этих остатков кораблекрушения вертелся, как щепка, Ноев ковчег с семейством Леви. Обитатели ковчега воздевали руки к Богу, а Бог взирал на все это, и взгляд его был непостижим. Хаос все плыл и плыл вниз по течению, но никто его не замечал. Соседи по палате беседовали о жизни, которую они вели до того, как попали в больницу, или о жизни, которую собирались вести после выписки, словно имели гарантию, что река за больничными стенами любезно остановится, чтобы их подождать. Никто не видел, что река течет под кроватями, унося в своем медлительном и неумолимом течении всю больницу. Над кроватью напротив Эрни увидел две таблички, висевшие одна над другой. На фаянсовой было написано большими красивыми буквами: “Фонд Ротшильда”, а на картонной: “Для евреев и собак”. Но никогда больные не упоминали о кусочке желтого картона, висевшего у них над кроватью. Они говорили о лавках, которые нужно спасать или бросить, о руках и ногах, о печени и легких, о желудках, которые нужно лечить или удалять, о визах в Палестину, о женах и детях, об еде и о солнце и еще о тысячах других вещей, которые нужно спасать или бросить, будто река вовсе и не вздымала все это на своих черных волнах. “Осторожно!” – хотел сказать им Эрни, но не говорил, потому что смерть удерживала слова на его устах. И когда приходившие навестить его Леви не переставали обсуждать планы отъезда в Эрец-Исраэль, плакали горькими слезами и молитвенно складывали руки, он и им хотел сказать: “Будьте осторожны, вас обманывают, все совсем не так, как вы думаете, все совсем иначе…”, но тут и подавно он молчал, потому что Леви страшно перепугались бы, если бы узнали, что у них под ногами вместо твердой почвы илистая река. Бедные, бедные милые смертные! Своим единственным глазом Эрни смотрел на родных, и расстояние, между ними было огромно, куда больше, чем та малая смерть самоубийством, которое разделяло их прежде; и это ужасающее расстояние постепенно заполнялось необъяснимой враждебностью, коренившейся в самой жалости, которую они ему внушали, несмотря на свое ослепление (а может быть, и благодаря ему).
Так же было и с Ильзой: тщетно он пытался думать о ней плохо. Порой, когда. какая-нибудь косточка особенно болела, он обращался к лексикону Морица или Муттер Юдифи: “Она такая, она сякая, она не заслуживает доброго слова. Бог ее так накажет, что на ней живого места не останется” и так далее в том же духе. Но он немедленно представлял себе, как ее уносит поток, о чем она даже не догадывается, и все приговоры, которые выносило ей правосудие, уступали место ужасу перед тем, что любимая белокурая головка уплывает в общем потоке, издавая мелодичные крики. И даже, когда он просыпался ночью оттого, что вспоминал Ильзины аплодисменты, и возобновлялись его телесные и душевные муки, ничего, кроме горького сострадания, он к ней не испытывал. Потому что и Ильзу уносил поток.
Однажды барышня Блюменталь приехала навестить его со всем своим выводком маленьких Леви. Увидев Эрни, она окаменела. Только ноздри ее затрепетали, словно мушиные крылышки. Наконец, она подошла к сыну и начала гладить его загипсованные щеки, приговаривая: “Все будет хорошо, ты скоро вернешься домой, я тебе сварю суп с фарфелах[9]9
Лапша (идиш).
[Закрыть]…” Рука ее застыла в воздухе, и на гипсовую маску, которую она уже перед собой не видела, упала прозрачная капля. Слезы мадам Леви-мамы всегда были особенно тихи и прозрачны. Они имели свойство исчезать под первым же взглядом, поэтому Эрни видел материнское лицо только спокойным. И сейчас, когда он увидел, как упала эта лучезарная капля, он помимо своей воли заговорил.
– Все будет хорошо – произнес он раздавленным, скрипучим голосом, которому и сам удивился.
Но он тут же пожалел о том, что открыл рот: сделав это, он как бы согласился участвовать в старой комедии.
Когда после двух лет пребывания в больнице Эрни вернулся в Штилленштадт, его никто не узнал: от Ангелочка остались только кудри.
Он еще ходил на костылях и был худ, как щепка, зато ростом оказался выше Морица. Белый неровный шрам пересекал верхнюю часть лба. Такой же шрам вздернул его правую бровь и оттянул назад веко, отчего глаз имел то скорбное, то холодно-презрительное выражение. Второй глаз сохранил прежнюю миндалевидную форму, но, по словам барышни Блюменталь (крупнейшей специалистки в этом деле), из него исчезли “чудные звездочки, помните, которые так сияли?” Отныне зрачки погрузились в беспросветную тьму. А по поводу его сухого скрипучего голоса Биньямин сказал, что он ему удивительно напоминает голос молодого человека из Галиции.
– Хуже всего то, что он молчит, – заметила Муттер Юдифь, – за три дня слова не проронил. Нет, Богу не следовало…
– Но ты только подумай, какое чудо, – перебил ее Мордехай. – Не был бы я тогда нездоров, не услышал бы я, как он упал, а не внуши ему Бог броситься из окна, он умер бы от потери крови. Опять же, если бы несмотря на то, что он еврей, его приняли бы в штилленштадскую больницу, его и в половину так хорошо не выходили бы, как в Майнце. И, наконец, если бы…
– Ой, оставь, пожалуйста, свои чудеса, – закусила удила Муттер Юдифь. – Нам жить не дают, нас преследуют, дети из окон бросаются, кости ломают, душу калечат, а он тут про свои чудеса твердит! Когда уже Бог перестанет творить с нами такие чудеса?
– Тц-тц-тц, – укоризненно сказал Мордехай.
Спускавшийся в этот момент с лестницы Эрни остановился.
Количество интонаций, мелодий, оттенков, ужимок и гримас, существующих для этого дурацкого “тц-тц-тц”, талмудисты насчитывают сотнями.
Мордехай попал как раз на такое “ тц-тц-тц ”, что даже у Эрни слегка покраснели щеки.
“О, Господи, они все такие же наивные!” – подумал, он пораженный и, боясь расхохотаться, тихонько поднялся в свою комнату, чтобы еще немного потренироваться в боксе, которым он недавно начал заниматься.
Как только он оставил костыли, он серьезно приступил к осуществлению замысла, родившегося у него в больнице, когда еще он лежал без движения. Нужно так натренироваться, чтобы стать защитником ковчега Леви. Лепи, решил он тогда, заменят ему весь мир, от малой букашки до небесных звезд. Они такие чистые, такие нежные, такие простодушные… Они умеют только плакать, стенать и простирать руки. А вот он, Эрни, защитит их своими кулаками. Вернувшись из больницы и припомнив все виденные им когда-либо кулачные бои, он записал неясные вопросы, какие могут у него возникнуть, и, соблюдая строжайшую тайну, приступил к первому занятию по боксу, запершись в комнате на втором этаже. Вскоре он уже знал различные приемы: как выбрасывать вперед кулак, как напрягать все тело, как сделать прыжок, чтобы предупредить любой выпад противника, и так далее и так далее. По ночам он в уме повторял свои записи.
Через много месяцев, полагая, что желаемые результаты почти достигнуты, Эрни отправился провожать Якова в школу. Первое сражение прошло не совсем по правилам. Когда противник – совсем юный гитлеровец – оказался прямо напротив него и Эрни оставалось лишь сосредоточить всю силу в кулаке, тут-то враг и ударил его по лицу. Падая, Эрни подумал, что, наверно, что-то упустил из виду. Затем, уже ни о чем не думая, он вскочил и начал орудовать не только руками, но и ногами, которые он. кстати, еще не тренировал. Он так обрадовался этой первой победе, что почувствовал жалость к удиравшему противнику.
– Твоя взяла, твоя взяла! – визжал Яков, в восторге от боксерских приемов старшего брата.
– Верно, – без всякого воодушевления сказал Эрни.
Еще через день в самый разгар сражения Эрни уголком глаза случайно заметил высокое синее небо и тут же перевел взгляд на лица нападающих. Он посмотрел им в глаза, подумал, что они такие же мальчики, как и он. что их тоже уносит поток, что круглое око взирает и на них, и бессильно опустил руки. Та же история повторилась и в следующий раз. Издали Эрни кипел и рвался в бой, но в разгар сражения великая мысль завладевала им, и он слагал оружие. Яков продолжал жаловаться на то, что его бьют, и Эрни решил воспитать в себе ненависть к юным гитлеровцам. Он перебирал все причины для нее, какие только у него были в прошлом и в настоящем, но вскоре понял, что если бы их было у него больше, чем звезд в небе, он все равно не научится ненавидеть. Напрасно он твердил себе, что юные гитлеровцы не люди, что это звери с человеческим обличьем. Ему даже удавалось в это поверить, но вечно какая-нибудь мелочь портила все дело: то детский взгляд, то скривившаяся губа, то уголок неба, проглянувший между противниками. Эрни прибегал ко всяким ухищрениям, чтобы воздвигнуть подпорки для ненависти. Например, провожая Якова, прищуривал глаза, чтобы все видеть, как сквозь туман, но оказалось, что расплывчатые очертания и вовсе нельзя ненавидеть.
Тревога не покидала Эрни, но особенно его беспокоила судьба утлого ковчега, которым правил дед.
Эрни мучили вспышки стыда: он считал, что предает дело всех Леви. Язык его снова прилип к гортани.
2
6 ноября 1938 гола еврейский юноша Гершель Гриншпан, родителей которого выслали в Збоншинь, купил револьвер, выяснил, как им пользоваться, пошел в немецкое посольство в Париже и убил советника первого ранга Эрнста фон Рата, выбрав его в качестве искупительной жертвы. Эта новость распространилась с быстротой молнии и ударила в каждое еврейское сердце. Немецкие евреи заперлись в своих домах и обратили к небу самые душераздирающие молитвы; потом они стали ждать бури. В Штилленштадте первая группа нацистов показалась часам к пяти.
Этим вечером семья Леви сгрудилась в кухне вокруг треножной печки – последнего остатка былой роскоши. На столе уныло чадила керосиновая лампа, вывезенная когда-то из Земиоцка; в ожидании фасоли – единственного горячего блюда – малыши жадно грызли каштаны, которые Муттер Юдифь осторожно вытаскивала из горящего торфа. Усталые лица, изношенная одежда, превратившаяся в лохмотья, молчаливые от голода дети…
В дверях появился Эрни, весь в снегу и с посиневшим лицом.
– Мориц, папа, дедушка, Муттер Юдифь. – спокойно сказал он и. покосившись на малышей, знаком пригласил названных им домочадцев пройти за ним в гостиную.
– А я? – спросила барышня Блюменталь.
Эрни машинально провел пальцем по розовому шраму от переносицы до виска. Он теперь легко мог сойти за молодого еврейского рабочего из Варшавы или из Белостока. Сшитая из одеяла блуза, пушок на бледном, изможденном, как у Муттер Юдифи, лице, медлительный, сосредоточенный взгляд огромных черных глаз, лихо сдвинутый на затылок берет вместо ермолки…
– Нет, мама, – виновато улыбнулся он, – тебе нельзя, это для взрослых. Остальные прошли в тесную комнату вслед за Эрни. Он приподнял край занавески, и все выглянули в окно. Что-то красное пылало на противоположной стороне улицы, как сигара в ночи.
– Видите, – сказал Эрни, – и там, и там – их полным-полно.
– Это по нашу душу? – спросила Муттер Юдифь.
– Ясно – по нашу. Они ждут только сигнала, – сказал Эрни. – Но я припас железные брусья.
– Зачем? – холодно спросил Мордехай. – Ни огонь, ни железо не спасут нас от руки Всевышнего. Пошли ужинать.
Все вернулись в кухню. Подслушивавшая под дверью барышня Блюменталь покраснела и отскочила в сторону. За столом было особенно тихо: разорванная чернота, повисшая в воздухе после налетевшего шквала, не располагала к. беседе. Муттер Юдифь одним глазом смотрела в тарелку, а другим поглядывала на испуганных детей; дед сидел как каменный, и время от времени из этой скалы исходили звуки, подобные рокотанию грома; господин Леви-отец перебирал про себя все “за” и “против” неизвестно чего, а мадам Леви подавала на стол, отводя свои огромные страдальческие темные глаза. Малыши, чуя опасность, стали тише воды и ниже травы.
Но даже если бы сам Бог опустился к столу, Муттер Юдифь и тогда не удержалась бы от замечания.
– Ну, как вам это нравится! И стол есть, и хлеб на столе, и нож… а кусок не лезет в горло! – сказала она многозначительно.
– Что делать, – вздохнула барышня Блюменталь, и от волнения губы у нее стали тонкими. – Может, Бог сжалится над детьми?
– Бог творит свою волю, – резко оборвал ее дед, – а вот монета в пустой бутылке только и знает, что звякать!
Старик уставился на невестку таким суровым взглядом, что не оставалось сомнений, кого он подразумевает под пустой бутылкой, и сокрушенная барышня Блюменталь удалилась в свое царство у печки.
– Ой, – неожиданно вспомнила Муттер Юдифь, – мадам Вассерман сказала, что ни одна страна уже не принимает евреев. Даже в дикие страны в Африке, в Азии – я знаю? – уже не попасть. Даже они не дают нам визы. А мадам Розенберг сказала сегодня утром мадам Вишняк, что англичане впускают на Святую Землю не больше двухсот евреев в месяц. Представляете себе? Двести евреев в месяц со всего света? В одной Германии сколько несчастных евреев! А в Австрии! А сколько есть Леви! Но это еще не все! Говорят, эти душегубы пускают только богатых. На границе нужно предъявить самое меньшее тысячу фунтов! Ну, я вас спрашиваю, зачем нам виза, если…
– Там и границы-то нет – одно море, – заметил Биньямин.
– Хочешь море – пускай будет море! – взорвалась старуха. – Но стоит оно тысячу фунтов! Америка, Африка, Азия, море, не море – какая разница? Чтобы бедному еврею поехать – по морю или по суше, в Америку или в Палестину, на луну или на солнце, – нужно тысячу фунтов, и кончено! Боже мой, Боже мой, верно говорят: как бедному жениться, так и ночь коротка. Куда нам деваться, куда ехать? С детьми… Только на тот свет…
– А что, если во Францию? – спросил Биньямин без тени иронии в голосе.
– Ой, горе нам, горе! Во Франции другая история: мадам Вассерман сказала, что французы терпеть не могут немцев. Ну, вы слышали что-нибудь подобное!
– Так мы же не настоящие немцы, – в простоте душевной сказала барышня Блюменталь. – Разве мы уже не евреи?
Тут Биньямин не выдержал и улыбнулся. Наивность жены всегда веселила его ум, чуткий ко всяким фантазиям Создателя.
– Ой, жена ты моя ненаглядная, – ответил он под смех стариков, – ты знаешь, для немцев мы только евреи, а для французов – только немцы. Ну, как тебе это нравится! Мы везде не к месту: здесь мы евреи, там немцы…
– Но бедны мы везде одинаково! – воскликнула Муттер Юдифь, которую не так-то легко было отвлечь от начатой ею темы.
– Боже мой, может, я совсем дура набитая, но я все-таки не могу понять, что же нам делать, сказала барышня Блюменталь и сложила тонкие руки на своем, как всегда, огромном животе, словно хотела успокоить будущего ребенка.
– Подождать немного, – сказал дед.
– Кричать, – усмехнулся господин Леви-отец, – как кричали евреи в Проскурове.
– Боже мой! – завопила Муттер Юдифь. – Он еще шутит! Мы на краю гибели, а у него шутки на уме!
Тут Мордехай поднялся и, размахивая перед собой руками, как крестьянка, разгоняющая цыплят, выпроводил из комнаты малышей, дав Эрни свечу, чтобы он им посветил в коридоре.
Закрыв за ними дверь, он печально посмотрел на Юдифь своим тяжелым взглядом и сказал:
– Это не совсем шутка. Евреи в Проскурове кричали семь ночей подряд. Да, да. Шельнский раввин рассказывал мне, что из каждого дома в гетто несся крик, из каждого окна от первого до последнего этажа. В Проскурове орудовал казак Шельгин. Каждый вечер приводил он белогвардейцев, да покарает его Бог, и все улицы встречали его криком. Чудо же состояло в том, что бандиты приходили шесть раз подряд, но каждый раз уходили из-за криков. Это известная история, – закончил он озабоченно.
Барышня Блюменталь схватилась за горло.
– А что случилось на седьмую ночь? – едва выдохнула она.
Но ни дед, ни Биньямин, очевидно, не услышали ее вопроса и уж во всяком случае не сочли уместным уточнять, что же случилось в Проскурове в конце тысяча девятьсот восемнадцатого года на седьмую ночь тех душераздирающих криков…
Наступила тишина.
– Знаете, мне действительно становится страшно, – сказала Муттер Юдифь, улыбнувшись невестке.
– Я уже думаю, может, и в самом деле лучше быть немцами во Франции, чем евреями в Германии? Я, конечно, понимаю, хрен редьки не слаще, но все-таки…
Облокотившись на стол и подперев лицо ладонями, Мордехай сидел с отсутствующим видом.
– Ночь на носу, а тут эти звери бродят вокруг. А у нас дети… дети… – вдруг мрачно пробормотал он.
– Хочешь, я выйду посмотреть? – спросил Мориц.
– Нет, нет, нельзя себе позволять такой роскоши… Ах, да, – вернулся он к начатому разговору, как все старики, с трудом вспоминая, на чем остановился. – Мы, кажется, говорили о Франции. Я не знаю, нужно ли вообще бежать. Завтра успокоятся немцы, и за меч Божий возьмутся французы. Много ли мы выиграли от того, что уехали из Земиоцка? Ибо сказано: “Нечестивцы – жезл гнева Божьего, бич в их руках есть Мое негодование”. Все, что происходит, есть Божье наказание. Так чего же вы хотите? Избежать Его воли? (Благословенно имя Его во веки веков, аминь). Я знаю немцев – не совсем уж они дикари, это вам не украинцы. Немцы отнимут у нас все, но не жизнь. Вот я и говорю: терпение, дети мои, молитва и терпение.
Старик вдруг замолчал и бросил на дверь горестный взгляд.
– Нет, вы только послушайте его! “Я знаю немцев, не совсем они дикари, это вам не украинцы…” – взорвалась Юдифь. – Мужчины вечно так рассуждают! Тут хоть мир перевернись вверх дном, а они себе разглагольствуют как ни в чем не бывало! – распалялась она, стараясь заглушить в себе страх. – Вашими устами – да мед бы пить! Я, конечно, не такая умная, как ты, но провалиться мне на месте, если ты за весь вечер сказал хоть одно разумное слово. Чтоб меня холера взяла, если…
– Довольно, – оборвал Мордехай. – В такой вечер и так клясться… – оскорбленно проворчал он, теребя бороду.
Юдифь не осмелилась посмотреть ему в лицо, на котором было написано холодное еврейское отчаяние, но все же перегнулась через стол и по-матерински погладила старика по лбу.
– Ничего с ними не случится, – нежно пробормотала она, – я тебе ручаюсь. Что может случиться с детьми? Никогда больше не буду божиться, никогда! Я уже и сама жалею… Чтоб меня холера взяла, если я еще когда-нибудь стану божиться, – наивно добавила она в порыве искреннего раскаяния.
Мордехай огорченно пожал плечами.
– Божись, сколько тебе угодно, пожалуйста! – сказал он.
Он устало провел рукой по глазам и вдруг надавил на них огромными, как у дровосека, кулачищами, словно хотел спрятаться от света.
– Дети мои, – пробормотал он странным голосом, – дорогие мои дети, бывают дни, когда я и сам не понимаю, чего хочет Бог. Сколько наших женщин и детей замучено в Европе за эти тысячи лет! Нет, не Праведников, которые умирали спокойно, а простых смертных, испуганных агнцев, Зачем нужны страдания, – продолжал старик с горечью, – если они не служат во славу Его имени? Кому нужны бесполезные муки?
Тяжело вздохнув, старый еврей опомнился:
– Но не страдания ли человек… э… гм… приносит Богу? Благословенно имя его… Благословенно…
– Дорогой мой отец, – сокрушенно перебил Биньямин. – А кто говорит, что он не приносит? Если такова Его воля… Но я вижу, что мы просто жертвы нечестивцев, и больше ничего тут нет. Скажи мне, дорогой мой отец, разве цыпленок стремится прославить Создателя? Ты же знаешь, что цыпленок не хочет родиться цыпленком, не хочет, чтоб его зарезали и съели. Вот что я думаю относительно евреев.
– Мессия… – начал Мордехай без особой уверенности.
– Ой, Мессия. Мессия, – проникновенно сказала Муттер Юдифь, мечтательно качая головой. – Наверно, ты прав, наверно. Мессия вот-вот спустится на землю. Не сегодня, так завтра… Кто это может знать? Ой, как нам нужна помощь! А если не от него, так от кого же нам ее ждать? Знаете, мои дорогие, что-то чует мое сердце…
– Может, он уже за дверью? – сказала барышня Блюменталь, и все Леви машинально обернулись к Мессии.
10 ноября 1938 года в час двадцать ночи Иозеф Гейдрих, начальник тайной полиции, сообщил телеграфно во все отделения, что “следует ожидать” антиеврейских демонстраций на территории всего Третьего Рейха. А в два часа ночи в самом центре Штилленштадта под ледяное небо взвился первый пронзительный крик. Теплый клубок мирно спавшего города размотался и выкатился на улицы, освещенные десятками факелов, сверкавших над городом, как глаза, полные ненависти. Разыгрывался ночной карнавал. Сверху над евреями была пустота зимнего неба, а вокруг них клубилось преступление. Дома кричали, словно вели между собой какой-то адский диалог. На Ригенштрассе было светло, как днем. Будто в очистительном пламени пылали все еврейские библиотеки, какие только были на этой улице. Швейные машины, рулоны тканей и даже колыбель, приготовленная для последнего Леви, который должен был появиться на свет, – все, что находилось в мастерской Биньямина, валялось на тротуаре, все стало добычей грабителей. Биньямин, смотревший на все это через щелку в ставнях, больше всего огорчился тому, как он заявил, что среди погромщиков был его бывший заказчик.
– Дикие звери, – наставительно сказал дед.
Когда первые удары начали расшатывать дверь, Биньямин предложил прибить поперечные планки, но Мордехай только пожал плечами, и они поднялись на чердак, куда уже спряталась вся семья. Мордехай запер двери на ключ. Слабый свет падал через чердачное окно на окаменевших от ужаса Леви. У барышни Блюменталь со страху стучали зубы; малыши сбились в кучу и цеплялись за ее юбку. Муттер Юдифь, держа на руках младенца, легонько зажимала ему рот носовым платком. Шум внизу нарастал. Зазвенели разбитые стекла. Мордехай подошел к стопке священных книг и еще раз на ощупь проверил, все ли они на месте, чтоб ни одна не досталась грабителям. Эрни держал Свиток Торы, отданный на хранение семейству Леви во время пожара в синагоге. Мордехай надел филактерии на лоб и на запястье, покрылся талесом и застыл, как уснувший утес, вырисовывающийся в темноте, – только губы шевелились. Яков почувствовал, что вот-вот закричит…
– Мама, – простонал он, – мне не удержаться, я сейчас начну кричать, зажми мне, пожалуйста, рот.
Эрни разглядел, как поднялась рука барышни Блюменталь, и в этот же миг на лестнице раздался пронзительный голос, перекрывший весь остальной шум:
– Наверху! Они наверху!
Эрни положил Свиток на пол и схватил железный брус, который припас на всякий случай. Увидев это, дед подошел и ударил его по липу.
– Ради спасения жизни потерять ее смысл?
Дверь чердака уже дрожала под ударами. За ней о чем-то торопливо переговаривались, и вдруг раздался дрожащий, умоляющий голос старого обойщика с Ригенштрассе:
– Послушайте, господин Биньямин, уж очень они разошлись. Дайте нам бросить в костер ваши священные книги, хотя бы книги, господин Биньямин…
– Только книги? – спросил Биньямин.
– Для начала только книги, – послышался издевательский голос.
– Нет, нет, – снова заговорил обойщик. – Только книги. Остальное – через мой труп. Они… – Дальше его голос потерялся в общем шуме.
Мордехай наклонился, поднял железный брус, который Эрни выпустил из рук, и медленно, но удивительно ловко подошел к двери. Он распрямился, словно вырос, расправил плечи и обернулся к сгрудившемуся в темноте, стонущему семейству. Эрни заметил металлический блеск зубов и услышал странный, горький смех, прорывающийся между почти безумными словами:
– Вот уже тысячу лет, как изо дня в день христиане стараются нас убить – ха-ха! – а мы все это время изо дня в день стараемся выжить – ха-ха! И нам это удается. А знаете, почему, ягнята мои?
Он вдруг резко вернулся к двери и упер в нее железный брус. От этого рывка филактерии и талес упали на землю.
– Потому что никогда не отдаем мы своих священных книг! – вскричал он, вкладывая в свои слова необычайную силу. – Никогда! Никогда! Никогда! Скорее мы отдадим душу. – добавил он, когда под брусом со страшным грохотом треснула дверь. – Душу вам отдадим, – докончил он, как в бреду, и в ярости его звенело последнее отчаяние.
Он вытащил брус из рассеченной двери, оперся на него, широко расставив ноги, как дровосек, уверенный в своем топоре. Потоки света хлынули через разбитую дверь, снова раздались крики, но уже на лестнице, и они стали словно бы потише. Пот, покрывавший скулы деда, заблестел у него и на усах. Потом Эрни увидел, что он катится у деда из печальных глаз.
– Какой позор… в моем возрасте… какой позор – Эрни тем более запомнились эти минуты, что, утратив связь вещей, он сосредоточил все свое внимание на малейших подробностях. Так, например, у господина Леви-отца на самом кончике носа повисла капля настоящего пота, и она мучительно преследовала Эрни. Она пугала его, как крики на лестнице, сверкала страшнее булыжника, неожиданно брошенного в дверь, была ужаснее, чем наступившая после погрома тишина.
3
11 ноября 1938 года только в одном Бухенвальде было принято со всеми обычными формальностями более десяти тысяч евреев, и громкоговоритель вещал: “Каждого еврея, который желает повеситься, просят держать во рту записку со своим именем, чтобы его можно было опознать”. А 14 ноября все семейство Леви в полном составе развернуло знамя эмиграции и с тюками в руках перешло через Кельский мост.
И еще через полтора месяца семейство Леви уже усматривало в пережитом погроме перст Божий. Что же касается Муттер Юдифи, то она усматривала не один перст, а всю руку. Для этого были некоторые основания, ибо все, что под небом именуется демократией, решило отплатить Германии той же монетой: приговор гласил, что в наказание за антисемитизм
Германии придется держать своих евреев при себе. Это мудрое решение было принято в тот момент, когда нацизм, задыхаясь от “жидовского духа”, разрешил жидовскую эмиграцию через Гамбург. Хлынувшие в этот порт десятки тысяч немецких евреев столкнулись с непреодолимым препятствием: все без исключения демократии сказали свое слово: “Визы нет”. Некоторые евреи все же успели попасть на корабли. Из чистой гуманности их не пустили ко дну; евреям было любезно разрешено умирать у причалов Лондона, Марселя, Нью-Йорка, Тель-Авива, Малакки, Сингапура, Вальпараисо и у всех других причалов, какие им только понравятся.








