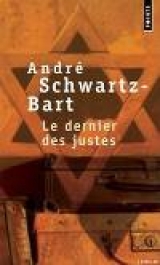
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Увидев повелительное выражение в глазах коротконогого человека, он с неуклюжим кокетством покачался на каблуках и, наконец, робко проговорил: – С вашего разрешения, герр Штокель… Когда я был в Польше, там после каждой акции повторялось одно и то же: казалось, весь сектор уже обработан подчистую – так нет же, в последнюю минуту из какой-нибудь дыры обязательно вылазит дерьмо, а то и два, и идет себе спокойно в могилу или в грузовик да еще “особой обработки”, понимаете, хочет. Так и этот. Только и всего.
Коротконогий человек откинулся в кресле и удовлетворенно закряхтел.
– А когда тебе в голову пришла эта мысль?
– С вашего разрешения, герр Штокель… когда это дерьмо (он показал на тело Эрни, который, наконец, потерял сознание) сказало: “Где вы, где вы?” Как раз в эту минуту, герр Штокель.
– А я так думал с самого начала. – сказал коротконогий человек.
– Неужто? – в изумлении воскликнул подчиненный.
Он опустил голову, чтобы собраться с мыслями, но, услышав хихиканье начальника, сообразил, что тот ожидает знаков восхищения его блестящим остроумием, поэтому он вежливо поднес руку ко рту и сказал:
– С вашего разрешения, герр Штокель, мне не удержаться от смеха…
Когда Эрни пришел в себя, ему сначала показалось, что он все еще находится в Майнце и лежит в больнице: так же как тогда, вокруг его койки шептались евреи, так же как тогда, он болезненно ощущал все свое тело и так же"; как тогда, ужасно не хотел кричать, хотя рот помимо его воли издавал какое-то утробное бульканье, которое, может, и было криком. Потом он различил серый бетонный потолок и сияние желтых звезд на белых халатах санитаров. Над его голым телом, распластанным на окровавленной простыне, заплясал фантастической величины шприц, и Эрни почувствовал, как ему в бедро входит игла, а вместе с ней – струя свежести и тишины. Он закрыл глаза и уснул. Пока его осматривали, проверяли каждую рану, каждую связку, каждую кость. пока обмывали и дезинфицировали кожу, ему снилось, что он справляет свою свадьбу и в воздухе гремят трубы радости.
… Утро. Заря еще не взошла. Он отправляется в баню и совершает там омовение, такое тщательное, что плоть его достигает небывалой, недоступной ни человеку, ни духу чистоты, как и полагается в такой момент, когда сон есть обещание счастья. Хрустальное мыло само скользит по коже, он до него даже не дотрагивается и лишь изредка приподнимается, когда мыло хочет пройтись по спине (привратник в бане рыжей бородкой показывает дорогу к синагоге). “Не думайте, – говорит ему Эрни. – что моя благодарность не выйдет за эти стены, не из тех я молодых мужей, которые видят весь свет через обручальное кольцо; так что позвольте мне, пожалуйста, никогда не забывать вашу бороду. К чему нам продавать мыло, если никто в мире о вас не вспомнит.”“Так берите мою бороду с собой. – спокойно отвечает привратник и добавляет: – Позвольте и мне поблагодарить вас за вашу признательность. Я никогда не забуду то мыло. что продал вам. Мазел Тов”.
И когда привратник говорит ему на идиш это пожелание (счастливой судьбы), Эрни видит, как в его глазах загораются две Звезды Давида, и начинает понимать, что перед ним Праведник. “Значит. – думает Эрни, – мои предки радуются вместе со мной, откуда можно заключить, что я действительно потомок Праведников, и мне положено быть счастливым за них за всех подле моей возлюбленной”. “Наслаждайтесь вашим хрустальным стаканом. – продолжает привратник, одобрительно улыбаясь. – даже если он у вас всего на один день”. “Пожалуйста, не думайте. – тотчас же замечает Эрни. – что у меня есть хоть малейшее желание наслаждаться споен невестой. Она не хрустальный стакан, из которого пьют виноградное вино, и она не…”
Но привратник иронически щелкает клювом, и две Звезды Давида смотрят на Эрни, словно желая сказать: уж не собираешься ли ты, мой мальчик, обучать меня, как зароняют семя? А потом он становится большой желто-серой птицей и. вяло хлопая крыльями, улетает под лепной потолок темной синагоги.
Рыжая бородка раввина тоже напоминает клюв, и черный талес расходится так, что видно его белое ласточкино брюшко. Эрни молится, чтобы изгнать из своего тела, сердца и души всякое христианское искушение, чтобы принять возлюбленную, как нищий принимает Божий день. А вот и улыбающаяся Муттер Юдифь появляется слева от раввина: волосы на парике заплетены в длинные косы и прикрывают ее наготу, как платье со шлейфом: в правом глазу у нее дрожит слеза, в левом – молочная жемчужина. А в углу синагоги, окруженная десятком людей, стоит невеста: такая красивая, что нее меркнет вокруг; такая красивая, что и сама, постепенно исчезая, делается невидимой, и в воздухе остается лишь восхитительный контур, заполненный лицами. “Музыку нам”, – торжественно говорит раввин и протягивает возлюбленной стакан вина; та скромно отпивает не больше половины, подставляя нижнюю губу, чтобы не капнуть. Эрни тоже пригубляется, затем бросает хрустальный стакан под ноги и оборачивается к возлюбленной: ее нежное, сладостное тело теперь снова видно, но очертания лица остаются незнакомыми. “Чтобы ни одна женщина, – говорит Эрни пылко, – не пила из чаши, которую пригубила ты, и чтоб ни один мужчина не коснулся чаши, из которой пил я, и да возродится эта разбитая чаша в наших сердцах, и да пребудет ее дух в нас. в живых или мертвых; ибо знай, моя возлюбленная, для того дух и создан таким, чтобы глаз человека не мог его увидеть, а нога человека – раздавить. Аминь”. По бурным аплодисментам Эрни понимает, что придумал новую форму традиционной речи. “Чудная свадьба”. – говорит мадам Фейгельсон. Муттер Юдифь добавляет: “Чтоб не сглазить! Испокон веков Эрни с Ильзой созданы любить друг друга”. “А я думала, ее зовут Голда”. – замечает мадам Фейгельсон. “Так я и сказала”. – спокойно отвечает Муттер Юдифь. Когда процессия доходит до Ригенштрассе. Муттер Юдифь кутается в шлейф из кос, хотя светит веселое солнце, подкрашенное синевой и зеленью платанов, с которых облетают крылатые семена; они смешались с цветами и покрыли все косы Муттер Юдифь. За ней выступает возлюбленная об руку с господином Леви-отцом, который так важничает, словно жених он сам, а не его сын Эрни-Счастливый. За ними следует мать возлюбленной – небесное создание, чья рука покоится на локте Эрни и весит не больше паутинки. Лица ее не видно из-за легких розовых слез счастья, но-все догадываются: ей льстит, что ее зять – Эрни Леви. И, о чудо, появляется скрипач! Белый живот, легкий черный талес. Он пляшет, и порхает, и кувыркается, будто и впрямь мнит себя ласточкой. Удар смычка – и начинается свадебная песня: “Кто это восходящая от пустыни, опирающаяся на друга своего?” Ой вэй, ой вэй. ой вэй! Потом наша ласточка останавливается посреди дороги, поджидает свадебную процессию, присоединяется к ней и семенит рядом, будто это чопорное католическое шествие, а из окон домов высовываются головы и машут кулаки.
“Положи меня, как печать, к сердцу твоему, ха ха! Как печать, на мышцу твою, хи-хи! Потому что сильна, как смерть, любовь”.
Все уже хотят, чтобы скрипач умерил свой восторг по поводу свадьбы, но, к сожалению, нельзя прекратить пение, потому что в окнах поднимаются кулаки. Эрни считает, что одному из кулаков следовало бы подойти и вежливо сказать: “Дамы-еврейки и господа евреи, не так уж в мире весело, чтобы вы так залихватски играли на скрипках: каждый удар вашего смычка пронзает нам сердце: неужто в вас совсем нет жалости?” Но упрямые кулаки молчат, поднимаясь только издали, и получается, будто процессию никто не тревожит: все пары идут себе спокойно, изящно и томно поддерживая друг друга, как на приятной прогулке. Даже эта ласточка-скрипач, и та замедлила полет в знак недовольства кулаками: и в гостиную семейства Леви она входит под протяжный звук смычка и под душераздирающее пение:
Большие полы не икнут потушить любим, и реки не зальют ее, ой вэй, ой вэй, ой вэй! Кто это восходя-тая от пустыни, опирающаяся на друга своего?
И где только господин Райзман раздобыл такой роскошный цилиндр, а дорогая мадам Тушинская – эту лисью шляпу, которая едва прикрывает затвердевшие у нее на шее бугорки? А этот оборванец. Со ломов Вишняк, держит трость с золотым набалдашником между коленями и вцепился в нее обеими руками. будто боится, что она улетит.
К счастью, маленькая проститутка из Марселя, которую Эрни тоже пригласил, пришла в очень скромном платье, а второй ивритоязычный солдат – в своей грязной форме. Но, увы, всякий раз, когда у него со лба кровь капает в тарелку, он не перестает извиняться. Хоть умри, нельзя понять, зачем такому доброму, чистому человеку, как он, так усердно извиняться. Зато петь он соглашается, не ломаясь. Сразу влезает на стул и тоненьким, как мышиный писк, голоском выводит по всем правилам вокального искусства старинную любовную песню, которую никто не знает. После каждого куплета, сто раз извиняясь, он протирает узкий сток, по которому кровь попадает ему в рот. Допев до конца, он обворожительно улыбается и просит прощения за то. что в последнем куплете говорится о смерти влюбленных. “Извините. – произносит он. прежде чем сесть. – извините, друзья мои. за грустный конец. Из песни слова не выкинешь; так ее поют в наших краях, эту простую, немудреную песенку: про такие песни обычно говорят: конец плохой, но это значит, что он хороший”. Второй ивритоязычный солдат садится под гром аплодисментов, и тогда красный, как мак. господин Леви-отец пытается что-то объяснить молодому мужу, но женщины все время его перебивают язвительными насмешками, и у него ничего не получается. “Сын мой, послушай моего совета… ибо божественный инстинкт… если житейскую мудрость соединить с божественным инстинктом…”. – говорит он и садится на стул тоже под бурные аплодисменты. Эрни благодарит его кивком головы и внимательно следит за скрипачом, который прыгнул на стол и. сложив губы сердечком, скачет между тарелками, яростно пиликая на своей скрипке. Но нот задрожали и затихли последние– звуки песни гетто, скрипач взбирается на горлышко бутылки и начинает танцевать, как в старину, на носочках. Поглощенный этим зрелищем, Эрни еще ни разу не взглянул на невесту. хотя, ощущая легкое, как дым. давление на локоть, он догадывается, что она стоит слева от него. “Провалиться мне на этом самом месте, если влюбленные хоть словом перекинулись”. – говорит Муттер Юдифь. “Я же не перестаю разговаривать с моей возлюбленной”, – замечает Эрни. “А я не перестаю его слушать”, – откликается молодая жена. “Чтоб я лопнула”, – снова начинает Муттер Юдифь гневно. Но Эрни, улыбаясь, перебивает ее и. по прежнему глядя прямо перед собой, доверительно спрашивает: “Где слова? Где они?” “Да, где они?” – эхом вторит возлюбленная. “Хоть разок взгляни на псе”. – жалобно просит Муттер Юдифь. “А я только это и делаю”, – говорит Эрни. “Он только это и делает” – повторяет голос невесты. “Ну. тогда будь счастлив”, – говорит Муттер Юдифь и целует его. Сразу же вся свадьба гуськом выстраивается за ней в ожидании своей очереди. “Будь счастлив, будь счастлив!” – повторяют все и плачут. Потом молодожены идут к себе в комнату, и по дороге возлюбленная шепчет: “Ноги несут меня туда, где все мило сердцу моему”. Комната молодоженов такая крохотная, что в ней едва помещается швейная машина, узелок и брезентовая раскладушка, покрытая серым одеялом. Эрни с Голдой все же входят туда, и. словно под давлением их спокойного дыхания, комната раздувается, увеличивается, как бы подгоняя свои размеры иод величину их счастья. Теперь это уже огромный дворцовый зал, посреди которого возвышается кровать с балдахином: под балдахином сияет небо, усыпанное звездами, некоторые из которых тихонько спускаются на простыни. Со всей скромностью, какую требует хорошее воспитание, Голда скользит к кровати. Так что права была мадам Леви, когда говорила, что Голду вырастили для ложа пророка (хотя дед утверждал, что даже на такую божественно красивую девушку, как Голда, пророки смотрят холодным взглядом бесплотного духа). И вот уже Эрни берет возлюбленную за руку, и пестрые бабочки, рождаясь у них между пальцами, улетают под небо над балдахином; и вот уже вся рука Голды покоится в руке Эрни, и из жара их рук рождается голубь; Он смотрит на них с минуту большим спокойным глазом, а в это время между ними уже рождается курица, потом белый петух с красным гребнем, потом сверкающая чешуей рыбка… Но когда Эрни привлекает Голду к себе, ее тело оказывается холодным. Он открывает глаза и видит, что держит в своих объятиях тонкий пучок увядшей травы.
Что случилось? Разве бывает такое на берегах Сены? А что со свадьбой? “Где вы, где вы?” – жалобно стонет Эрни, выпускает из рук пучок травы и бросается в коридор. Там тоже пусто. Он в столовую – и гам пусто. Гости из нее ушли, наверно, много лет назад: вон сколько паутины на стенах и в углах потолка; а на столе, за которым проходило веселое пиршество, колышутся завитки плесени. Эрни голый выбегает на Ригенштрассе и умоляет прохожих сказать. куда направилась свадебная процессия. Но почему в ответ прохожие говорят о погоде? Почему они равнодушно пожимают плечами, глядя сквозь него, как сквозь прозрачное стекло? Почему их взгляды сделались такими пустыми и даже вовсе перестали быть взглядами? Эрни опускает глаза и видит, что его окровавленное тело расчленено, как на школьных таблицах по анатомии – каждая мышца, каждый нерв – отдельно. Он, конечно, подавлен своим открытием (а может, наоборот, загадочным образом черпает в нем новые силы), но все же довольно легко добирается до Дранси; уютный вокзал дрожит от удовольствия, купаясь в нежных потоках солнца. Никто из станционных служащих не хочет давать ему никаких справок; все они захлопывают у него перед носом окошки, словно это их прямая обязанность; а один из них даже собрался уже выпроводить вон эту ободранную шкуру под тем предлогом, что она своим видом оскорбляет пассажиров, но в этот момент Эрни почувствовал, как чья-то ладонь легла на обнаженную мышцу его плеча. “Фигура опаздывает, ей надо торопиться. – говорит всем немецкий солдат, – очень мало времени остается до отхода особого поезда”.
Особый поезд ждет на вокзале, как бы спрятанном внутри другого вокзала. Эрни еще не дошел до платформы, когда особый поезд задрожал, зафыркал и тронулся. Эрни прыгнул на последнюю подножку, открыл дверь в купе, а там – вся свадьба.
“Мы тебя ждали. – закричали все, – мы думали, ты уже не придешь”. “Не оставаться же мне единственным евреем. – вздыхает Эрни. – каждая капля моей крови взывала бы к вам. Запомните: где вы, там и я. Разве не ранит меня меч. пронзающий ваши сердца? Разно не слепну я, когда нам выкалывают глаза? И разве не еду я вместе с вами, когда вы садитесь в особый поезд?” “Едешь, едешь”. – оживились все, кроме барышни Блюменталь; она за билась в угол с грудным младенцем на руках и робко зажимает коленями свой узелок. “Ангел небесный. – жалобно мурлычет она, – я так надеялась, что ты не придешь”… “Это еще почему? – спрашивает Эрни. – Разве мне нет места среди вас?” “Надевай-ка вот эту куртку. – говорит дед. – и. чем слушать пустые бутылки, садись лучше возле Голды; она как хорошая еврейская жена оставила тебе место, хоть она и не дочь пророка”. “И я тебе оставил место”, – говорит Эрни Голде. Она молча пожимает ему руку и. высовываясь в окно, обращает его внимание на необычайную длину особого поезда. Издали появляются другие поезда с таким количеством вагонов, что они теряются из виду. Все поезда съезжаются в один центральный пункт, расположенный где-то далеко впереди паровозов. В Польше, по слонам Мордехая. “Куда мы едем, я не знаю, и догадываться, как некоторые, не умею, но едем мы туда все вместе, и это хорошо”, – говорит Муттер Юдифь. “В Польшу, – повторяет Мордехай. – Бог нас всех туда зовет, больших и малых. Праведников и простых смертных”. “Верно, – нравоучительно заявляет второй ивритоязычный солдат, – и теперь тут образуется пустота в форме шестиконечной. звезды”. “Но Бог расплатится с ними той же монетой,
– вдруг картавит Мориц. – Он сотрет их. как и нас, в порошок”. И в эту минуту Эрни чувствует, что обязан высказать свою давнишнюю великую мысль. “Мориц, Мориц, – говорит он, – если есть Бог, Он всех простит: потому что всех нас Он бросил слепыми в реку и слепыми оттуда вытащит; слепыми, как в первый день появления на свет”. “Тогда что же он сделает с нами, если простит остальных? Отправит в особо роскошный рай?” – спрашивает Мориц. “Нет, нет, – спокойно отвечает Эрни. – Он скажет нам: вот что, возлюбленные дети мои, я сделал из вас жертвенного агнца для всех народов, чтобы сердца ваши навсегда остались чистыми”. “О. мой друг.
– вступает снова в разговор второй ивритоязычный солдат, – зачем все-таки эта поездка? Зачем?” Все бесполезно. Никакие слова Эрни не могут успокоить сердце второго ивритоязычного солдата и избавить от ужаса малышей, тихо сидящих между Муттер Юдифь и дедом и прижимающих к себе узелки. Эрни вдруг начинает бить дрожь. Он подходит к Голде. и она, любовно кладя руку мужу под куртку, нежно гладит его грудь. Но, несмотря на счастье, которым наполняется его душа, прикосновение этой руки к обнаженным нервам и мышцам причиняет такую жестокую боль, что Эрни едва подавляет крик и улыбается Голде, которая вся усыпана травой. В этот момент скрипач ударяет по струнам, и все начинают плакать. Никогда еще голос скрипача не звучал с такой силой.
О, нельзя ли подняться на небо.
У Бога спросить, зачем все устроено так?
Поезд исчезает в конце пути, но звуки скрипки легкой дымкой еще поднимаются в небо. И вдруг – Эрни совсем один. Он стоит голый на железнодорожном полотне, расставив ноги между рельсами, и ветер перебирает каждую жилку его окровавленного тела. Нет, думает он, ничто так не передает ощущение смерти, как расставание с любимым существом. Дым от скрипки тоже исчезает, и Эрни начинает во сне кричать. Кричать, кричать, кричать…
НИКОГДА БОЛЬШЕ!
1
Несколько товарных поездов, несколько инженеров и несколько химиков одолели это древнее жертвенное животное – еврейский народ Польши. Пройдя непостижимыми путями через всю историю, старинная, вереница костров завершилась крематорием: реки влились в море, где теряется все: и река, и шлюпка, и человек.
В процессе истребления еврейской расы лагерь Дранси был лишь одним из многочисленных стоков, установленных на покорных склонах Европы: одним из сборных пунктов, откуда спокойно, без суматохи гнали стадо людей дальше, на бойню, к укромным долинам Силезии, к новоявленным небесным пастбищам. В искусстве уничтожения, в науке убийства немцы достигли такого совершенства, что для большинства обреченных на смерть истина открывалась только в газовых камерах. От гражданских процедур до ритуальных обрядов, от внесения в списки до нашивания желтой звезды, от рассылки по транзитным лагерям до окончательной выгребки останков – на всех этапах механизм работал безупречно, добиваясь полного послушания от человеческого стада, перед которым до самого конца помахивали лоскутом надежды.
Так, весь лагерь Дранси верил в существование далекого царства под названием Пичипой. где под надзором белокурых пастухов евреи смогут прилежно жевать траву новых времен.
Даже те, кто прослышал об “окончательном решении”, не доверяли ни ушам своим, ни памяти, ни помутившемуся рассудку. Внутренний голос успокаивал их, уверял, что такого не было, нет и быть не может, пока написты остаются человекообразными хотя бы на вид. А когда этот голос умолкал, его либо сменяло спасительное безумие, либо несчастные бросались с шестого этажа на цементную площадку, получившую в лагере печальную славу. Но и это они делали молча, унося с собой страшную тайну, а если бы им пришло в голову кому нибудь ее поведать, нее равно никто не поверил бы, потому что душа привязана к жизни, как верная рабыня.
В изоляторе Эрни видел последствия всех телесных и духовных страданий, какие только могут выпасть на долю живого существа. Старики из еврей ских богаделен Парижа, умалишенные из сумасшедших домов, женщины прямо из родильных отделений, дети, покрытые гноем и коростой, с искусанными клопами лицами – бетонный барак дрожал от стонов день и ночь. Санитары с желтыми звездами, в прошлом известные врачи и знаменитые профессора, обводили двух и трехэтажные койки беспомощным взглядом, испуганным и невидящим, как у слепых. Ад. Настоящий ад. Ни больше, ни меньше. А бороться в аду – все равно что играть с дьяволом в жмурки, понял Эрни, глядя на свары, которые затевались вокруг помойных ведер, заменявших кастрюли.
Санитары прозвали его Придурком. Особенно один из них, католик, у которого в роду кто-то оказался евреем, так и ходил вокруг койки Эрни, словно завороженный из ряда вон выходящим поступком, приведшим молодого еврея в изолятор.
– Это же безумие! – говорил он. приподнимая очки в золотой оправе, будто хотел получше разглядеть Эрни. – Мало вам того, что вы еврей, так вы еще пришли добровольно в лагерь!
– А все, что происходит сейчас, вот сию минуту, не кажется вам безумием? – однажды сказал ему Эрни. – Посмотрите, у вас на груди медальон с Пречистой Девой, а на халате – желтая звезда. А родиться с восьмой частью еврейской крови разумно?
– Знаю. знаю. – ответил санитар. – В былые времена, если вам не угодно было разделить участь преследуемых, вы легко могли ее избежать, крестившись. Но сегодня они хотят не вашей души, а на шей крови. Они полагают, что души у вас нет.
– А вы и по сей день еще верите в… гм?..
На верхней койке утробно залаял сумасшедший. Не расставаясь с тяжелой маской достоинства, еврейско-христианский врач, извинившись перед Эрни, стал одной ногой на его койку и. о чем-то поговорив с сумасшедшим, успокоил его на целый час – тому ведь только и нужно было, что заявить о своем существовании. Затем доктор спустился на пол. и пока он отвечал на заданный ему вопрос. Эрни, немного Сбитый с толку корректностью, которую бывший профессор напускал на свою заключенную в лагерь особу, разглядывал золотые очки. И. вдруг он увидел за ними близорукие, по-французски голубые глаза, полные страха, сквозь который, как сквозь прореху в ковре, проглядывало скорбное, страдающее существо, воплощенное в плоть и кровь.
– Верую ли я и по сей день? День на день не приходится, мой бедный Придурок. В те времена, когда я еще был “господином”, как вы меня величаете, один из моих друзей, стараясь меня поддеть, всегда спрашивал, может ли Бог в споем всемогуществе создать камень такой тяжести, чтоб и самому не под силу было подмять. Со мной так и получается: я верю и в Бога и в такой камень.
Эрни подумал немного и улыбнулся.
– Не сердитесь на меня, господин Жуффруа, но я ничего не понял. – сказал он таким тоном, что санитар счел возможным не в ущерб своему достоинству засмеяться кудахтающим смехом, правда, вежливо прикрывая рот рукой.
– Ох. Придурок! – сказал он. наконец. – Что верно, то верно, мы, французы, часто бываем "умными без толку” кажется, так у вас творится. Сказать по правде, я и сам уже не знаю, католик я или мет. Когда в прошлом году выяснилось, что я на восьмую часть еврей, мне сначала стало очень стыдно. Что поделаешь, это было сильнее меня. Мне казалось, что я распял Господа нашего, что я… вы меня понимаете, да? Тогда я еще находился по ту сторону. А потом я попал сюда и начал стыдиться своей нееврейской крови. Мучительно стыдиться. Я думал о христианстве, об этих двух тысячелетиях катехизиса, который подготовил почву, сделал, так сказать, возможным… вы меня понимаете, да? (Прореха в ковре увеличилась). Две тысячи лет христологии… – про износ он задумчиво, как бы про себя. – И все же… нелепо, конечно, я понимаю… и все же я до сих пор верую. Личность Христа мне дороже, чем когда бы то ни было. Только, знаете, это уже не тог белокурый Христос из соборов, не прославленный Спаситель, распятый евреями. Он… – Доктор показал на изолятор, наклонился к зловонной койке Эрни, и взгляд его стал совсем распахнутым. – Он совсем другой. – докончил господин Жуффруа таким голо сом, каким говорят все заключенные, и даже с едва уловимой еврейской интонацией.
К великому удивлению Эрни и соседей по койке, а может, и к своему собственному, доктор придержал очки и разрыдался.
Октябрьское небо напоминало слой грязного снега, готового вот-вот завалить весь двор. Ветер завывал человеческими голосами и кружил черную пыль над шлаком, покрывавшим всю территорию лагеря. Во дворе было пусто. Только возле барака “нормальных” по цементным плитам прогулочной площадки бегала кучка детей в развевающихся кашне. У ворот, поблескивая кожей и сталью, маячили эсэсовцы, которые теперь сменили французских жандармов, утративших в последнее время должное рвение. Доктор Луи Жуффруа, осьмушка еврея, поддерживал бледного, истощенного, несуразного в своем черном кафтане Эрни, который по состоянию здоровья не имел уже права пользоваться преимуществами изолятора. Так. ведя друг друга, они прошли вдоль административного корпуса, миновали общественную уборную из красного кирпича и добрались до прогулочной площадки возле барака “нормальных”.
Голова у Эрни была выбрита, но короткая щетинка прикрывала следы пыток. Правда, плохо пришитое ухо отвисало, как от усталости, и беззубая улыбка делала его рот старческим. Когда они подходили к одному из двух входов в барак, оттуда пробкой вылетел мальчишка лет пятнадцати с отмороженным синим лицом и с бьющимися по ветру волосами.
– Мне теперь не холодно! – радостно крикнул он им. показывая на огромные рукавицы, привязанные веревкой к запястьям.
С криками “мне теперь не холодно” он пронесся через прогулочную площадку. и скрылся во втором входе в барак.
Осьмушка еврея представил Эрни старосте комнаты на первом этаже по лестнице “А”. Заслышав прозвище Придурок, остальные обитатели немедленно окружили койку Эрни. Ему дали суп, хлеб, витаминные таблетки и приправили нею эту провизию массой хитроумных советов, как избежать голода, жажды, болезни, смерти и так далее. Комната ничем не отличалась от изолятора, разве что н ней было спокойно: кто играл в карты, кто читал, кто вслух молился. Кучка людей стояла у круглой дымной, но холодной печки. Когда об Эрни уже немножко забыли, он. дрожа от холода, вылез из-под одеяла, поднялся наверх и начал обходить женские комнаты. “Красивая рыжая девушка. Как зовут? Голда. Да вот уже скоро три месяца”. Только один раз он осмелился упомянуть, что она “чуточку прихрамывает, но, вы знаете, совсем чуточку и очень мило…” Ему отвечали неопределенно: столько эшелонов разгрузили и нагрузили за три месяца… кто его знает… разве всех упомнить?.. А за его спиной шушукались. Перед лестницей “Б” он остановился: у него уже голова кружилась от этих женских комнат, от неописуемого беспорядка в них. от тысячи мелочей, по которым угадывалось желание сохранить до последней минуты шубку, помаду, забавную безделушку, прелестную ее-шину – жалкие остатки атрибутов женского начала. Но при входе в следующую комнату его сердце забилось еще прежде, чем он различил шевелюру Голлы, на одной из коек напротив окна.
Голда сидела, обхватив голову руками, па самом краю койки и не слышала, как он подошел. Эрни дотронулся до ее красной куртки, будто хотел убедиться, что это не сон, и тогда только она подняла лицо, вспухшее от клопиных укусов, осунувшееся, исхудавшее, пожелтевшее. Голда зажала рот руками, чтобы не закричать. Руки были отморожены, покрыты синими пятнами. Эрни сел возле нее и расплакался. Когда он смог снова посмотреть на Голлу. он увидел, что она разглядывает его печальными глазами без слез с тем особым равнодушием, которое характерно для всех заключенных.
– И ты здесь? – произнесла она холодно.
– А родители где? – спросил Эрни.
– Давно уехали. В Пичипой.
Эрни в отчаянии сжимал ее посиневшие от холода руки, но она не обращала на это никакого внимания.
– Давно ты сюда попал? – вежливо осведомилась она и, не дожидаясь ответа, тем же бесцветным голосом продолжала: – Я с трудом узнала тебя. Бедняжка, можно подумать, что тебя машина переехала. Только глаза и остались. Ну, а меня как ты находишь? Все еще красивой?
– Голда, Голда, – сказал Эрни.
Немного поодаль от них начали собираться любопытные. С верхней койки свесилась чья-то лохматая голова. Голда уныло ответила.
– Нет больше Голды. Здесь каждый сам за себя. Но я, конечно, рада тебе. Не думай, что…
– Может, ты голодна? – перебил ее Эрни. Она на него растерянно посмотрела, и в глазах у нее появилось что-то осмысленное.
– Подожди, – сказал Эрни, вставая.
Он шутливо потрепал Голду по синему носу, и ему удалось добраться до дверей так. чтобы никто не заметил, какая страшная слабость подкосила его ноги. Но во дворе на ледяном ветру он схватился за живот и согнулся в три погибели от сильных резей, которые у него теперь часто бывали после дизентерии. И все-таки, несмотря ни на что. он почувствовал странное успокоение: ему казалось, что отныне ни люди, ни обстоятельства, которые делают с людьми все что угодно, никогда уже не смогут выбросить его за борт еврейского ковчега, где с той самой минуты, как он попал в изолятор, у него возникло ощущение, будто его поддерживают незримые тени близких: где несколько минут назад он смог наяву коснуться пальцев Голды. Неважно, что она стала уродливой, раздражительной и безразличной к прошлому. Он бодро приподнял одеяло на своей койке и нашел нетронутый ломтик хлеба с витаминными таблетками. Изобразив улыбку, он самым естественным тоном сиро сил ближайших соседей, не подарит ли ему кто-нибудь кусочек шоколаду или что-нибудь другое из сладостей “для сердца”. Соседи и негодовании отвернулись.
– Вы совершенно правы, – сказал на идиш один из игравших в карты. – он невыносимо смешон.
– Но я же не для себя прошу! – чуть не заплакал Эрни. – Клянусь вам. мне нужно дать это другому человеку.
Смех усилился. В мгновенье ока вся комната узнала о новой выходке Придурка. Однако лежавший на соседней койке мужчина с седыми висками запустил руку в потайную дыру, проделанную в матраце, и вытащил оттуда футляр из-под очков, в котором были спрятаны два кусочка сахару и несколько леденцов. Он высыпал содержимое футляра себе на руку, подумал немного, положил один леденец обратно, подтянулся к Эрни, который согнулся под градом насмешек, и с улыбкой протянул ему свое маленькое состояние.








