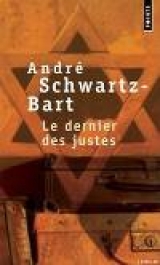
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Часом позже причесанный, отмытый, наряженный в двухцветную рубашку Эрни оживленно участвовал в дружеском банкете на втором этаже захудалого ресторана. Господин Марио проникся к бродяге особой симпатией, заметив у него на руке розовый след, оставшийся после попытки самоубийства. Потом точно такой же след Эрни увидел на правой руке господина Марио: тот был левшой. Но, поглощенный едой. Эрни об этом не задумался. А господин Марио не спускал с него глаз.
– Ты слушай. Поешь, потом подожди, потом попей, потом опорожнись, если можешь, не то у тебя брюхо лопнет. Уж я – то все прошел, все знаю… – доверительно говорил господин Марио, наклоняясь к Эрни.
Друзья господина Марио, видимо, отмечали получение большого куша. Сначала они стеснялись гостя, но потом завели откровенный разговор о торговле; о сигаретах, кожах, молочных продуктах и медикаментах. Постепенно мужчины начали расстегивать пояса, а женщины – визгливо хихикать. Мелани то и дело спускалась и поднималась по лестнице, ведущей прямо в кухню. Она была совсем молоденькой, но держалась очень достойно, и Эрни никак не мог понять, почему каждый раз, когда она проходила мимо, даже бдительные взгляды жен не могли помешать мужчинам заигрывать с официанткой довольно грубым образом, пуская в ход руки. Она же высоко держала голову над подносом и. казалось, ничего не замечала. Все это ужасно развеселило Эрни, и, захлебываясь пьяным смехом, он начал изображать собаку.
Сначала он стал рычать над своей тарелкой, на которой остались только кости, затем грохнулся на пол, поднялся на четвереньки и под дикий хохот собутыльников запрыгал вокруг стола. Одна девица бросила ему кость, которую он немедленно стал грызть по-собачьи.
Взрыв хохота сотряс зал. Женщины корчились от смеха. Наконец, подбежав на четвереньках к Мелани. Эрни попытался ухватить зубами какой-нибудь лакомый кусочек ее тела. Прижавшись к стене, официантка защищала свои богатства, взывая к его добрым чувствам. Снова сплошной хохот. Наконец. Эрни, вняв ее увещеваниям, стал “служить” и с громким лаем легонько ущипнул Мелани за щеку. Но ощутив пальцами нежность человеческого лица, он с криком “Мелани!” отскочил назад, словно обжег руку. Хохот прекратился только тогда, когда все увидели, что Эрни прыгает вокруг стола в каком-то исступлении и пьяные слезы катятся у него по щекам. А он все завывал, как над могилой, и лаял, лаял без конца…
“Ветераны”, как они себя иронически называли, часто собирались в домике, выходящем окнами на доки. Компания состояла примерно из десятка молодых мужчин, которых странно объединил военный разгром и тайный стыд бесславно побежденных. “Нас продали”, – говорили одни и приводили доказательства. “Мы были слабы и наивны”, – возражали другие, склонные взвалить вину на провидение. “Мы оказались трусами”, – уточняли третьи, преимущественно беглые пленные. Последние пили больше остальных, стараясь забыть то, чему ни предательство, ни слабость, ни наивность не могли служить оправданием. Эти, казалось, только и ждали возможности еще раз себя проявить. Черный рынок, покрывая приятной позолотой все эти переживания, делал их по крайней мере выносимыми. Встретившись с этими людьми, Эрни открыл в себе талант кассира и “универсальное чутье”. Но уважением он пользовал
сь| сям
странное томление, тем упорнее распускало оно нити и ткало из них пелену, которая, обволакивая Эрни, дрожала при малейшем дуновении ветра, при малейшем движении. Так продолжалось много месяцев и, когда тоска по нежному липу Мелани добралась до плеча, затопила всю грудь и заставила колотиться сердце, Эрни с ужасом понял, что влюблен в эту девицу.
Опасаясь худшего, он решил как можно скорее оказать внимание какой-нибудь уличной девке. Но когда она вышла из темного угла, его вдруг растрогал ее усталый вид, а когда они оказались в ее жалкой лачуге и она начала приветливо болтать, а жесткий свет голой лампочки обрисовал ее черты, – сумасшедший юноша почувствовал в груди душераздирающую боль.
– Простите меня, мадам проститутка, – скарн с сильным иностранным акцентом. – я передумал. Получите, пожалуйста, деньги и отпустите меня.
– Что с тобой? Ты болен? У тебя случилось счастье? Может, я тебе не нравлюсь? Вон какие тебя печальные глаза. Ты не здешний?
– Несчастье у меня случиться уже не может, – сказал Эрни.
– Ну, просто неприятность?
Эрни уселся на кровать и, помолчав немного, начал рассказывать историю своей жизни. Покончив семьей в Марселе, он перешел к дедушке с бабушкой в Тулоне и к многочисленным знакомым в Ниме словом, рассказал все подробности, благодаря которым общество должно его зачислить в категорию людей.
– А вы? – спросил он наконец.
Она тоже вначале помолчала, а затем приду себе одного ребенка, потом другого, потом пр вила к ним старенькую мать, без которой не обходится ни одна чувствительная история. Потом начала шутить и с кокетливой гримаской погасила свет, изображая любовную стыдливость. И даже подвергая несчастного безумца последним унижениям, она не переставала болтать.
На улице он пришел в себя и немедленно, почувствовал новую, еще более жгучую нежность, из чего заключил, что вне всяких сомнений влюблен в проститутку – во всяком случае гораздо больше, чем в Мелани, которая отошла на задний план, а если говорить правду, то от нее и вовсе ничего не осталось, кроме мурашек в пальцах. От новой истомы у него даже ноги вспотели. На террасе кафе его пыл несколько утих. Он уселся за столик и увидел рядом с собой уличную девку из негритянской части квартала. Ее высокая прическа с позолоченными роговыми гребнями казалась вытканной из черного шелка, а лицо – выточенным из заморского дерева. Вся прежняя нежность, сразу же оказавшаяся ненастоящей, немедленно исчезла вместе со лживыми мурашками, уступив место гораздо более странному упоению, которое на сей раз ушло в глаза, и он понял, что эта черная девушка внушила ему любовь навеки. Потом не менее окончательно его сердце пленила другая девица, белая, как молоко, которая плыла по тротуару, как корабль, распустив паруса. Потом еще одна, и еще одна, и еще, и еще. Шли дни; он перестал пить и есть, бродил как неприкаянный по улицам, а навстречу ему плыли лица и, как звезды в ночи, сверкали глаза. Наконец, он решил как можно скорее покинуть город. “Потому что, – говорил он себе в бреду, – стоит собаке хоть раз предаться любви, как она перестанет интересоваться пищей, ударится в трезвость, откажется от дневного сна, а там уж и до мечтаний недолго, и стихи захочется писать… Только ступи на этот скользкий путь – разве знаешь, где остановишься? Поди, не одна собака начала свое падение с любовной истории, не придав ей вовремя должного значения”.
Всю зиму 1942 года Эрни скитался по Ронской долине, а навстречу ему неслись лютые в это время года мистраля. Их ночные завывания странным образом смешивались с мрачными пронзительными ветрами, гулявшими в его мозгу. За время пребывания в Марселе он набрался сил и теперь легко находил работу в попутных деревнях, откуда мужчин угнали в немецкие лагеря. Все это время он был, как в омуте. Вызывал в себе самые низменные инстинкты, иногда дрался, как скотина, словом, старался, хоть и не совсем осознанно, не впустить ни капли света в тот черный омут, в котором пребывал. Однажды он случайно увидел себя в зеркале и не без удовольствия отметил, что его прежнее лицо словно бы осталось в Марселе. Каждая отдельная часть – нос. рот, глаза, уши выглядели обычно, но они вместе не составляли человеческого липа; они существовали порознь. Покойный Эрни подозревал, что ему было бы все равно, если бы уши у него сидели на месте глаз, а глаза, например, под носом.
На рождество он застрял на хуторе, которым заправляла жена хозяина, попавшего в плен. Она держала в ежовых рукавицах всех, кого выбросило за борт гитлеровское нашествие и кто случайно прибился к хутору. Когда женщина слишком слаба,… чтобы управлять своей судьбой, и слишком требовательна, чтобы ей покориться, то тонкость ее чувств нередко превращается в коварство. С тех пор. как муж попал в плен, мадам Трошю чувствовала себя; существом независимым и даже свободным. Регулярно отправляя посылки в Германию, она спала с каждым новым работником в ожидании своего повелителя, которого она теперь сумела бы прибрать к рукам, если бы только он не успел до этого ее убить. Типичная жительница Прованса с черными, как виноградины, глазами и жестким ртом, она казалась странной помесью огня со льдом. С первого же взгляда Эрни решил, что уж она-то не внушит ему никаких мечтаний, а посему смотрел ей в глаза без малейшего опасения; тут-то она и влюбилась. Поглощая кровавое мясо, он упускал бесценное время. Наконец, она приказала, и он подчинился.
Поскольку покойный Эрни Леви совершенно не любил фермершу, он в наказание себе проявлял с ней геркулесову страсть, орудие которой она не очень-то рассматривала. Душой она была столь скромна, непритязательна, что в любви искала лишь конкретных ее доказательств. Только бы они повторялись почаще. Ее прозвали Обжорой. Излишне объяснять, что поскольку покойный Эрни Леви исправно удовлетворял требования своей ненасытной кобылицы, а она ничего другого и не хотела, то между ними ничего другого и не было, кроме приказов с ее стороны и исполнений – с его. Не будем на этом останавливаться. Это настолько обычные вещи, что о них не стоит говорить.
– Еще немножко почек, миленок? – спрашивала прекрасная дама. – Или перчику? Может, молоденьких фазанчиков? Знаешь, как это полезно для твоего стручка, мой сладенький!
Покойный Эрни ничего не отвечал и раскрывал рот только, чтобы жевать. Лишь иногда, охваченный задумчивостью и тоской, он прикидывал, какое мясо больше подходит истинно собачьей породе (а следовательно, и ему): сырое, вяленое или просто вареное.
В остальном же он был ухожен, обстиран, накормлен, почитаем в деревне и ублажен в постели; словом, он был, что называется, счастливым смертным, по определению, существующему с самых древних времен. Более того, его влюбленная благодетельница сама решила избавить его не только от работ в поле, дабы он не переутомлялся, но и от неприятной необходимости вставать с постели, когда ему, скажем, хотелось напиться просто холодной воды.
– Посмотри на гусей! – восклицала она. – С них и бери пример!
В ответ на это покойный Эрни Леви послушно становился на четвереньки и ковылял на птичий двор.
Там он здоровался со своим собратом – петухом, рывшимся в навозе, приветствовал своих сородичей – гусей, гогочущих в клетке, бросал завистливый взгляд на очередного каплуна и, наконец, подбирался к свинарнику, который чем-то его завораживал, но вызывал такую мучительную ненависть, что покойный Эрни в ярости плевал в рыло нечистой твари.
В тот вечер ему приснился странный сон. Он будто держит, как обычно, в своих объятиях рыжую собаку и, как обычно, поражается тому, какое огромное наслаждение испытывает его любовница. Конечно, человеческого облика ей не дано, говорил он себе, но по сути она умница. Доказательством служит огромная радость, которая ее охватывает.
Но в тот момент, когда, как говорится в книге Зохар, “все видимые предметы умирают, чтобы возродиться невидимыми”, собака превращается в великолепную кошку, которая, сверкая в ночи горящими глазами, вызывает у него желание и втягивает в любовную пляску. Так почему же из-за какой превратности судьбы в момент, о котором говорится в книге Зохар, кошка становится крысой, затем тараканом, затем слизняком и так до тех пор, пока не сливается с ним в живое амебовидное месиво и в пьяном восторге теряется в бесконечности?
Хотя фермерша всегда ценила любовные достоинства Эрни достаточно высоко, она прониклась к нему новым уважением, когда он ее заверил, что испытывает сожаление при мысли о том человеке, постелью и женой которого он пользуется. Ох, какой же он развратник, думала она почтительно. Долго и упорно добивалась она, чтобы он признался, что он развратник, но, поскольку хитрец наотрез отказывался, уважение фермерши лишь возрастало.
Не хотел он признаваться и в том, что вовсе он не из Бордо (как значилось в фальшивом удостоверении личности, выданном на имя Эрнеста Помесь). Поэтому его выраженный “эльзасский” акцент наводил фермершу на мысль, что он бежал из плена. Когда же она полюбопытствовала относительно некоторой интимной подробности, то ей стало ясно, что он иудей. Однако рьяная сторонница высокой религиозной терпимости, она слова ему не сказала о своем открытии, тем более, что эта интимная подробность была даже пикантной. С детства еще она мечтала совратить обрезанного. В приходской школе кюре как-то имел неосторожность употребить слово “обрезание”, и маленькая Дюмулен начала хихикать. Она находилась под сильным влиянием своего отца – школьного учителя, который в отместку за то, что не мог помешать религиозной жене ходить в церковь, посылал нерелигиозную дочку в приходскую школу, чтобы она там мешали кюре на уроках. Ученицы приходской школы собрались на тайное сборище, чтобы обсудить вопрос об обрезании. Мадмуазель Дюмулен объяснила, со слов отца, что обычай требует от евреев, которые первыми стали верить в единого Бога, чтобы они приносили Ему в жертву кусочек своей кожи. А священники, которые стали верить в единого Бога уже после евреев, не хотят отстать от последних. Но поскольку священники страшные неженки, то они выстригают себе лишь кружок волос на макушке.
Убежденный атеист, господин Дюмулен называл евреев не иначе как иудеями. Он в глубине души считал, что слово “еврей” иезуиты выдумали назло франк-масонам. Все это привело к последствиям, досадным для покойного Эрни Леви, которому пришлось расстаться со своим беспечным существованием. Однажды, когда он отдыхал после обеда в алькове, прибежала его фермерша с пылающим лицом и повела такую речь:
– Ты меня обманул: ты еврей!
– А ты что, не догадывалась?
– Я знала, что ты иудей, потому что… ну. словом, я это знала. Но я только что разговаривала с господином секретарем мэрии, и он меня заверил, что иудеи – те же евреи.
– Возможно. А в чем действительно разница?
– В чем разница? – заорала оскорбленная фермерша. – Ты как себе представляешь, могу я спать с евреем в постели моего Пьера? И еврей этот может сидеть в его кресле и носить его костюмы и рубашки? Ну, нет! Это уж слишком!
– Ладно, – сказал покойный Эрни и поднялся.
– Куда ты?
– Я ухожу.
– Это еще почему? Я тебе устрою хорошую постель в сарае.
– Ну, а с остальным как же? – забеспокоился сумасшедший.
– Ах, ты про это! Что ж. нужно соблюдать осторожность, а то знаешь, что будет, если мой бедный Пьер (она всегда добавляла “бедный”, желая этим выразить и свое горе по поводу того, что муж находится в плену, и странное сочувствие, которое испытывала к нему оттого, что его обманывала), если мой бедный Пьер узнает, что мы… что я… Нет. нет, теперь будет это самое в конюшне. И потом. – добавила она вдруг. – уж очень ты привольно себя чувствуешь в последнее время. Теперь я тебя приберу к рукам. И масла надо мазать на хлеб поменьше, ну, и все такое прочее.
– А если я не захочу?
– Неужто?! – сказала она насмешливо.
– Ладно, – согласился сумасшедший, и жизнь потекла по-прежнему.
Мистраль утих. На землю сошло тепло. Даже оливковые деревья уже не мучились, и иногда по вечерам казалось, будто все живое радуется под мирным небом. По воскресеньям Эрни ходил в деревню, тупо слушал мессу, потом задумчиво пил анисовку, смотрел, как живые существа играют и шары в тени церковных ворот, снова пил анисовку… Как-то раз один из игроков бросил на него такой взгляд, что ни побледнел. Это был деревенский кузнец, вернувшийся из плена. Он катил шар, не сгибаясь, потому что осколок гранаты так и застрял у него в спине. Потом Эрни увидел его в кузнице. По молчаливому согласию, оба не касались вопроса о том, какими судьбами они очутились в одной деревне. У кузнеца было лицо типичного северянина, но по-южному горячие и быстрые глаза. Он был рослый, длинноногий; огромные ручищи болтались в такт его шагам, словно помогая ему сохранять равновесие. Видно было, что он с такими руками не родился: это “о временем они стали мощными орудиями труда и покрылись толстой серой кожей, изъеденной припоем, под которой угадывались мускулы и жилы, мощные, как у борзой… Глядя, с какой точностью действуют эти машины, Эрни думал, что, наверно, значительная часть ума у кузнеца ушла в пальцы. Поэтому уважение, которое Эрни питал к этим рукам, возрастало от визита к визиту.
Кузнец никогда не задавал таких вопросов, которые заставляли бы вас возводить нагромождения небылиц, хрупкие, как карточные домики. Его, казалось, интересует только будущее. Лишь изредка, не глядя на собеседника, ронял он многозначительные фразы такого типа: “Знаешь, парень, есть вещи, которые нам кажутся вечными. Мистраль, к примеру, зарядил на всю неделю, а потом, глядишь, в одно прекрасное утро – и солнце выходит. Понимаешь?” После подобных изречений он приглашал Эрни выпить “глоток” анисовки. Они входили в кузницу (три ступеньки вниз), и украшенная лентами толстуха приносила кувшин свежего напитка. Она тоже никогда не спрашивала Эрни о прошлом, словно между ней и мужем был такой уговор. Когда дети возвращались из школы, Эрни часто оставляли на обед. Дети тоже избегали даже самых невинных вопросов. Они лишь старались развлечь сумасшедшего, которого временами вдруг покидало безумие, и, как при вспышке молнии, он видел перед собой этот немыслимый мир, эту Францию, о которой он и не подозревал, простую и добрую, как хлеб. И хотя он боялся (пусть неосознанно), что от этих встреч ослабнут цепи, сковывающие его ум, удержаться от тяги к опасному источнику света он тоже не мог.
– Послушайте, – сказал он однажды своему приятелю, – почему-то мне кажется, что не то вы меня знаете, не то еще что-то… С самого первого дня…
Кузнец ответил не сразу.
– Вот что, парень, – тихо сказал он наконец, не поднимая глаз от наковальни, – не знал я тебя раньше, можешь мне поверить. Просто я сразу же увидел что ты еврей.
– Но я не еврей! – в испуге закричал Эрни.
Кузнец опустил молот на наковальню, подошел к молодому еврею и положил свои тяжелые руки ему на плечи
удалось разглядеть, глаза я узнал сразу. Понимаешь?
– Вот оно что! – сказал Эрни, пораженный в самое сердце.
Он поднялся и, шатаясь, вышел. На улице ему послышался крик. Он звенел не в ушах, как когда-то, а словно издалека, потому что его приглушала плотная собачья оболочка, которую Эрни изо всех сил пытался удержать, но которая уже начала размягчаться. Он дошел до тропинки, ведущей к хутору Трошю. Его обступили цветущие миндальные деревья. Раньше он любил ходить по этой тропинке. Но теперь он ее не замечал: крики так усилились, что пришлось заткнуть уши. Он узнал крик деда, затем крик Муттер Юдифи. И тогда ему показалось, что он очнулся от долгого-долгого сна, и он спро.
– Я, значит, похож на еврея.
поличным голосом, который так легко вышел у него из горла, будто он вновь вспомнил забытый мотив.]
И тут заговорил кузнец.
– Не знаю, – сказал он, – на кого похож еврей. По моему разумению, люди как люди. В нашем лагере были евреи, но я это сообразил уже потом, когда фрицы их увели. Только вот что. Когда шел я из плена, я сделал крюк. Мне нужно было попасть в Дранси. Друга моего убили, а жена его там живет, невдалеке от Парижа. Рано поутру немецкие машины прей гнали всех с дороги на тротуар, и мы увидели, как” мимо нас на полной скорости промчался автобус еврейскими детьми. У всех были звезды нашиты. Рожицы к окнам прилипли и смотрели на нас… а ног нами они все скребли и скребли стекла, будто вый хотели… Лиц различить я не мог, но у всех были кие глаза, каких я прежде никогда не видел и не при веди Господь увидеть снова. Так вот, парень, не та на шарах, а еще в церкви, когда лица твоего мне
сил себя, в своем ли он уме. От этого вопроса он сказал Эрни ме почувствовал удушье и схватился за горло. Фермерша решила, что он заболел. Он ушел в сарай, лег и зарылся в солому, чтобы не слышать криков. Несколько раз он выходил подышать ночным воздухом Прованса. Наконец, он уснул, но и сон не помог – просто крики теперь раздавались внутри него. Ему снилось, что он собака и бежит по улицам большого города, а прохожие удивленно показывают на него: “Смотрите! Собака с еврейскими глазами!” Он и не знал, что началась охота, а со всех сторон уже сбежались люди с сетями руках, и сети заволокли все небо. Он укрылся в подвале и уже считал себя в безопасности, когда за дверьми послышались голоса преследователей, которые требовали, чтобы он им отдал хотя бы глаза, лаза? Странно. И вдруг он заорал во все горло:
– Мы никогда не отдаем наших глаз! Никогда!
иногда! Никогда! Лучше мы отдадим нашу душу! К-у-у!..
Эрни Леви оделся в темноте и вышел из сарая. Весь хутор утонул в черной ночи. Он уже было открыл калитку, но раздумал и подошел к дому. Сначала послышался мужской голос, а затем испуганный крик мадам Трошю.
– Я пришел попрощаться с вами, – сказал Эрни через дверь.
Зажегся свет. Рассерженная мадам Трошю открыла дверь.
– Чего уходить. – Ночью, как вор?
Она стояла, набросив вышитый красными цветами халатик, и через ее плечо Эрни увидел на своем бывшем месте голый торс какого-то мужчины. Знакомая картина: пышно убранная дубовая кровать, на потолке зеленый круг от абажура, комнатные туфли (не раз вставлял он в них лихорадочно дрожавшие ноги), приторный запах сплетенных тел: комната до конца никогда не проветривалась. Но теперь ему показалось, что все это отошло от него и плывет перед глазами, как мертвая рыба. Мадам Трошю тоже выглядела совсем другой. Не была она ни красивой, ни уродливой (когда-то он все думал, какое определение, к ней подходит). Она просто бесцельно плыла по течению.
– Я хотел сказать тебе до свидания, – повторил, он. – Думал, нехорошо уйти, не попрощавшись.
При звуке его нежного голоса она задрожала, прижала руки к голой груди и неожиданно закричала:
– Господи, что я натворила!
Она в отчаянии ломала руки.
– Ну, ну, перестань плакать, – сказал Эрни.
Он шагнул в спальню и подошел к фермерше, которая окаменела от непонятного ему горя.
– Вы же знаете, у такой красавицы, как вы, недостатка в мужчинах не будет, верно?
– Дитя! Малое дитя! – закричала она, не отводя от Эрни широко раскрытых глаз.
Больше она не проронила ни слова – только мала руки. Эрни боязливо отступил к дверям.
нувшись в последнюю минуту, он улыбнулся на прощанье, но женщина лишь беззвучно шевелила губами.
На лесистой тропинке, спускавшейся в деревню, ему снова показалось, что он что-то забыл на хуторе, только не знал, что.
– Паршивая собака, – вдруг прошептал он.
Усевшись посреди темной дороги, где блуждали неясные тени, будто вышедшие из всей его жизни, он, по еврейскому обычаю, в знак унижения посыпал голову землей.
Этого ему показалось мало.
Он начал бить себя по лицу. Вскоре ему почудилось, что тот, кому он наносит пощечины, хоть и есть он сам, но какой-то другой, и получалось, что он бьет не себя. Поэтому он не удовлетворился и побоями.
Тогда он стал царапать левую руку правой и наоборот, чтобы ни одной не было пощады. Но все время рождалась третья рука.
Тогда он попытался вспомнить все способы унижения, к каким только прибегали его предки. И он назвал имя Бога. И он не увидел ничего, перед чем можно унизить себя. И он вызвал образы своих родных. Но родные уже давно умерли и ничем не могли ему помочь.
Тогда он застыл и сидел, не шевелясь, без слез. Потом он наклонился, поднял камень, разодрал им щеку, и только когда почувствовал боль, из глаз выкатилась слеза, за ней другая и третья… И когда он прижался щекой к земле, и когда обнаружил в себе источник слез, который считал навсегда пересохшим с тех самых пор, как услышал Ильзины три хлопка, и когда почувствовал, что покойный Эрни Леви восстал из мертвых, – только тогда его сердце тихонько раскрылось навстречу прежнему свету.








