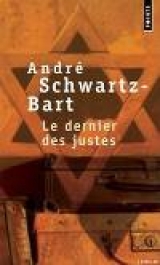
Текст книги "Последний из праведников"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Потом силуэт растворяется, парики улетают все разом, и Эрни видит голый череп мадам Тушинской, блистающий как яичная скорлупа над ее морщинистым лицом, над ее гневно разинутым ртом.
– Не огорчайтесь. – говорит Эрни привидению, – и прежде всего спокойно вытрите нос, потому что я Праведник. Ламедвавник, понимаете?
– Не может быть, – улыбается мадам Тушинская.
– А я вам говорю, что это правда, – важно заявляет Эрни, устраивается на подушке поудобнее, хмурит брови и вызывает рыцарей, которые до сих пор сидели в шкафу.
Потрясая копьями, отчего дрожат султаны на шлемах, рыцари выстраиваются у дверей и продолжают толкаться на месте.
У них серьезный и даже довольный вид.
– Ну, – говорит лавочник с Фридрихштрассе, надежно защищенный железным забралом. – не отомстить ли нам за Христа?
На щите у него крест, и на каждом конце креста страшные когти свастики.
Эрни обязательно хочет вызвать свой скрытый голос, мощный и величавый, как река, а не тот обычный, прерывистый и тоненький, как ручеек. Поэтому он набирает в легкие побольше воздуху и только тогда отвечает лавочнику:
– Сударь, я к вашим услугам.
С душераздирающим вздохом откидывает он одеяло, соскальзывает на пол и парадным шагом направляется к двери, навстречу своим смертным мукам.
Верующие застывают в почтительном молчании.
Но тут над их головами простирается неумолимая рука Муттер Юдифь и пытается схватить Эрни. А в довершение всего мадам Леви-мама распростерлась на полу и загородила дорогу Праведнику. Но тот тихонько отталкивает руку Муттер Юдифи, ставит кончики пальцев ноги на живот мадам Леви, еле-еле касаясь его, и легким рывком преодолевает препятствие.
– Так ты и есть Праведник? – удивленно и насмешливо спрашивает лавочник. – Ты, значит, защитник евреев?
– Да, – сухо отвечает Эрни Леви и дрогнувшим голосом добавляет: – Что же ты медлишь, дикарь, убивай меня!
– Бац! – говорит лавочник, и его стальная перчатка летит в горло Эрни Леви.
Эрни пошатывается под голубым небом синагогального двора, в глазах у него темнеет, и сквозь эту тьму он различает не только призраки своего воображения, но и спальню, по которой кружится он сам – маленькое привидение в белой ночной рубашке.
Наконец он решает умереть. Он ложится на пол перед шкафом, принимает соответствующую позу и поднимает полуприкрытые глаза к потолку. А там – лицо его палача. Оно начинает расплываться и вдруг совсем исчезает в потоке ворвавшегося света.
– Ангел небесный. – кричит барышня Блюменталь дрожащим голосом, – чего ты лежишь в темноте на полу? Ты болен?
Чувствуя на себе бдительный взгляд Муттер Юдифи, Эрни делает вид, будто засыпает. Наконец он осмеливается изобразить похрапывание.
– Ты спишь? – шепчет Муттер Юдифь спустя минут пятнадцать.
– П-ф-ф…
Старая женщина со вздохом поднимается, и сквозь прикрытые ресницы Эрни с удовольствием видит, как она на цыпочках, словно заговорщик, крадется к дверям. Проклятая лампочка, наконец, гаснет, скрипят ступеньки, дверь на втором этаже закрывается, и наступает полная тишина. Весь дом спит, кроме него.
Он сгорает от нетерпения, но из осторожности выжидает в темноте чуть ли не целый час. Его первая ночь Ламедвавника! Малейшее дуновение, малейший шорох заставляют дрожать каждую жилочку, но мысль упорно продолжает работать в том направлении, по которому ведет ее сознание Праведника.
Широко раскрыв глаза, Эрни жадно всматривается в своих предшественников, и ему даже удается уловить самые тонкие различия между ними. Например, он приходит к выводу, что быть привязанным к хвосту монгольской лошади, как рабби Ионатан, менее достойно, чем быть заживо сожженным, как другие Ламедвавники. Мясо и жир вокруг костей отвратительно обгорают, и постепенно отваливаются пылающие куски… О Боже! Как он ни старался, ему не удавалось приучить себя к мысли о предсмертных муках. Вдруг он смирился с необходимостью пройти пробное испытание и тихонько слез с кровати.
Начал он скромно: с задержки дыхания.
Пытка показалась ему ничтожной. Но когда зазвенело в ушах и что-то начало разрываться в груди, он в восторге подумал, что, возможно, это действительно похоже на настоящую пытку Праведника, но тут же упал, потому что задерживал дыхание дольше возможного.
– Ну и хватит! – сказал внутренний голос.
– Господи, не обращай внимания на эти слова, это так, случайно, – немедленно возразил Эрни.
Он стал на ощупь пробираться в тот угол, где в картонной коробке хранились сокровища Морица.
Подобрав, словно барышня, одной рукой длинную ночную рубашку, чтоб не болталась по босым ногам, и выставив вперед другую, он шарил в темноте пальцами, тонкими, как мушиные усики. Перед столом он опустился на колени, открыл коробку, нащупал и отбросил какие-то веревки, оловянных солдатиков, перочинный нож с шестью лезвиями, и наконец он добрался до спичек.
Венчик у пламени был синий.
– Ну, покажи, кто ты такой на самом деле, – прошептал он, чтобы подбодрить себя, и, глубоко вздохнув, поднес пламя к левой ладони.
Странно: боль как будто не настоящая, хотя кожа уже потрескивает и такой запах, что просто душу выворачивает.
Спичка сгорела в пальцах до конца, и, когда снова стало темно, из глаз покатились слезы. Но то были капельки радости, живые, мягкие и на языке сладкие, как мед.
– Не может быть, – пришел он в отчаяние, – не нужно было подносить спичку так близко!
Он хотел чиркнуть вторую, но заметил, что пальцы на левой руке не слушаются его: они совсем перестали сгибаться и сами собой растопырились веером вокруг обожженной ладони.
Широко раскрыв глаза, он увидел, что кругом ночь. Он убрал коробку Морица на место и вернулся в постель.
Левую руку он осторожно положил поверх одеяла, потому что от нее пылало жаром, как от печки.
Его охватила глубокая радость: если регулярно тренироваться, то в час испытания Бог, может, и пошлет ему силы выдержать настоящую смертную муку. Да, если закалить тело, может, когда-нибудь у него хватит духу героически пожертвовать собой, чтобы Бог сжалился над Муттер Юдифью, над дедом, над барышней Блюменталь, над господином Леви, над Морицем, над малышами – и вообще над евреями Штилленштадта. А может, даже над всеми-всеми евреями, которых мир преследует и мучает. Он еще удивлялся тому, как легко перенес пробное испытание, как вдруг почувствовал сильную судорогу в левой руке, хотя ладонь по-прежнему не болела. Из нее только текла жидкость. “А все-таки я не кричу”, – обрадовался он, разжал зубы и только тогда почувствовал настоящую боль.
4
Утром оказалось, что на ладони огромный ожог до самого запястья. От маленького Праведника ничего не удалось добиться. У него был жар, и он чуть не бредил. Врач недоумевал: как это вдруг ни с того, ни с сего ночью образовался такой ожог! Можно подумать, что тут злые духи поработали! Муттер Юдифь поспешила подсунуть несчастной жертве под подушку некий красный мешочек, где было семь щепоток пепла из семи печей, семь щепоток пыли из семи скважин дверных петель, семь щепоток тмина, семь горошин и, наконец, почему-то не семь, а всего один волос. Она терялась в догадках.
– Не понимаю, – говорила она потом в кухне всему семейству, – вчера Ангелок, как отважная блоха, прыгнул на нацистов, а утром – нате вам – искалечен. Мало того, что мы от волнения с ума сходим, так он еще раз разлегся в кровати, как барин, и грудь выпятил колесом – ни дать, ни взять генерал, выигравший сражение. А когда несчастная, бабушка спрашивает его: «Ангелок, что с тобой ночью случилось?» – так Ангелок фыркает прямо в лицо, залазит под одеяло и молчит, как не знаю кто. Я вам вот что скажу: он на нас смотрит… свысока.
– Не может быть, – сказал Биньямин.
– А я вам говорю: свысока, – повторила Муттер Юдифь и, воздев руки к небу, воззвала: – Господи, кто мог напустить на него такое несчастье?
– Может, ребенок вчера ушиб голову, когда упал, а? – вставила свое слово барышня Блюменталь.
Она тоже была напугана и даже подумать боялась, что ребенок начал «подражать» кому-то еще.
Что касается деда, то он не проронил ни слова и терзался молча. Сославшись на недомогание, он тайком проник в комнату к больному… Тот встретил его торжествующей улыбкой и не без гордости признался, что стал готовиться. Темные круги под глазами, пылающие щеки, огромная повязка, которую он поднимал, как знамя, делали его признание похожим на бред сумасшедшего.
– К чему готовиться? – спросил Мордехай, дрожа.
Хотя уже наступило утро, вафельные занавески не пропускали света, и солнце продевало сквозь них лишь отдельные ниточки. Одна из них легла вдоль горбинки у деда на носу, другие рассыпались золотыми искрами и прыгали в его бороде.
Чтобы подбодрить деда, Эрни улыбнулся.
– Готовиться к тому, как умирать, – весело заявил он и совсем расплылся в улыбке, стараясь показать, что все в порядке.
– Еврей, что ты такое говоришь? – гневно закричал старик, и Эрни тут же понял свою чудовищную ошибку.
В мгновение ока он свернулся клубочком и, как перепуганный зверек, юркнул под одеяло, словно хотел исчезнуть совсем. Но, зарывшись в мягкую тьму одеяла, он вдруг почувствовал нежное прикосновение к плечу. Рука деда поднялась выше и легла ему на голову.
– Бог с тобой. Бог с тобой! Ушам своим не верю! Объясни все-таки, зачем ты это сделал? Разве я тебе говорил о смерти?
Эрни помолчал, а потом удивленно ответил из-под одеяла:
– Нет.
– Клянусь Десятью Заповедями! – загремел дед, еще нежнее лаская огромными пальцами голову внука. – Клянусь казнями египетскими! Что все это значит? Что еще за подготовка? Люди! – закончил он со вздохом. – Вы слышали что-нибудь подобное?!
– Дедушка, дорогой, я думал… – Голос под одеялом сорвался. – Я думал, если я умру, вы сможете жить.
– Если ты умрешь, мы сможем жить?
– Ну да, – выдохнул Эрни.
Мордехай глубоко задумался. Его звериная лапа по-прежнему лежала у Эрни на голове, из увлажнившихся глаз лился тихий мечтательный свет.
– Ты, значит, вчера меня не понял, когда я тебе объяснял, что смерть Праведника ничего не меняет в этом мире?
– Нет, этого я не понял.
– Я же тебе сказал, что никто на свете, даже Праведник, не должен искать страданий, страдания приходят сами, их не нужно искать…
– И этого я не понял, – забеспокоился Эрни.
– А что Праведник – это сердце человечества, тоже не понял?
– Нет, нет, нет, – твердил ребенок.
– Что же ты понял?
– Что если я умру…
– И это все?
– Да, – всхлипнул Эрни.
– Тогда послушай меня, – сказал Мордехай, поразмыслив. – Только слушай хорошенько. Если человек страдает в одиночку, его боль остается при нем. Это ясно?
– Ясно.
– А если кто-то видит его страдания и говорит: «Ах, как ты страдаешь, мой еврейский брат…», тогда что происходит?
Одеяло зашевелилось, и показался кончик носа.
– Тогда мне тоже ясно: тот, кто на него смотрит, вбирает в себя глазами его боль.
Мордехай вздохнул, улыбнулся и снова вздохнул.
– А если тот, кто на него смотрит, слепой, может он принять на себя страдания, как ты думаешь?
– Конечно, может! Ушами.
– А если он глухой?
– Тогда руками, – серьезно сказал Эрни.
– Ну, а если он далеко и не может ни видеть, ни слышать, ни коснуться другого человека? Как ты думаешь, может ли он все-таки принять его страдания?
– Наверно, он может о них догадаться, – нерешительно высказал предположение Эрни.
– Вот ты и дошел до истины сам, – обрадовался Мордехай. – Именно так и происходит с Праведником, умница ты моя! Праведник догадывается о всех страданиях на земле и принимает их на себя сердцем.
Эрни что-то обдумывал, приложив палец к губам, и наконец грустно заметил:
– А какой толк догадываться, если это ничего не меняет?
– Ну, как же, перед Богом это меняет.
И так как ребенок скептически поднял бровь, Мордехай поспешил продолжить философские рассуждения.
– Кто может постичь то, что так далеко и так глубоко? – пробормотал он как бы про себя.
Но Эрни был поглощен своим открытием и старался осмыслить вывод, к которому он пришел.
– Если это меняет только перед Богом, тогда я, совсем ничего не понимаю. Тогда получается, что это Он велел немцам нас преследовать? Как же так, дедушка, мы, значит, не такие люди, как все? Евреи, значит, в чем-то провинились перед Богом, иначе бы Он на нас так не сердился, верно?
От возбуждения он уселся и высоко поднял забинтованную руку.
– Дедушка, скажи мне правду, – вдруг пронзительно закричал он, – мы не такие люди, как все, да?
– А люди ли мы вообще?
Стоя над кроватью, Мордехай устремил на ребенка меланхоличный взгляд. Плечи опустились, ермолка съехала набок, смешно, как у школьника. Затем странная улыбка раздвинула усы и загнала глаза еще глубже в орбиты. То была улыбка бездонной, беспредельной печали.
– Так-то… – сказал, наконец, дед. Склонившись над мальчиком, он крепко обнял его, затем оттолкнул, потом снова прижал к себе и, внезапно отпустив, выбежал из комнаты. Эрни услышал, что он на секунду задержался на лестнице, после чего наконец в гостиной хлопнула дверь. «Бедный, бедный дедушка», – подумал Эрни. Он начал постепенно приходить в себя. Уселся на край кровати, здоровую руку положил на затылок, а больную – на колени и задумался. Огромная повязка показалась ему вдруг нелепой. Перед сонными глазами стояла улыбка деда. В этой улыбке были написаны миллионы слов, но Эрни не умел прочесть их, он не знал этого языка.
Рассеянный взгляд снова упал на повязку. Эрни, стал присматриваться к ней в надежде найти законное удовлетворение. Но улыбка деда затмевала собой все, и вскоре он подумал, что какие бы упражнения в страданиях он ни изобрел, они всего лишь детские забавы. Как он посмел натворить столько шуму вокруг своей особы, причинить столько забот другим? Глаза кольнуло двумя острыми иголками, и из; них выкатились две тяжелые слезы.
– Букашка я, всего лишь букашка, – тихонько сказал Эрни.
Нос деда возник первым. Он словно соткался из слез внука: костлявая горбинка выражала бесконечную, щемящую тоску. Затем показался высокий, величественный лоб и над ним черная шелковая ермолка. Потом в старых глазах и в седой бороде засветилась невыразимая улыбка: кто может постичь то, что так далеко и так глубоко?
– Знаешь, – тотчас же сказал Эрни, – я никогда больше не притронусь к спичкам. И завтра пойду в школу. И с задержкой дыхания тоже покончено.
Но дед, казалось, не собирался утешиться. Печаль в его улыбке настолько выходила за пределы доступного для Эрни мира, что он почувствовал себя снова крохотным, еще более несуразным, чем до своего открытия, даже не букашкой, а просто никем.
Но когда он дошел до мысли, что Эрни Леви и вовсе не существует, дед вдруг предстал перед его восхищенным взором во весь рост, превратившись в обычного старика с морщинами, которыми годы избороздили его лицо и большое, как у слона, тело.
– Ты, значит, старый слон? – растроганно спросил Эрни.
– Конечно, – серьезно ответил дед.
– Хочешь, я приму на себя твои страдания? – умоляюще спросил Эрни, приложив больную руку к здоровой.
Затем он закрыл глаза, снова открыл их и осторожно вызвал в своем воображении Муттер Юдифь…
Расставшись с ней, он горько заплакал от поразившей его мысли: она, оказывается, просто обыкновенная старуха. Все еще обливаясь слезами, он вызвал господина Леви-отца, затем мадам Леви, которая застенчиво улыбнулась ему, прежде чем покинуть его воображение. Но когда он попытался вызвать Морица, его внутренний взор совсем затуманился, и Эрни снова увидел, что сидит на краю кровати, возле окна, раскрытого навстречу буйному потоку солнца.
– Нет, перед Морицем я недостаточно мал.
– Но ты же просто букашка.
В эту минуту ему удалось глубоким выдохом изгнать из своей груди последние остатки Эрни Леви.
И тогда появился плотный, коротко остриженный мальчик с кукольно-пухлым лицом. Карие глаза, вставленные по обеим сторонам носа, излучали веселые электрические заряды. Эрни с изумлением узнал в нем своего брата и обрадовался тому, что видит его таким живым, в его ярко-синих штанах и жемчужно-сером пиджаке, с выпученной грудью и раскрытым ртом, в котором сверкали крепкие квадратные зубы. И вдруг Эрни заметил, что на щеке у Морица шрам, на коленях – кровавые ссадины, а на штанах – дырки.
– Видишь, – прокартавил брат, сделав шаг вперед, – я уже больше не предводитель банды. Они не хотят подчиняться еврею, их это оскорбляет. По правде говоря, я уже и вовсе не состою в банде. Послушай, Эрни, отчего это немцы так злятся на нас? Разве мы не такие люди, как все?
– Не знаю, – смущенно сказал Эрни и поспешил добавить: – Эх, Мориц, Мориц, кто может постичь то, что так далеко и так глубоко?
– Рыбка! – сказал Мориц.
На этих словах видение подмигнуло Эрни, помахало на прощанье рукой и исчезло, оставив после себя легкое дрожание воздуха.
И тут Эрни понял, что в его душе действительно живут все эти лица: лицо деда, и Муттер Юдифи, и господина Леви-отца, и мадам Леви, и Морица, может быть, даже лица всех евреев Штилленштадта. Во одушевившись, он подбежал к окну, распахнул его: перед ним были каштан, и соседние крыши, и ласточки, которые, словно летучие мыши, описывали почти осязаемые круги, и голубизна бесконечно близкого неба.
– Боже милостивый, будь добр ко мне, сделай так, чтобы я остался просто совсем маленьким, – невнятно проговорил Эрни.
Как тот дурачок из сказки, который нашел на краю дороги ключи от рая, так и Эрни слепо доверился крохотному ключику, который ему вручил дед: он поверил, что в реальном и все же необыкновенном мире душ, о тайных горестях которых он догадывался, спасение в сострадании.
Сердце еще радостно колотилось от мысли о новом открытии, а на щеках еще не просохли слезы, когда он оделся и сошел вниз, улыбаясь душам, за которые считал себя ответственным.
Первая душа, попавшаяся ему навстречу, принадлежала Муттер Юдифи, сидевшей в гостиной. Всем своим грузным телом она выпирала из кресла, вся мощь ее плоти ушла в маленькую салфеточку, которую она сосредоточенно подшивала. Она не слышала шагов Эрни. Тот застыл на последней ступеньке и, усиленно стараясь стать просто совсем маленьким, жадно глядел широко раскрытыми глазами на старую, обрюзгшую еврейку, изборожденную морщинами, которые ему вдруг показались шрамами, оставшимися от ран, нанесенных скорбью. Его поразила одна мысль: невозможно в это поверить, но у Муттер Юдифи была когда-то душа и фигура молодой девушки. «Какое же зло обрушилось на нее? Какая беспредельная печаль?» – спрашивал он себя, подкрадываясь к креслу.
Когда до кресла осталось уже совсем немножко, он неожиданно подскочил к Муттер Юдифи, схватил пятнистую, как мертвый лист, руку и робко поцеловал ее, дрожа так, словно коснулся запретной тайны.
– Это еще что за новости? Что тебе здесь надо? – грозно закричала старуха, хотя нежность электрическим током пробегала по старой, остывшей крови.
– Что еще тебе взбрело в голову? – продолжала она уже не столько сердито, сколько удивленно. – Зачем ты сюда пришел да еще руку мне лижешь? Со вчерашнего дня в этом доме с ума можно сойти! А ну, живо в постель!
На это карканье. вышел Мордехай и кое-как вызволил несчастную добычу из рук Муттер Юдифи.
– Оставь ребенка в покое, я тебя прошу, ты же знаешь, со вчерашнего дня он сам не свой, – твердил он, загораживая старухе дорогу. – Когда Муттер Юдифь сердится, она рычит, как лев, а на самом деле она для людей, как роса для травы, – добавил он, обернувшись к перепуганному Эрни, ухватившемуся за фалды его капота. – Перестань дрожать, видишь, лев уже улыбается.
– Ничего я не улыбаюсь!
– Рассказывай кому-нибудь, а не мне! – сказал Мордехай, легонько приглаживая усы. – Ну, ты, бездельник, может, объяснишь мне все-таки, с чего вдруг ты начал лизать руки?
– Не знаю, – пролепетал Эрни, краснея от смущения. – Сам не знаю… так получилось…
– Ни с того, ни с сего? – спросила Муттер Юдифь.
– Да, ни с того, ни с сего, – серьезно ответил Эрни.
Тут Мордехай сильно дернул себя за бороду, чтоб не рассмеяться, но не выдержал и залился тем гордым смехом, какой был у него в молодости. Юдифь тоже расхохоталась, будто заржала. Вконец смущенный Эрни проскочил у деда между ногами и убежал в кухню.
Барышня Блюменталь, тревожно охнув, заключила его в свои объятия.
– Мне просто надоело лежать в кровати. – сказал он, чтобы успокоить ее, и нежно улыбнулся.
Он жадно смотрел на мать, стараясь разглядеть ее другое лицо, скрытое, как он догадывался, за незначительными, затушеванными робостью чертами того лица, которое видно всем, лица служанки. Он присматривался к осторожным движениям, какими она брала посуду, и вдруг впервые заметил, что у нее удивительно белые и узкие кисти.
– Чего ты на меня так смотришь? – спросила она в недоумении. – Я что-нибудь сделала не так?
Она продолжала помешивать суп, держа руку высоко над дымящейся кастрюлей и покачивая другой рукой коляску с новорожденной Рахилью. Эрни сокрушенно впивался взглядом в материнские черты, но не мог отыскать признаков того, другого, скрытого лица. И вдруг он в восторге понял, что душа барышни Блюменталь – это нежная рыбка, серебристая и пугливая, которая стремится юркнуть в обыденность, как в серую мелкую воду.
– Я же ничего такого тебе не сделала? – беспокойно повторила она.
– Нет, нет, – заверил ее потрясенный Эрни. – нисколечко.
– А… у тебя рука болит?
– Да нет, рука тут ни при чем.
Растроганный ее беспокойством, он не спускал с нее глаз и находил, что в ней масса добродетелей. И что ее незначительность достойна Праведника. Он не переставал ею восхищаться, как вдруг она выронила деревянную ложку в кастрюлю и смущенно вскрикнула, словно старалась скрыть волнение, которое испытывала под пристальным взглядом больших влажных глаз собственного сына.
– Ой, знаешь что, – вдруг сказала она ему с улыбкой, – хлеба мало. Может, сходишь? Или тебе не хочется?
– Хочется, хочется, – поспешно ответил Эрни.
Барышня Блюменталь с изумлением заметила, что когда она давала ему деньги, он, как тайный воздыхатель, задержал ее пальцы в своих руках. Мало того! Видимо, отважившись на самую большую крайность, он поднялся на цыпочки и уткнул губы и кончик носа в белую ладонь, из которой только что забрал деньги. Подняв плечи от смущения, он выбежал вон.
Улица была такой свежей и оживленной, что Эрни подумалось, уж не скрывает ли и она чью-то душу под одним из надутых, как щеки, булыжников. Мысль ему понравилась. «А все потому, что я теперь знаю секрет: я – малюсенький-малюсенький!» – рассмеялся Эрни. Он шел то важным шагом, то вприпрыжку и старался настроить себя на серьезный лад. С тех пор как господин Краус, по примеру остальных, выставил у себя в витрине эту странную табличку: «Евреям и собакам вход воспрещен», евреям с Ригенштрассе приходилось покупать хлеб на углу площади Гинденбург, у мадам Гартман. куда и направлялся сейчас Эрни.
Когда он был уже почти у цели, вдруг как из-под земли вырос господин Полчеловека.
Отталкиваясь от земли загрубевшими, как подошвы, ладонями, он катил свою повозочку, на которой его торс возвышался, как скульптура на пьедестале, а вытянутая голова приходилась вровень с головой Эрни. Вместо плошки для подаяний к повозочке была прикреплена военная каска, и медали на разноцветных ленточках украшали лохмотья на груди инвалида.
– Сжальтесь над бедным героем, – гнусавил господин Полчеловека и хитро подмигивал, давая понять, в чем должна выражаться эта жалость.
Эрни немедленно воодушевился и, свернув с дороги, остановился прямо перед повозочкой. Он смотрел на инвалида печальными глазами, как, по его мнению, следовало смотреть, чтобы выразить сочувствие страданиям господина Полчеловека.
А поскольку он при этом чувствовал, что становится «просто совсем маленьким», то и без того обрюзгшее лицо господина Полчеловека раздулось до фантастических размеров. Черный щербатый рот приблизился к Эрни. Затем голубые шары выкатились из красного мяса и расположились в орбитах у Эрни, откуда теперь вытекали две тонкие струйки прозрачной, горячей крови, ужасающе бездушной.
– Долго ты еще будешь на меня пялиться?
Эрни отскочил. Голубые шары горели ненавистью. Она прорывалась короткими молниями, сменяясь холодным мраком затмения. Эрни был ошеломлен, увидев, что калека грозит ему кулаком.
– Я не нарочно, господин Полчеловека. Я просто хотел вам показать… хотел вам сказать, что… я вас люблю, господин Полчеловека. Понимаете, я, лично я, – огорченно объяснил Эрни, отступив подальше.
Инвалид поудобней примостил свое туловище на повозочке, голова раскачивалась из стороны в сторону, лицо то кривилось в гримасе, то успокаивалось. Эрни понял, что душа Полчеловека – это луна, которая безнадежно холодно поблескивает во тьме.
– Эй, ты, – вдруг разъярился инвалид, – кулаки-то у меня еще в порядке!
Пряча, как воришка, перевязанную руку под здоровую. Эрни поспешил удалиться. Инвалид на своей тележке повернулся ему вслед, разверз обросший бородой рот и, заранее смакуя слова, выкрикнул с наивысшим христианским презрением:
– Жидовское отродье!
Не ускоряя шага, Эрни завернул за угол. Тут он вынужден был прислониться к стене, до того колотилось у него Сердце. В ногах тоже стучало, а под коленями ходила пила. Несмотря на скверный характер господина Полчеловека, Эрни неудержимо тянуло представить себе то место, откуда французским снарядом ему вырвало ноги. Вместо ягодиц – сплошной рубец, и на нем – вся тяжесть тела. Разве могут быть такие большие раны?.. Однако же небо привычно синее, и машины мчатся как ни в чем не бывало, едва не задевая тротуар, и люди ходят на здоровых ногах и размахивают здоровыми руками, и голуби облепили фонтан на Гинденбургской площади и попивают из него воду. Что же все-таки случилось?
– Дело, наверно, в том, что я слишком пристально смотрел на него. Наверно, нужно принимать на себя страдания людей так, чтобы они этого не замечали. Да, видимо, все дело в этом, – сокрушенно бормотал Эрни.
Ребенок похвалил себя за новое открытие, но тут же в ужасе заметил, что он перестает быть «просто совсем маленьким» и даже, наоборот, начинает так быстро увеличиваться, что мир доходит ему уже только до щиколоток, а все предметы, поскольку он взирал на них теперь с высоты собственной похвалы, сверхъестественным образом исчезают из его поля зрения. «Вот я уже и не Праведник», – испугался он.
5
Если бы можно было рассказать подробно все, что произошло в течение этого дня, люди разинули бы рты от удивления. Эрни вдруг погрузился в чудесный мир и оказался среди неведомых прежде душ; он запечатлел в своем сердце массу новых объяснений знакомым явлениям, дед открыл ему тайну волшебного ключика, который открывает доступ к невидимым простым глазом лицам; он сам приложил немало усилий, чтобы в единой скорби постичь и куриц и уток, и телят и коров, и кроликов и баранов, и пресноводных рыб и морских, и диких и домашних птиц, включая соловьев и райских птиц, которых, как он знал по слухам, каждый день убивают из чревоугодия; его «я» переходило несколько раз от незначительной малости к прославлению этой малости и к запредельным высотам гордыни. А сколько вышло неприятностей дома из-за его желания принять на себя боль других глазами или ушами, не говоря уже о его необъяснимой потребности прикоснуться к ним руками или губами! Нет, всего не рассказать. Заметим все же, что к концу этого дня, отвергнутый всеми, Эрни от избытка переживаний и из страха перед дедом, который исподтишка грозил ему пальцем, предпринял тактическое отступление на территорию швейной мастерской господина Леви-отца.
– Ну, чего ты пришел? – встретил его тот с нескрываемым недоверием. – Посмотреть, не уколол ли я палец?
Ребенок, словно в панике, схватил большой портновский магнит и засуетился по мастерской, заглядывая под закройный стол якобы в поисках затерявшейся булавки. Глубокая складка залегла у него между бровями, плечи поднялись, взгляд стал испуганным. Обследовав каждую половицу, он положил кучку булавок у ног господина Леви-отца, сидевшего по-турецки на гладильном станке. Затем он примостился у витрины и сделал вид, что наблюдает за тем, что происходит на улице. Взгляд стал совсем растерянным, и даже нижняя губа отвисла. Незнакомая доселе усталость сжала сердце. Стянутую бинтом руку дергало все сильней и сильней. Он старался не расплакаться, а мысли, как необузданные кони, били копытами в его виски. И всякий раз, когда ему казалось, что он уже сумел загнать их в какую-нибудь простую истину, они опять уносились к черной пропасти в его мозгу. Вконец огорченный тем, что не может разобраться в событиях сегодняшнего дня, наш славный герой украдкой посмотрел на господина Леви-отца, на его кроличье лицо и губы, будто посасывающие иголку. Он посмотрел на Биньямина не затем, чтобы постичь его душу или разделить его «боль». На сей раз он искал успокоения своей собственной душе, растрепанной и заблудившейся. Он бессознательно надеялся, что отец утолит его собственную печаль, избавит его от той необъяснимой боли, которая терзала его новую, «праведническую» совесть.
Считая, что сын за ним наблюдает, Биньямин отвечал на его немые призывы такими колючими взглядами, что казалось, будто они вобрали в себя все булавки с магнита, чтобы вонзить их в полные слез глаза Эрни. Затем Биньямин укоризненно и скорбно вздыхал, и Эрни краснел до ушей.
Так прошел час, когда скрипнула дверь, и вошел заказчик из рабочих. Он смущенно попросил поставить ему на штаны заплату. После тысячи извинений Биньямин дал понять, что не сможет шить по живому. Достопочтенный клиент вполне понял намек мастера и скрылся за закройный стол, застенчиво прикрыв волосатые ноги одеялом.
Когда заказ был выполнен, оказалось, что ноги клиента не хотят влезать в башмаки. Биньямин предложил ложку, но она не помогла. Бедняга пыхтел от напряжения, стучал ногами по полу – нет, ноги не влезали.
– Уже сто рожков можно было купить за то время, что я прошу, чтоб в мастерской был рожок! Но разве на женщин можно полагаться? – воскликнул Биньямин. – Ну-ка. Эрни, нечего на меня таращиться, сбегай-ка лучше, купи рожок. Только без твоих дурацких выходок! А то мы все тут от волнения поумираем, и ты останешься один. Иди, иди, без разговоров!
– Не беспокойтесь, господин Леви. Одна нога уже влезла. Еще немножко – я и другую втисну в эти проклятые башмаки, – объявил клиент.
– Все равно иди, – сказал Биньямин. выбрасывая обе руки вперед, словно отмахиваясь от назойливой мухи. – По крайней мере, избавлюсь от тебя хоть на время.
Эрни почувствовал внутри какую-то странную пустоту. Не сказав ни слова, он вышел на улицу и увидел, что Ригенштрассе уже погрузилась в вечерние сумерки: над крышами протянулись лиловато-сиреневые полосы, а между домами, вокруг фонарей и в проемах окон еще удерживались желтые пятна солнечного света. Вверху колыхался темный гладкий лист бумаги, шелковистый и легкий на вид – это было небо.








