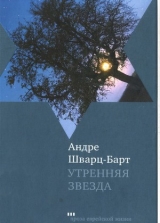
Текст книги "Утренняя звезда"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Глава IV
Путешествие в Освенцим
Если погаснет память о вас, для меня и земля, и небесная лазурь просто канут на дно, самые сладкие губы мне станут горьки, любой поцелуй обернется укусом: вот что станет со мной, если память иссякнет о вас.
Андре Шварц-Барт (1954)
1
Отрывок из дневника Хаима
И вот снова Освенцим, прошло полвека, десять тысяч лет, один день. Все в великолепной сохранности, готово для обозрения туристами. Концлагерю подкрасили щеки и губы: «Вот вам новый Персеполь» со своей почтенной входной аркой, растиражированной так же, как колонны Парфенона. «Арбайт махт фрай», – написано на ней: «Труд делает свободным». Смысл надписи туманен, ее причудливый готический шрифт словно бы призван свидетельствовать о древности. Улицы подметены, пыли нет, газоны красивы, как никогда, несмотря на режущий лицо ледяной ветер; бараки тщательно перекрашены, черепица, стекла, столярка – все подновляется при малейшем намеке на обветшание и заброшенность. Музей – чудо порядка, плод заботы и эрудиции, с большой библиотекой, сохраненными картотеками, экспозиционными залами, где любители подлинности могут полюбоваться прекрасно подобранным комплектом реалий сороковых годов: тут куклы из Центральной Европы, изготовленные из всевозможных материалов – от тонкого фарфора до изношенных тряпок, гора носков и одежды для любого пола и возраста, представляющая довольно подробный срез культуры и свидетельство социального расслоения канувшего народа, говорившего на идише. Современный глобалист – животное хладнокровное: сидя в кресле прогулочного мини-поезда с подносом, уставленным снедью на расстоянии вытянутой руки, он уже сделал смотр всем прочим бедствиям мировой истории; некоторые любители из числа присутствующих заплатили немалые деньги за специальные международные туристические проекты, в полной безопасности развлекая себя зрелищем душераздирающих курьезов такого рода. Вот почему куклы и одежды музея в Освенциме пользуются лишь успехом, замешанным на почтительности: толпа мягко струится, дети смеются, ныряют пальцами в пакетики с орешками, а гиды выполняют свои обязанности. Зато некоторые фото, пришпиленные к стене, заставляют весь кортеж приостанавливаться на несколько мгновений, чтобы получше разглядеть сцену казни, груду скелетов, стайку голых женщин, объятых страхом, как саваном, и бегущих, сами того не зная, навстречу собственной гибели: к газовой камере. Невдалеке представлена груда волос двухметровой высоты, она тоже вызывает кое-какой интерес. Волосы обрезали при входе в газовую камеру, это делалось в видах будущей утилизации, из соображений рентабельности; время припудрило их легкой желтоватой пылью, а так это чудные шевелюры всех форм, цветов и возрастов; хороши там длинные седые пряди, сохранившие отблеск жизни, нежный налет материнской заботы… Все это лежит здесь на потребу тысяч равнодушных взглядов, из года в год набегающих, как приливные волны.
Потом туристы в большинстве своем направляются в удобное кафе, где их ждут чашка кофе, пиво и хот-доги; кафе расположено в бывшей столовой для офицеров СС. В это же время маленькая группа около двух десятков человек, явно незнакомых друг с другом, бредет вдоль ржавых рельсов, ведущих к другим баракам в двух километрах от этих. Именно там находился состоявший при Освенциме лагерь Биркенау, предназначенный для истребления евреев. Хаим в который раз поднял голову, чтобы поглядеть на небо, к которому он некогда тщетно обращал свои мольбы, то небо, что без всякой жалости смотрело на людей, когда он был здесь узником, такое равнодушие в конце концов сломило его, заставило забыть, что он – сын своего отца, реб Мендла Шустера. В его мозгу протаяла большая полынья, и он перестал помнить, к какому принадлежит роду-племени. Все, что он мог бы сказать сегодня, шагая рядом с Сарой в этой кучке унылых заморышей, что плетутся в Биркенау, одновременно терзаясь страхом и жаждой обрести наконец своих мертвецов (или то иллюзорное нечто, которое там от них осталось), так вот, все, что он хотел ей сказать, – это что прежнее небо было гораздо выше, недостижимее, человек под ним превращался в ничтожную малость, в тень тени… Сегодня же до неба рукой подать, оно серовато, все в ватных облачных хлопьях, как и должно быть в его дорогой Польше, но зато это настоящее, неподдельное небо, тут может выглянуть солнце или полить дождь… совсем как в человеческих сердцах.
По мере того как их жалкий отряд приближался к священным местам, каждый день оплакиваемым в синагогах всего света, стало заметно, что Биркенау полностью оставлен на произвол судьбы, заброшен без призора. Все вышки завалились, черепица сорвана ветром, ржавая колючка рыжеет в высокой траве, взявшей в полон этот лагерь истребления словно затем, чтобы колоть в глаза выжившим: вот, смотрите, эти мертвецы ничего не стоят, не весят, можно топтать их ногами до скончания дней.
Но любовь сильнее смерти, а все, что было, – было, и этого довольно. Нет, никто из этих мертвецов не канул в небытие безвестным. Даже через много веков, после того, как уйдет из жизни сама планета, никто не сможет сделать так, чтобы человека не стало совсем. Очарование ребенка, милая улыбка девушки… Самому Богу не дано упразднить прошлого. Все было. Случилось. И красота земная тоже никуда не делась.
Хрупкая прелесть мира и некоторых земных созданий, их величие, доблесть, благородство, все было, было – и довольно об этом.
Внезапно Хаим вспомнил о своей матери, «увидел ее воочию», чего с ним почти полвека не случалось. И вот впервые после ее смерти он представил ее живой.
Женщина лет сорока… овальные щеки, тонкий нос с горбинкой, словно у птицы, и меланхоличные глаза куропатки. Скорее малого роста, чуть тяжеловатая, с чрезвычайно тонко вылепленными руками и ногами, совершенно не соответствовавшими ее телу, равно как нос и глаза, глядевшие на мир словно бы сквозь густой кустарник или стайку деревьев на краю поля. Она представилась ему в их жилище, всегда окруженная детьми, то готовящая им еду, то гладящая одежду, то дающая младенцу грудь. Ведь они рождались что ни год, никогда не оставляя без работы ее лоно, грудь, руки и ноги. А еще ее ум, целиком поглощенный заботой о том, как давать жизнь и разделять ее с близкими, ничего не ожидая в награду за ежесекундные дары. Жена, женщина, никому не ведомо, кем еще она могла бы стать. Определить же, что она значила для них всех, – здесь язык человеческий бессилен.
Конечно, Хаим вспомнил и о ее вздутых венах, ведь они были у нее деформированы уже тогда, и, когда он их видел, эти стариковские вздувшиеся жилы, он не мог оторвать от них глаз. Вот и потом, всякий раз, когда писал, пытаясь запечатлеть словами на бумажных листах другие истории (имевшие одно имя: «Польша»!), когда описывал Варшавское гетто, восстание, различные лагеря, европейские лагеря уничтожения, Освенцим, послевоенную историю, Израиль – и все это многократно правил, перекраивал в поисках точного образа, ускользающей интонации, вытравливая все, что их опошляло, – всегда он видел перед собой синеватую, непрестанно пульсирующую жилку на женской ноге, ноге девушки, которая выносила слишком много детей.
2
Отрывок из дневника Хаима
Вся жизнь человеческая есть высказывание. Некий исторический сюжет. Каждый такой сюжет не завершен, будь то история младенца или старика, согбенного под тяжестью многих, многих лет. Ни одной истории не дано закончиться ничем, кроме финального молчания людей, указывающего не на окончательность случившегося, а на простую остановку в пути. Вот и смерть, даже добровольная, ничего не завершает. Просто прерывает течение. И та длиннейшая поэма, что называется человечеством, не гудит вечно в ушах ничьего бога. Она похожа на трель, вырвавшуюся из птичьего горла. Не существует верховного ценителя, который бы вынес суждение о ее совершенстве. Все существо птицы переходит в ее песнь, лишь трелями становятся и наши любови, страсти, войны и века. Человеческое мученичество или унижение народа – всего лишь музыкальные пассажи, развивающиеся в некоем темпе, что зовется судьбой, а можно бы назвать скрипичным, басовым или каким-либо еще ключом: «ключом фа», «ключом соль», «ключом ми-бемоль мажор». Все есть музыка, даже то, что еще не имеет имени и не подлежит называнию.
Город Освенцим начинался сразу за длинной чередой труб от печей крематория, в каких-нибудь пяти сотнях метров от лагеря. Автобусы, до отказа заполненные туристами, приходили туда, и, чтобы разрушить наваждение, весь маленький отряд, дошедший до Биркенау, преодолел обширное пространство, заросшее травой с разбросанными кое-где правильной формы дырами упрямо не сохнущих луж, и торопливо затрусил к живым людям. Когда же эта группа добралась до входа в гостиницу, Хаим внезапно окунулся в толпу новых приезжих, и эти незнакомые люди пробудили в нем даже те воспоминания о временах Варшавского гетто, что были запрятаны глубоко в подсознании, как давний сон. Перед глазами возникли призраки из давних преданий, которые, как думали обитатели гетто, пришли, чтобы не дать им сгинуть в полной заброшенности. Под шляпами на незнакомых головах ему почудились тогдашние шляпы и ермолки, он ощутил присутствие пророков и цадиков древности, а вместе с ними – избранных христианских душ, их мусульманских и буддистских собратьев, пришедших протянуть руку народу, отвергнутому всеми племенами и государствами.
А над собой он снова узнавал прежнее небо Освенцима, зеркало несравненной чистоты, в котором безукоризненно отражалась земля, отданная на волю добрых и злых сил, когда же опускал взгляд на людей, он в нескольких шагах от себя угадывал седые виски старого человека, носившего имя Иисус и пурпурную капоту странника Моисея. Он бы хотел подойти к ним, заговорить, напомнить об их краткой беседе в тот вечер, когда Иисус, стоя у памятного месопотамского библиотечного шкафа, отвечал юнцу на его сомнения в существовании Бога:
– Ты действуешь мне на нервы, очень действуешь, проси прощения.
– Прошу прощения, прошу прощения.
– Ну вот, а теперь, милый мальчик, поговорим о Боге. Если бы Его не было, что бы стало со мной, ведь сейчас я мертв, так как же я смог бы предстать перед твоими глазами без Божьей помощи?
Сара засуетилась вокруг него:
– Да что с тобой, что с тобой?
Он обнял ее за плечи, защищая от всего света, и они вошли в снятый номер. Хаим был счастлив, что Саре удалось сразу заснуть, ибо ему требовалась капелька одиночества. Он вышел из гостиницы полюбоваться красотой весеннего польского вечера. Рисунком созвездий на звездном ковре, там, где угадывался Млечный Путь, целые галактики, выглядящие светящимися точками, а за ними – сгустки галактических скоплений, как хищные звери, разбегавшихся по небу в поисках добычи. Он глядел на этих всемогущих небесных пожирателей звезд, делавших то же, что и микроорганизмы под увеличительными стеклами. Сознание собственной малости принесло в его душу умиротворение, и он спросил себя, как человеческие существа умудряются напускать на себя такую значительность вопреки опровержению, которым небеса встречают каждый их амбициозный замысел, всякую бредовую идею?
Сам он вот уже много лет ощущал себя лишь мертвым дроздом, затерянным в поле.
Он не понимал, зачем Холокост окружают такой атмосферой сакральности, но воспоминание о той немецкой надзирательнице, что так сострадала пытаемым, так оплакивала их горести и настолько быстро освоилась со зверствами, что уже на исходе третьей недели стала злее остальных, – эта история заставляла Хаима задуматься. Теперь он за лицами настоящих чудовищ угадывал человеческие черты, следы которых свидетельствовали, что в лучших обстоятельствах они не дошли бы до таких злодеяний. Он не говорил об этом ни с кем, но про себя мало-помалу пришел к следующему заключению: видимо, в начале тридцатых годов в немецких молодых людях не было в зачаточном состоянии той предрасположенности к чудовищным деяниям, какая обнаружилась потом. Требовалось лишь прорастить в их душах начатки человечности… Все, что он узнал впоследствии, наблюдая земные дела, лишь подтвердило в нем банальную, совершенно прозаическую уверенность, подобную тем истинам, что добываются только потом и кровью: человеческий мозг представился ему послушной влияниям субстанцией, отзывчивой на любое давление и чрезвычайно пластичной. «Все возможно» – вот слова, которые он постоянно твердил каждый день из года в год. Войны, прогремевшие впоследствии, да и те, что прошли давно, начавшись у истоков истории, доказывали: ничто не ново под солнцем.
Единственное, что упрощало историю Холокоста, заключалось вот в чем: евреи погибли ни за что, буквально ни за что, такое мыслимо только в бреду помешанного, и таковым, видимо, был Адольф Гитлер. Завтра невесть кого могут снова умертвить ни за что, сделав из него «призванного», как сами евреи это называли. Вот главное впечатление, что осталось у него от той эпохи: люди умирали, не понимая, раздавленные абсурдностью происходящего.
Он улыбнулся, вспомнив рассуждения Сары. У нее часто возникали странные, непредсказуемые идеи, они словно бы спускались к ней с каких-то безумных небес, так, по крайней мере, выражалась она сама. Ее сексуальная жизнь – в том длинном интервале, что предшествовал появлению старого мужа, – была самым настоящим кругосветным путешествием. Сменялись обычаи, костюмы, речи, жестикуляция, все то, что определяет интимные отношения между мужчиной и женщиной. Когда они еще были только друзьями, не осмеливаясь стать друг для друга чем-то большим, она возымела обыкновение рассказывать ему все забавные случаи, сопряженные с ее амурными делами. И вот вчера, прямо-таки опьянев от нарисованной Хаимом картины будущего образования их ребенка, в полной мере и даже с избытком повторявшей то, что желала она сама, Сара выдвинула до крайности забавный план, могущий сделать из нее деловую женщину: составить книгу, проиллюстрированную соответствующими фотографиями, где описаны все традиционные приемы, с помощью которых мужчина-самец и его подруга-самка подступают друг к другу, а также принятые в разных местностях их названия и описания, чаще всего более или менее комичные, хотя подчас и отмеченные легким поэтическим флером определения, коими наделяет эти позы каждое общество. Она подумывала даже снять об этом фильм, который был бы настоящим любовным путешествием вокруг света, и этот замысел ее очень веселил.
Одновременно она хотела сделать из своего дитяти – не важно, будет это мальчик или девочка, – образцового еврейского ребенка, и при всем том ее посещали мысли, не имеющие ничего общего с ортодоксальными построениями. Слыша это, Хаим только улыбался и никак не мог стереть с лица усмешку. Применив все возможности дипломатии и выдумки, она, как ей кажется, сумеет привить ребенку начатки еврейства, которые, разумеется, не будут сводом категорических суждений и ухваток, навевающих только скуку, что так характерно для детей, воспитанных традиционно, это даже на лицах у них написано. Нет, она обладает, да, безусловно обладает представлением о противоречивости реального мира, а потому привьет ему несколько высокопарно звучащий девиз и пароль, открывающий туда дорогу (тот же девиз сделался его собственным после Освенцима): «Кошмар и чудо».
Поднявшись в гостиничный номер, Хаим осторожно вытянулся рядом с уснувшей девушкой. Самые разные мысли приходили ему на ум, он, в частности, подумал, что лишь за пять минут до конца, до предсмертного хрипа начал по-настоящему жить. Внезапно впервые после Холокоста он осознал, что стал спокойнее думать о смерти. Он мысленно раскланивался с усопшими – со всеми поочередно, близкими и далекими, словно те еще живы, ведь они продолжают день за днем, неделя за неделей жить в его памяти с тех давних пор: погибшие в ущелье и другие, из корчаковского интерната, мертвые из иных польских краев, где их настигла смерть, и те, кто умер вне Польши. Все они для него живы, растворены в его крови, в нем самом. Так живы, что их можно тронуть рукой, услышать их речь…
Тот мир был ужасен, ужасен и чудесен, да, именно чудесен, ему даже показалось, что все может начаться вновь, прямо сейчас, как только пробудится то необыкновенное создание, чье имя Сара. Снова, как в детстве, будут молитвы у стола с белой хлопчатой скатертью, звуки флейты, от которых у всех становилось весело на сердце, ритуальные действа, заполнявшие праздничные дни, чудеса и видения, пришедшие из иного мира, чувство, что ты – звено в вечной цепи, что, быть может, еще несколько месяцев, и с тобой рядом пойдут жена и ребенок, как знать, все возможно…
В ту ночь ему приснился сон: он лежал в узком подгорецком ущелье под лучами бледнеющей луны, предвещавшей зарю. Его место было в стороне, недалеко от родных, метрах в двадцати от траншеи, где спала вся община. Его тело не было засыпано землей, лишь слоем камешков, почти не скрывавшим лица. Временами на него садилась птица и клевала ему глаза, но он ее отгонял. Вдруг раздался голос Сары, и тело дивной теплоты улеглось у него под боком, а тонкие пальцы по одному стали снимать с него щебенку.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она. – Тебе не плохо?
Под кожей ее живота что-то задрожало, и Хаим отчетливо различил детский рот, раскрытый в молчаливом крике: какой-то зов.
В тот же миг первая утренняя звезда появилась на небе, и Хаим открыл глаза в гостиничном номере, рядом со спящей юной женой.
– Мне хорошо, хорошо, – мечтательно протянул он, меж тем как неясное свечение проникло в комнату через окно, где прорисовывались контуры нового дня под обновленным небом. Под незапятнанным небом Освенцима, чистым, как в первый день творения.
И Хаим прошептал:
Да святится ныне и вовеки имя Всевышнего в мире, сотворенном Им по воле Его. Пусть тот, кто поддерживает гармонию небесных сфер, позволит ей воцариться и среди нас, и среди чудесно спасенного Иерусалима.
Эпилог
Может ли один человек носить траур по всему народу?
Круг замыкался, исследование великого преступления, унесшего в прошлом столько жизней, отсылало Линемари к заботам ее собственного мироздания; у нее, правда, еще оставались вопросы: что в остальных сундуках, какова природа диковинного безумия этого человека? Может статься, истинной его целью было не написать книгу, а установить подлинную связь с исчезнувшими людьми? Приготовить для них на земле некое пространство, хотя бы только в его сознании? И поддерживать все это каждодневно, вплоть до мгновения, когда он сам исчезнет с лица земли?
И что за странное помешательство заставляло этого человека исписывать собственноручно тысячи листов бумаги, не будучи способным когда-либо завершить все это единственным словом?
Вот это слово:







