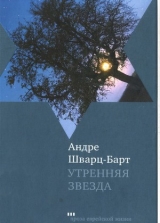
Текст книги "Утренняя звезда"
Автор книги: Андрэ Шварц-Барт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Глава IV
Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет.
Книга пророка Иеремии 31,15
1
Прошло несколько недель: самое сверкающее и по-летнему теплое начало осени. Дни были натянуты, как тетива, готовая лопнуть, но стрелок пропал куда-то, и за лук брались новые и новые руки.
Над всем нависло безмолвие, быть может, умолк сам Всевышний? Дети не задавали никаких вопросов и смотрели на него полными обожания глазами. Можно бы подумать, что в нем им виделся целый исчезнувший подгорецкий мир и маленький мирок у домашних верстаков в полуподвале. Хаим перестал терзаться вопросами, он просто ощущал себя уже мертвым, лежащим вместе с убитыми в ущелье. Но когда он одаривал братьев каким-нибудь подобием ласки, им чудилось, что их лба или щеки коснулась охраняющая их покой длань самого Всевышнего. Однажды он, готовя еду, допустил какую-то оплошность и машинально, чтобы ее загладить, на сковородке с еще жидким тертым картофелем начертал Давидову звезду. Когда за столом один из братьев показал на своей тарелке глубокий след священного знака и закричал, что свершилось чудо, маленькое племя спасенных принялось от радости плакать и смеяться, совершенно оглушенное и вдохновленное этим дружественным сигналом, посланным свыше. Бог на какое-то мгновенье отвел глаза от подгорецких евреев, но теперь видно, что Он никуда не делся.
В последние дни по деревне прошел слух, что монахини монастыря Святого Анастасия предлагают принять несколько еврейских детей. Но хотя некоторые уцелевшие еврейские матери и попытались что-то разузнать, до источника этих слухов никто не добрался. Хаим проводил целые дни в лихорадочных изысканиях, поскольку не слишком понимал, что это за монахини, как выглядит монастырь, и напрочь не знал, в каком городе он находится. Только один человек мог его привести к этим женщинам – лошадиный барышник, у которого Шломо заново перекрыл крышу, очень милостиво высказывавшийся в те дни, когда заезжал в Подгорец, по поводу, как он странно выражался, «людей иудейской веры». И оставался еще вопрос, который надо было решить: как малышам сопротивляться попыткам монахинь их окрестить.
Если верить Исааку Смоловичу, сорванцу, обосновавшемуся неподалеку, носившему помочи и шаставшему по всей округе, монашки заставляют вас стать на колени и либо силой, либо прибегнув к наваждению, засовывают вам в рот перевернутые буквы имени Господня. Но стоит мысленно произнести первые слова всем известной молитвы («Внемли, Израиль: Господь, Бог наш, Господь – один!»), как все их усилия будут тщетны и пред ликом Всевышнего ты останешься законопослушным еврейским ребенком. Впрочем, Хаим был полон решимости во что бы то ни стало оставлять рот закрытым или, если придется, умереть, но не осквернить имени Господня. Однако же евреев, живших поблизости от монастыря Святого Анастасия, ведь тоже увезли на грузовиках? Да и есть ли еще на свете другие еврейские души, кроме тех, что у Хаима и троицы его братишек?
2
Когда они достигли подножия горы, солнце уже садилось. Самый маленький, как заплечный мешок, висел на Хаимовой спине, а два других брата держали его за руки. Ферма пана Павячека стояла поодаль от деревни; линией раздела служила изгородь из орешника, за которой некогда паслись его лошади. Теперь там неистовствовали одни сорные травы. Низенький домик казался заброшенным. Вместо работавшего на бензине грузовика с кузовом-фургоном, в котором пан Павячек когда-то перевозил лошадей, во дворе стоял маленький грузовичок с газогенераторным двигателем. Дверь им открыла старая крестьянка с волосами, перехваченными широкой черной лентой, с бледным, скомканным, как измятая бумага, лицом и глазами такого нежно-голубого цвета, что в них можно было бы утонуть. Она молитвенно сложила руки с разбухшими венами и промямлила: «Бедные детки». После чего быстренько заперла за ними дверь и выставила на стол несколько тарелок с едой. «Тут все только молочное», – успокоила их она тоном, пресекающим какие-либо сомнения, так как когда-то работала в еврейском доме и знала, что нельзя «варить ягненка в молоке матери его». Она добавила, что скоро приедет муж и повезет их в монастырь Святого Анастасия. Но тот все не приезжал, у братьев Хаима уже начали слипаться глаза, и сам он напрасно пытался расслышать мысли, что прятались за костистым лбом старухи, которая, сложив руки, все повторяла: «Бедные детки, бедные детки!», так ни разу и не спросив, что же случилось с евреями, увезенными на грузовиках. Именно с такими словами она подтолкнула четверых задремывающих детей в маленькую комнатку за кухней, где положила несколько охапок свежей соломы. И вскоре Хаим уже парил где-то высоко в небе, настораживая огромные уши, более чуткие, чем сама ночная тишина.
Его разбудили голоса, и он придвинулся ухом к щели света под дверью. Тихому монотонному голосу старухи отвечал кто-то обладавший сильными, как печные мехи, легкими, он говорил внятно, громко и торжественно. Хаим сначала подумал, что пан Павячек и его супруга обсуждают, какую скотину везти на продажу, но кое-что показалось в их прикидках странным. Речь не шла о том, сколько злотых просить за голову, а о сахаре и табаке – монете самой неходкой. Панна Павячекова хотела только сахару, а пан Павячек – одного табаку. Наконец, обменявшись несколькими фразами шепотом, супруги пришли к согласию: две головы по килограмму сахара за каждую, а за две остальных требовать по две пачки табака. «В итоге, – с некоторой горечью подвел черту пан Павячек, – два кило сахара и четыре пачки табака». В этот миг Хаим-Лебке понял, о какой скотине идет речь, и грудь его раздулась, как воздушный шар. Ему даже почудилось, что он вот-вот взлетит. Он замер, прижимая руки к груди, и какое-то время ждал, пока ферма не погрузится в ночное молчание. Потом попытался открыть дверь кухни – она была заперта на ключ. Попробовал нащупать за вязанками соломы другой выход, но его не оказалось: кладовка была глухой яминой, вырытой прямо в земле. Он на ощупь продолжил поиски, нашел только черенок от лопаты и, сжимая его в руках, застыл перед дверью и стал дожидаться рассвета. Когда он проснулся, уже лежа на полу, рука панны Павячековой зажимала ему рот, а толстые пальцы ее мужа кончали его связывать. Веревка притягивала запястья к щиколоткам: так поступали обычно с телятами. Рука панны Павячековой отлипла от его рта, чтобы тотчас смениться кляпом из мешковины, а затем у него на глазах связали поочередно каждого из трех его спящих братьев. Всех их сложили в грузовичок с газогенераторным двигателем, и пан Павячек выехал со двора. Хаим-Лебке расслышал жалостливый голос старухи: «Езжай осторожно, не растряси их слишком!» Пан Павячек принес из кладовки вязанки соломы и осторожно разместил на них неподвижные, застывшие от ужаса тела. В котле газогенератора уютно потрескивали дрова. Их штабельки закрывали обзор по сторонам, но не мешали небу свободно играть всеми красками над их головами. Хаим-Лебке никогда, как ему подумалось, не видел ничего прекраснее. Это походило на ровную, легко растекающуюся мелодию с пятнами волнующего розового оттенка и тихими, но яркими нотами, подобно птицам бороздившими ее поверхность; а тут еще стайка облаков, которая плыла в том же направлении, что и грузовичок, и с тою же скоростью, чтобы поддержать сынов Израилевых в их испытаниях. Вскоре за штабельками дров стали мелькать фасады домов, и машина остановилась у какого-то здания прямо под флагом со свастикой. Послышался топот сапог, раздались немецкие голоса. Однако передняя дверца грузовичка не открывалась, и мотор продолжал работать. Машина снова тронулась. А небо стало еще прекраснее, по нему пошли полосы, словно по тигриной шкуре, только фиолетовые. Но вдруг восходящее солнце смело все прочие цвета, и грузовичок въехал в другой город, остановился у новой комендатуры, потом опять нерешительно тронулся в путь, а его дверца все не открывалась. Наконец машина остановилась прямо в поле, и над детьми нависла фигура пана Павячека, облаченная в грубошерстную рабочую робу, со сверкающей, шишковатой, словно обитой молотком, лысиной. Из этой массы мяса и костей, созданной, чтобы перемалывать лошадиные души, на них глядели такие же голубые невинные глаза, как у его старухи, и даже с тем же налетом легкой грусти.
– После этого попробуйте сказать, что вас не любят! – бормотал он, разматывая веревки и распуская тряпицы, которыми они были связаны. – Теперь ваша жизнь ничего не стоит. Горстку серого сахара и щепоть табачной крошки на одну трубку. А чего стоит сам Павячек, старый дурень, тыква глупая, а? Он говорит этим деткам: «Идите ко мне!», а потом должен отвезти в столицу к таким же, как они, чтобы их там уморили за так, чтобы никто даже не попользовался! – Он ткнул в небо пальцем и скомандовал: – Повторяйте за мной: «Пан Павячек – старая дурная тыква!»
А поскольку дети молчали, его глаза из голубых сделались розовыми, и он заорал уже с угрозой:
– Ну-ка, повторяйте, говорят вам: «Пан Павячек – глупая тыква, старая пустая тыква!»
Побелев от ярости, он помедлил еще, потом тяжело набычился, вспрыгнул на подножку грузовичка, и тот рванул с места, как будто получил удар хлыстом. Машина быстро удалялась. Дети плакали на плече у Хаима, которому в ту минуту стоило великого труда выглядеть среди них старшим. А солома была мягкая, к тому же солнце так напекло, пока они лежали в грузовике, что глаза слипались сами. Хаим плавал в речке у Подгорца в тени прибрежных ив, холодная вода облекала его со всех сторон, но горло еще горело, и ему все не удавалось открыть рот, намертво залепленный здоровенным куском штукатурки.
Из середины реки появилась громадная рука и нависла над ним, он открыл глаза и увидел пана Павячека, который будил детей одного за другим. Грузовик стоял в тени красной кирпичной стены, высотой почти как двухэтажный дом, да еще поверху утыканной осколками бутылочного стекла. С другой стороны грудились дома невероятных размеров, какие раньше он видел только на фотографиях. От пана Павячека несло перегаром картофельной самогонки, а вид у него был еще несчастнее, чем прежде. Он протянул им бутылки с водой, какие-то фрукты и торбу, по форме и весу свидетельствовавшую, что в ней – краюха хлеба. И указав на таинственную точку, расположенную там, где стена кончалась, он, как безумный, нырнул в кабину, лязгнул дверцей, высунул голову из окошка и возопил, внезапно раздувшись от такой ярости, что аж язык заплетался:
– Господь берет вас на Свое святое попечение!
Грузовичок взвыл, исчез с глаз, а Хаим спросил себя, не надо ли было поговорить с ним о монахинях монастыря Святого Анастасия? Но теперь он был человеком пуганым, знал уже, до какой крайности могут довести смертного сахар и табак, и сожаления о святых женщинах из далекого монастыря его тотчас покинули навсегда. Усталые, измученные, прижимаясь друг к дружке, дети добрели до того места, где в стене был проход, перед которым стояли два немецких солдата и еще два каких-то типа в белых кепках с синей звездой Давида на козырьках. Каждый из этих двоих держал в руках длинную дубинку. За стеной и рядом колючей проволоки беспорядочно сновали люди. Они все куда-то спешили, о чем-то громко бубня, словно толпа на рынке. Один из солдат заметил детей. Он что-то сказал на своем родном языке, и его слова тотчас, словно откликнувшись эхом, сухо перевел на идиш один из штатских:
– Кто вы такие и что вы тут делаете?
– Мы – еврейские дети из Подгорца, – ответил Хаим-Лебке.
– Скажите сперва, где этот Подгорец, как вы пришли и где все остальные?
– Они все мертвы. Все отдали души Господу, – пояснил Хаим-Лебке. – Мы – последние евреи святой подгорецкой общины.
– Что-что? Где это? И кто привел вас сюда?
– Пан Павячек, – прозвучало в ответ.
– Ха-ха! – не найдя иных слов, отозвалась вся четверка в равной мере ошарашенных стражников.
А затем один из штатских, все поглядывавший с тревогой на немецких солдат, почтительно поклонился и произнес с непонятной улыбкой на губах:
– Входите, входите, святая подгорецкая община.
Дети проникли за ворота, осторожно просочившись между стражами и колючей проволокой, и оказались в людском муравейнике, кишащем по ту сторону красной кирпичной стены, среди чрезвычайно активных мужчин, женщин и детей, часть из которых носила одежды, никогда ранее Хаимом не виданные: ни на фотографиях, ни на картинках, висевших на стене у реб Тефуссена, самого известного в их общине портного; иные были даже одеты почти как подгорецкие обитатели, но имели обязательно какие-то неожиданные отличия либо в поведении, либо в манере жестикулировать и передвигаться, так что в конечном счете все здешние евреи казались странными – таких Хаим никогда прежде не видел. Встречались здесь люди шумные и молчаливые, бурно мечущиеся взад-вперед и неподвижные, эти чаще всего сидели на тротуаре, опершись спиной о стену или улегшись прямо на мостовой, раскинув руки, как набитые стружками марионетки. Однако на каждом обязательно была бело-синяя нарукавная повязка, ее носили даже малолетние дети (один ее вид пробуждал у Хаима-Лебке мрачные, хоть и неясные ожидания). Но при всем том он и его братья уже не выглядели последними в долгой чреде людей, что начиналась от патриархов Авраама, Исаака и Иакова.
От мелькания белых нарукавных повязок с синими звездами у Хаима кружилась голова. Можно было подумать, что евреи из ущелья Одинокого Странника не умерли окончательно. Или что они ожили и заняли свое место среди этой толпы. Хаим сделал несколько шагов к темневшей под стеной тени и присел там вместе с братьями. Они во все глаза таращились на это удивительное зрелище, совершенно пораженные. Хаим, пригнувшись к троим малышам, внезапно шепнул им, будто доверчиво делясь дорогим секретом: «Бог велик, Бог велик».
3
Улица конвульсивно металась. Под ярким небом перемешивались цвета и формы. Но вдруг в этой картине появились верх и низ, и все предметы благоразумно заняли подобающие места: высокие варшавские дома застыли. Их ребра устремились вверх, нарукавные повязки перестали мельтешить перед глазами, жестоко открывая взгляду людские лица, прятавшиеся за ними. Большинство отнюдь не выглядело евреями. И даже те, кто напоминал подгорецкие души, облаченные в знакомые широченные плащи и сапоги, в высокие колпаки или плоские береты, даже они несли в себе странные черты совсем другого мира. Можно было подумать, что Всемогущий поводил половником по всем улицам земли и вывалил содержимое сюда, в прогал между красной кирпичной стеной и высоченными фасадами зданий с едва различимыми глазом маленькими окошками на последних этажах. Вокруг мелькали все одежды, когда-либо виденные Хаимом на фотографиях. Существа в американских шляпах, в костюмах по парижской моде, в обуви, вывезенной, быть может, из Константинополя, тонкокостные, узколицые, источавшие немыслимый блеск, что роднил их с ангелами, а между тем они ступали осторожно, стараясь не задеть лежавшего нищего или уличный мусор, а также сидевших на тротуаре торговок, предлагавших невесть что: щербатые тарелки, вилки-ложки, тряпки, лотки со скудным набором непонятного вида предметов, которые они навязывали прохожим с неестественными монотонными причитаниями:
– Купите у меня сигареты…
– Купите мой сахарин…
– Все сегодня дешевле, чем вчера…
– Жизнь не стоит ни гроша…
– И гроша не стоит…
Некоторые женщины двигались, как бы порхая на пуантах, с головы до ног в шелках, другие ходили босиком и в лохмотьях, с провалившимися глазами и распухшими от водянки ногами, таща за собой похожих на скелетики детей. Толстые люди не смотрели на худых, они проплывали, аккуратно ступая, плавно перемещая спокойный взгляд с одного препятствия, мешающего пройти, на другое. А Хаим все спрашивал себя, вправду ли перед ним настоящие евреи, несмотря на нарукавные повязки с синей звездой на белом фоне. Их неукоснительно носили все: и те, кто приехал, можно предположить, из Америки, и польские уроженцы, люди столичные и сельские, те, кто еще имел щеки, и прочие, у кого остались только зубы, люди, ходившие по земле твердым шагом и тащившиеся с трудом, смеявшиеся и завывавшие, лежа на земле, как когда-то нищие у входа в подгорецкую синагогу: «Евреи, милостыня спасет вас от гибельного пути!» или: «Милосердие в сотню раз сильнее смерти!» Одна «американка» шла через толпу с ребенком на руках. Она была высокой, казалась полнокровной и радостной, ее икры поблескивали, отражая жесткое сверкание лакированных ботинок, а под мышкой была зажата не менее блестящая сумка. Вокруг нее вдруг произошло какое-то движение. Скелетообразный малец внезапно вырвал у нее сумку и мигом растворился в толпе. «Американка» машинально сделала еще несколько шагов в равнодушном к ней людском потоке и, осознав, что сумки ей больше не видать, стала, подвывая, что-то выкрикивать на непонятном языке, потом упала на колени и, притиснув к себе ребенка так, что тот едва не задохнулся, принялась раскачиваться взад и вперед, слезы катились по ее внезапно побелевшим щекам.
«Хаймеле, я есть хочу». Маленькая рука самого младшего брата легла ему на плечо. Очнувшись от наваждений улицы, он повернулся к малышам. Старший нервно скоблил ногтями щеку, средний легонько постукивал кулачком по рту, полуприкрыв глаза, будто процеживая те образы, что приходили к нему извне. Вероятно, голод младшего тоже означал нечто иное, был еще одним способом одолеть смятение, таким же, как царапать щеку, хлопать себя по губам или, присмежив веки, смотреть перед собой невидящими остановившимися глазами, словно в полной темноте. Хаим скользнул рукой в свою торбу, нащупал мякоть оставленной паном Павячеком краюхи. Но напротив сидел мальчик, в точности похожий на того, кто украл сумку «американки». Тогда Хаим заставил братьев встать, смешаться с этой толпой, от одного вида которой кружилась голова, и дойти до каких-то развалин, где они уселись под их прикрытием. Все вместе произнесли над вынутым хлебом благодарственную молитву, и он разломил краюху, сердцевина которой оказалась на удивление светлой. В тени поблизости от них расположился тот же самый маленький нищий и смотрел, как они едят. Он со своей желтоватой кожей и выпирающими костями был одет совсем по-подгорецки, его легко было принять за сына какого-нибудь хасида, если бы не свежеобрезанные до самых мочек ушей пейсы. Он встал и созерцал хлеб в молчании, которое было больше его самого. Хаим протянул ему кусок, нищий приблизился, как бы притянутый невидимой леской, подошел вплотную, так что хлеб уперся ему в грудь, бережно, экстатическим жестом обхватил его, а затем целиком засунул в рот. На его скулах проступили два красных пятна. Он задыхался. Наконец прошептал:
– Будто хлеб пророка Илии… Это, случайно, не он вам его дал? – И, заметив удивление на лице Хаима, заключил: – Ага, вижу, вы еще совсем «зелененькие», новички.
– Ну да, такие новички, что даже не знаем, где очутились.
– Вы в Варшаве.
– Надо же, – покачал головой Хаим, – я не представлял Варшаву такой.
– А какой представлял? – поинтересовался маленький нищий.
– Не знаю, не знаю… Но совсем не такой.
– Тут же гетто. Я вот попал сюда из деревни под Плоньском. Много тысяч сельских евреев выгнали из своих домов и притащили сюда. Когда мы дошли до гетто, нас затолкали в специальные дома, по десять – двадцать душ в каждой комнате. Всю мою семью сорвало с места, как желтый лист на ветру, тиф довершил дело. А я – еще зеленый листок, я-то крепко держусь за дерево, меня так просто не оторвать. Вот почему я куда как внимательно отношусь ко всякому слову, что входит в голову. Я утром, днем и вечером отцеживаю лишнее, защищаю себя от напасти. И повторяю самую крепкую из молитв, ты ее запомни хорошенько: «Страж Израиля, сторожи то, что осталось от Израиля, не дай Израилю погибнуть».
Его слова слетали с губ, как камни с горы, все быстрее и быстрее, а грудь с вызовом топорщилась. Он спросил у Хаима, откуда тот пришел. И тут, сам не зная почему, Хаим принялся рассказывать о грузовиках и всю историю ущелья, где исчезла навеки подгорецкая община. Нищий мальчуган слушал, презрительная усмешка кривила его губы.
– Весь этот бред про отшельника никогда не мог бы случиться. Ведь сам посуди: как такое возможно? – И внезапно разразился слезами: – Очень прошу, признай, что всего этого не было, поклянись глазами твоей матери.
И Хаим поклялся глазами матери. А мальчик не унимался:
– Клянись руками твоего отца!
И Хаим поклялся руками отца.
– Клянись, клянись нашей святой Торой!
Хаим поклялся святой Торой. А мальчик заявил, что ни на секунду не поверил в это и вообще плохие мысли следует давить, как клопов. Тут, вспомнив возглас нищего о «хлебе святого Илии», Хаим попросил объяснить, что тот имел в виду.
Тут глаза подростка загорелись, он мечтательно склонил голову к плечу, его пальцы чутко зашевелились, ладони то сжимались, то разжимались у самого лица, словно хотели поймать тень, и он поведал о появлении в гетто пророка Илии. В самом начале он подбрасывал много хлеба, немало буханок появлялось и в последующие дни, но потом хлеба стало не хватать, дары пророка Илии случались все реже и реже.
– Может, скоро придет Мессия. Ведь говорили же, что о его явлении нас предупредит пророк Илия? И кое-кто считает, что его явления следует ждать со дня на день и никак не позже следующей недели: он прилетит на золотом облаке, чтобы всех нас увести в Иерусалим. Тут говорят много всякого, я уже и не слушаю, а с другой стороны, как такое не послушать?
Пока они так говорили, раздалось несколько выстрелов, за развалинами послышался топот бегущих, люди что-то кричали. Хаим хотел было встать, глянуть, что происходит, но маленький нищий не дал ему двинуться, внимательно прислушался, словно уже изучил все звуки гетто, и с ученым видом заключил:
– Не думаю, что это облава.
С некоторыми промежутками раздались еще два-три выстрела, и он, покачав головой, подтвердил:
– Нет, не облава. Просто – Ангел.
Наступило молчание. Хаим медленно поднялся, озирая опустевшую улицу, но тут раздались громкие шаги, и он увидел Ангела, молодого блестящего красавца эсэсовца. Ангел пошел своей дорогой – все было кончено: люди стали выходить из домов, жизнь продолжалась.
Затем их новый знакомый совершенно изменил облик: упрятал в плечи затылок, сгорбился, как старик, выставил вперед узкое, дергающееся от тиков лицо, спросил Хаима, есть ли тому куда идти, и, узнав, что нет, предложил сиротский дом, где ночевал сам. Но предостерег:
– Только не вздумай рассказывать свою глупую сказочку об истреблении всех. – Он на секунду задумался, потом заключил: – Надо говорить, что родителей увезли на работы.
Они выбрались из развалин и под водительством нового знакомца принялись шататься по улицам безумного города. Хаиму больше не казалось, что подгорецкие евреи вышли из ущелья Одинокого Странника и бродят по улицам гетто. Тут люди были другие. Умершие в ущелье – евреи вчерашнего дня, разумные прихожане, а здешние все поголовно сошли с ума. Между первыми и вторыми он не находил уже ничего общего.
Показывая им невиданные картины жизни, мальчишка из Плоньска метался во все стороны, размахивал руками, а его рот дергался, как зверушка, бьющаяся в клетке, такая же полоумная, как и то, что она представляла полным ужаса Хаимовым глазам. Улица Сенна с ее красивыми домами, шикарными кафе и не менее роскошными ресторанами, откуда доносились звуки невероятной, совершенно несбыточной музыки, церковь для евреев-выкрестов, они-то едят досыта, ведь о них печется Папа Римский. Тот самый папа по имени Каритас (или Шаритас – нищий точно не знал). Но особенно, особенно надо быть внимательным вот здесь – худой палец попрошайки ткнул в сторону величественного портала. Это Умшлагплац, туда лучше носа не совать, иначе очутишься в поезде и – «ту-ту-у-у!». А куда уходят эти составы?
Одни говорят, пояснял уроженец Плоньска, что вагоны идут в Треблинку, где готовятся рыть канал из Балтийского в Черное море. Стариков расстреляют, взрослых отправят рыть канал, а детей отдадут в христианские семьи. Другие – что всех отправят на Мадагаскар. Или же – в Египет, где всех обратят в рабство, как во времена фараонов.
Поговаривают еще, что вместе с пророком Илией души других праведников добровольно спустились с небес: великие мужи Израиля, такие, как Моисей и пророки, вернулись к жизни и обитают в гетто. Что среди них (да не поморщится тут кое-кто!) даже еврей Йегошуа, которого христиане зовут Иисус. А еще – предводители иных народов, среди коих называли одного великого китайца, Конфуция, который и евреев-то вовсе не знал, до него только доходили кое-какие слухи о них. Сообщали также о невзгодах одного старика, жившего неподалеку отсюда, которого за азиатские черты лица все время принимали за того китайца. Но в конечном счете, пожимая плечами, трагическим голосом заключил нищий, никому не известно, кто здесь жив, а кто мертв, но все эти воображаемые гости из прошлого действуют очень успокоительно.
На Крохмальной улице самозваный гид показал им здание, где, по его словам, располагался Дом сирот.
– Мы идем туда? – спросил Хаим.
– Не совсем. То – настоящий сиротский дом, Дом доктора Корчака. Там для нас, тутошних, нет места: в нем живут довоенные сироты.
– А где же наш сиротский приют?
– Ну, это не совсем то же самое, мы называем его «Дыра». Да ничего, у нас там, в настоящем Доме сирот, есть добрые друзья. Только придется согласиться, что тебя остригут: это чтобы не подхватить тиф. Вот и все, больше ничего не потребуется.
Они прошли мимо молитвенного дома, где собирались «Адепты Мессии», все в белом (в тот момент адепты как раз выстроились перед своим зданием для общей молитвы), затем углубились в другой квартал, становившийся чем дальше, тем мрачнее: одни развалюхи с кишащими в них заведениями самого сомнительного свойства. Вокруг стояла вонь, некоторые жители спали прямо на улице, и тут малолетний нищий неожиданно выпалил:
– В тот день, когда уже не смогу ходить, я усядусь напротив булочной и буду издали поедать глазами все, что лежит на витрине. И ежели того пожелает Господь, раз уж Он решит, что со мной пора кончать, я хоть оставлю эту землю со вкусом хлеба во рту.
Он внезапно умолк, уставившись на строение, чьи верхние этажи нависали прямо над улицей, составляя с похожим зданием на другой ее стороне какое-то подобие арки (в этом узком промежутке между домами царила такая темень, что прохожие налетали друг на друга), и, с важностью надувшись, сообщил:
– А вот сиротский дом на улице Вольской. На прошлой неделе мы ходили босиком перед бюро юденрата; это была демонстрация, и, хотя полицейские нас прогнали, мы все же успели перевернуть несколько телег.
Дверь сиротского дома еще не была заперта на засов. В глубине коридора виднелась почти целиком застекленная комната, где хорошо одетые, сытые взрослые пили чай, откусывая кусочки сухого печенья. А за их спинами просматривался большой дортуар, весь набитый «опавшей листвой»: мальчиками и девочками, лежавшими как попало на тюфяках и ожидавшими невесть чего в едва ощутимом свете, проникавшем из высоких открытых окон, доходящих до самой мостовой улицы Вольской. Из этого дортуара несло густой вонью, будто там уже и самый воздух разлагался. Некоторые «палые листья» лежали недвижно, другие еще шевелились, стонали, а кое-кто всем своим видом свидетельствовал, что зеленеет и полон жизни. В самой глубине дортуара маленький мальчик внезапно вскочил со своего соломенного тюфяка с криком:
– Хочу летать, хочу есть, хочу быть немцем!
Соседи тотчас спеленали его, чтобы не бузил. Юный нищий отвел Хаима с братьями в левый ряд, где находилось большинство «зеленых листочков», и по его просьбе им выделили общий тюфяк. Братья уселись, прижавшись к Хаиму и упершись спинами в стену, словно желая поглубже влипнуть в камень. Вокруг тюфяка с новенькими тотчас собралось несколько любопытных, и Хаим нервно прижал к груди торбу с остатками хлеба, на которую были устремлены все взгляды. Ему показалось, что он перехватил заговорщицкие перемигивания между их юным приятелем и одним из самых старших в этой комнате, крайне тощим, но вполне «зеленым» парнем лет как минимум четырнадцати. Взгляд маленького нищего был устремлен на четверку вновь прибывших с печальным смирением. И тут все, кто был в дортуаре, бросились на торбу. Хаим с братьями вынырнул из кучи сражавшихся за добычу, все четверо добрались до выхода из дортуара и очутились наконец в вечном сумраке улицы Вольской.
4
Они обливались потом, тесно прижимаясь друг к дружке, будто хотели сплотиться воедино, чтобы стать устойчивее, не упасть, продвигаясь вперед по бредовым улицам гетто. Все, что они видели здесь, разворачивалось в чуждом мире, не имевшем с их прошлым ничего общего. Выстрелы, гремевшие то там, то здесь, тотчас вызывали непредсказуемые приливы и отливы толпы, между отдельными очередями воцарялось спокойствие, а по улицам не переставали сновать куда-то спешащие грузовики.
Пальба не прекратилась с приходом ночи. Они снова нашли убежище под аркой дома на улице Сенна. Съели несколько кусков сахара и круг сыра, которые Хаим предусмотрительно опустил не в торбу, а в мешочек для молельных принадлежностей. Запах мочи из сиротского дома рассеивался с трудом. Дети были так измучены, что вскоре уснули. И тут Хаим вспомнил, что это вечер шабата, он принялся напевать первые строчки «Приглашения»:
Леха, доди! Леха, доди!
Леха, доди, ликрат кала;
пней шабат некабла.
Выйди, друг мой,
навстречу невесте;
вместе с тобою
мы встретим субботу.
Первые слова еще вылетали из его рта, но скоро песнь застряла у него горле, потом отхлынула обратно в голову, а вот уже и там, под черепом, не осталось ничего – ни слов, ни мелодии, только заполошная ночь в гетто. Он попробовал начать все сначала, но звуки опять утекли внутрь головы, забились там где-то у темени, и Хаим вдруг обнаружил, что все это только сон: грузовики, ущелье, пан Павячек, приход в гетто и прочее. Действительно наступил день шабата, но настоящего: вокруг семейного стола в Подгорце, как в счастливые дни, – с простыней и серебряной стопкой, той знаменитой, что унаследована от самого Хаима бен Яакова, а его старый слоноподобный родитель, тряся гривой неухоженных волос, радостно восклицал, возвышаясь всей своей священной жирной тушей над миром остальных людей:
Леха, доди! Леха, доди!
Леха, доди, ликрат кала!
В этот миг легкий шум пробудил Хаима от его второго сна – грезы о Подгорце, проскользнувшей в видения последней поры, – он увидел смутный силуэт неизвестного еврея, который нагнулся, что-то положил у ног детей и растворился во мраке. Это были две горбухи белого хлеба, в темноте они неясно поблескивали коркой, словно пропуская наружу заключенный в них свет. Хлеб казался теплым, только что из печи. Хаим поднес краюху к ноздрям, вдохнул сладостный и не вполне знакомый запах: так пахнул когда-то довоенный хлеб, а еще это отдавало мечтой из того сна, о котором говорил маленький нищий, утверждавший, что по гетто ходит пророк Илия. Выпустив из рук бесценный дар, он тотчас вскочил, бросился бегом к выходу из арки, какое-то мгновение еще провожал взглядом уже знакомый силуэт, узкоплечий, сутулый, волочащий ноги, то есть похожий на большинство евреев гетто всем, за исключением малости: при ходьбе его на каждом шагу заносило чуть влево. Но тут неизвестный канул в ночь без следа.







