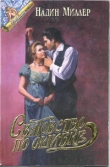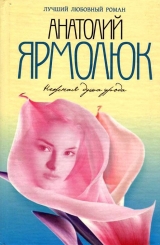
Текст книги "Нежная душа урода"
Автор книги: Анатолий Ярмолюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
И Дыня убежал, а я в большом возбуждении принялся его ждать. Идея поджечь заведение мадам Грязевой мне очень понравилась. Я отчетливо представлял себе, как это будет. Облитое принесенным Дыней керосином здание запылает сразу со всех четырех углов. Уж я-то насчет этого постараюсь – чтобы сразу и с четырех углов… Сам я затаюсь где-нибудь в кустах, и как только моя Феюшка выбежит из пламени, я тут же выскочу из своей засады, схвачу ее за руку и… В суматохе да еще в темноте никто нашего побега и не заметит. А с наступлением рассвета мы с Полюшкой уедем… мы уедем в другой город, на другой край света, в страну веселых фей и эльфов, где нам с Полюшкой только и место… Побыстрей бы приходил Дыня со своим керосином…
Но Дыни все не было и не было. Явился он только с первыми солнечными лучами, и в руках у него была не емкость с керосином, а некий завернутый в грязную дерюгу продолговатый сверток. Было такое впечатление, будто в этом свертке находилось небольшое, вроде как бы детское, человеческое тело. Сердце у меня вдруг зазвенело, оборвалось и умерло…
– Это… – увидев меня среди прочих недоумевающих обитателей ночлежки, сказал Дыня. – Это… погляди… не тебя ли оно касаемо…
Он осторожно положил сверток на пол и слегка приоткрыл краешек дерюги. Чье-то мертвое лицо выглянуло из дерюги и немигающими мертвыми глазами уставилось в черный потолок обиталища.
– А… – сказал я, вглядевшись в это лицо. – А-а-а…
Это было лицо моей Феюшки…
– Вот, – кривясь, сказал Дыня, – нашел… Шел через пустырь, гляжу – лежит нечто, завернутое в эту самую дерюжку. Маленькая женщина… Дюймовочка, фея… Удавилась, я так думаю. Не пожелала принимать позор, ну и того… А затем ее, должно быть, просто выбросили.
– А-а-а… – еще раз сказал я…
Хоронила мою Полюшку огулом вся ночлежка. Схоронили ее тайно, на Втором городском кладбище (у Дыни там был знакомый сторож по прозвищу Кириллыч) под самовольно выросшей рябинкой. Подробностей похорон я описать не могу. Нет, я, конечно, помню, как какие-то тетки из ночлежки укладывали мою Феюшку в дощатый гробик, как этот гробик затем ночью несли на кладбище, как его опускали в ямку и затем засыпали ямку землей, как долго затем над возникшим холмиком выли тетки из ночлежки, как затем в самой ночлежке до самого следующего вечера поминали Полюшку… Я также помню, как сразу же после похорон я беседовал с кладбищенским сторожем Кириллычем: «Гляди, – просил я его, – за могилкой, а я тебе за это буду приплачивать…» Еще я помню, как этот Кириллыч испуганно тряс головой в знак согласия и, кажется, уверял меня, что никакой приплаты ему не надобно, что он будет ухаживать и без того… Все это, повторяю, я помню, однако помню как-то не так, какими-то отдельными, не связанными между собой фрагментами. А так, чтобы целиком, – почему-то нет…
Зато очень отчетливо я помню, что когда я вернулся с кладбища в ночлежку, мне вдруг захотелось помолиться Богу. Помню, я даже нашел в себе силы удивиться такому своему желанию: вот, дескать, никогда меня не тянуло общаться с Богом, за всю свою жизнь я ни разу и не думал серьезно о Боге, а тут на тебе… Я не знал, откуда у меня взялось такое желание, я также не знал, как следует Ему молиться, и, разумеется, я не знал ни единого слова хоть какой-нибудь молитвы. Однако вдруг меня осенила мысль, что вовсе даже не обязательно знать молитвы для того, чтобы общаться с Богом, с Ним можно общаться и не знаючи молитв, обыкновенными словами… И я тут же попытался молиться обыкновенными словами: я хотел попросить у Бога, чтобы он приглядел за моей Полюшкой, чтобы он позволил, если это возможно, хоть иногда приходить Полюшке ко мне – во сне ли, наяву ли… Но – не было у меня даже обыкновенных слов, чтобы обратиться к Богу: все слова отчего-то разлетались, забывались, путались… Помню, что я лишь все время повторял «Боже, Боже», и помимо своей воли плакал…
Так продолжалось почти до утра, а утром я решил, что виной всему – моя неопытность в общении с Богом. Надо бы, подумалось мне, у кого-нибудь спросить, как надобно правильно молиться. Срочно спросить, пока не ушло от меня такое желание – разговаривать с Богом…
И я пошел в церковь, которая, к слову, находилась не так далеко от приютившей меня ночлежки. Пройдя мимо нескольких нищих, закоченевших у входа, я очутился на безлюдном церковном дворе и здесь в нерешительности остановился. Куда мне идти дальше, кого и о чем спрашивать?
– Скажи-ка, убогая, – вернулся я к одной из нищенок, – а этот… батюшка… как бы мне его увидеть?
– А для чего тебе? – спросила нищенка, показавшаяся мне ветхой старухой.
– Надо, – сказал я.
– Ежели насчет столовой, то она, я думаю, откроется часа через два, – сказала нищенка. – А ежели ты насчет зимней одежонки, то – без очереди никак нельзя. Держись за мной, если ты насчет одежонки…
Должно быть, старуха принимала меня за такого же, как сама, церковного попрошайку. Я ничего не сказал, махнул рукой и решил дождаться батюшку самостоятельно. Я отошел в сторону, присел на какой-то обрубок и стал ждать.
Батюшка явился часа через полтора. Высокий, молодой, в рясе и с крестом. Увидев батюшку, нищие восторженно заголосили и стали цепляться за длинные полы его рясы. Батюшка на ходу то ли всех их перекрестил, то ли просто от них отмахнулся, и ступил на церковный двор.
– Это… – сказал я, поднимаясь.
– Если насчет столовой, – на ходу сказал батюшка, – то это – к церковному старосте. А если насчет зимней одежды…
– Нет, – сказал я, – мне другое…
– Позже, потом! – не останавливаясь, сказал батюшка. – Сейчас у меня дела…
И батюшка скрылся в каком-то помещении. Автоматически я пошел туда же, но мне преградила дорогу невесть откуда взявшаяся бойкая старушонка.
– Нельзя тебе сюда, милок, нельзя! – затарахтела она. – Сказано же тебе – попозже! А вообще – приходи в храм на службу. А то на службе вас никого, а как просить – то нате вам пожалуйте! Грех это!..
Я остановился, постоял, затем повернулся и пошел. Не возникло у меня в душе ни злобы, ни упрека как к самому батюшке, так и к этой старушке. И учиться общаться с Богом мне также вдруг расхотелось. Пуста у меня была душа, безмолвна и бесстрастна…
В тот день я долго и бесцельно бродил по городу, и когда чувствовал усталость, то находил укромное место, ложился вниз лицом на мокрую траву и лежал… И – постепенно, исподволь, где-то внутри меня начало складываться понимание того, кто виновен во всех моих нынешних бедах. Виновных получалось много… «Что я им всем сделал плохого? – помимо моей воли зудела внутри меня мысль. – За что же они со мною так?.. Неужто лишь за то, что я – карлик и урод на этом свете? Карлик, проклятый карлик!.. Ах, мамка ты, мамка!.. Полюшка, Феюшка моя! И тебя-то я не уберег!.. Карлик, карлик, карлик!.. Окаянный урод!» «А ты им отомсти! – вдруг выстрелила во мне совершенно неожиданная мысль. – Нет, и впрямь – отомсти этому миру, отомсти этим людям, которые сделали для тебя столько зла! Отомсти за себя, отомсти за свою Феюшку, отомсти за мамку… за всех! Ты знаешь всех своих обидчиков – ну так отомсти им! И только тогда тебе станет легче, ибо только месть приносит облегчение! Отомсти им, и всему этому миру заодно!»
Никогда ранее ко мне не приходили подобные мысли. Никогда ранее мне не хотелось никому мстить. Мне хотелось просто жить, любить мою Феюшку, вместе с ней слушать, как за ночным окном шумит летний дождь или плачет зимняя вьюга… «Так ведь ничего этого у тебя никогда уже не будет! – снова выстрелила во мне нечаянная мысль. – Убили твою Феюшку, разве ты этого не знаешь? Убили! Их много, убийц, и все они тебе известны. Отомсти им. Это будет справедливо!»
И – я покорился терзавшей меня мысли. Да, отныне я буду мстить. Всем, кто загнал меня в угол, из которого нет выхода. Я буду мстить, и с каждым актом мщения мне будет все легче и легче…
Первым делом я решил навестить Семеновну. Я пришел к ней вечером того же дня, когда принял решение мстить. Почему именно с Семеновны я решил начать? Не знаю… С того момента, как я решил мстить, будто чья-то посторонняя и решительная воля руководила всеми моими действиями. Это – первое. И – второе: я решил начать с Семеновны именно потому, чтобы более никогда не бывать там, где еще недавно я был вполне счастлив. Да-да, теперь-то я понимал, что еще недавно я был счастлив: рядом со мною был человек, которого я любил и который любил меня, с которым мы жили вот в этой самой квартирке и ходили вот по этим самым улицам… И я отчетливо осознавал, что более одного раза пройти мимо этой квартирки (не говоря уже о том, чтобы в нее зайти) – это выше моих сил. Но на один, последний, раз меня должно было хватить…
Семеновна оказалась дома. Она была пьяна, однако еще не настолько, чтобы не испугаться моего прихода.
– А… э… – только и вымолвила она, с испугом глядя на меня.
– Здравствуй, Семеновна, – сказал я, становясь у двери так, чтобы старуха не сумела, чего доброго, выскочить в эту дверь.
– Э… это… Витенька… здравствуй, – заискивающе сказала Семеновна. Ах, какие же у нее были испуганные и злые глаза – будто у пойманной в мышеловку крысы!
– Ну, и как же ты живешь, Семеновна? – спросил я.
– Дак это… хорошо живу, Витенька… хорошо! – сказала Семеновна и, вдруг тягуче завыв, упала мне в ноги и заголосила: – Не губи, касатик… слышишь, не губи! Дай мне дожить до моей собственной смерти! Грех меня попутал… польстилась на дармовые деньги! Большие деньги, Витенька, для меня, для старухи… очень большие! Хочешь, я их тебе отдам… все-все отдам? Вот они, денежки эти… для чего они мне, старухе?
И Семеновна полезла за пазуху, вытащила оттуда трясущимися руками завернутый в тряпицу сверток и судорожно начала его разворачивать… Я ухватил Семеновну за шкирку и швырнул ее в угол. Из свертка вылетели бумажки и разлетелись по полу…
– Рассказывай, – велел я.
– Это… да-да! – торопливо закивала Семеновна. – Да-да, конечно… я все расскажу! Все, как оно было! Только ты это… не трожь меня, старуху! Я ведь и мамку твою хорошо знала, и тебя, маленького…
– Рассказывай, – повторил я.
Торопясь, давясь и захлебываясь, Семеновна начала говорить. Она рассказывала о том, как она, журналист Наливкин и пьяница Ванька Кулик погубили мою Феюшку. Вот откуда я так подробно обо всем этом знаю. Я знаю это от Семеновны…
Я слушал, не перебивая и не задавая никаких дополнительных вопросов. Мелкие подробности меня не интересовали. К чему мне теперь они были, мелкие подробности?..
Скоро старуха выдохлась, замолчала и совершенно уже безумными глазами уставилась на меня. Говорят, что всякий человек чувствует приближение своей кончины. Наверно, так оно и есть: Семеновна свою погибель чувствовала…
– Значит, говоришь, хорошо живешь на иудины денежки? – спросил я.
– И-э… гы-ы-ы! – завыла Семеновна в ответ.
Я подошел к старухе, и какое-то время смотрел в ее безумное и умоляющее лицо. Меня начало трясти какой-то непонятной и неуемной дрожью. Схватив валявшуюся рядом длинную тряпку (кажется, это была старухина ночная рубашка), я мигом соорудил из нее жгут и накинул его на старухину шею. Семеновна трепыхалась недолго: может быть, она умерла даже не от удушья, а от испуга…
Не знаю, сколько времени я стоял и смотрел на убитую мною Семеновну. Дрожь, терзавшая меня, постепенно проходила. Я повернулся и, даже не затворив за собою дверь, шагнул в темноту…
Я прошел почти весь город и, сам того не ожидая, очутился на городском кладбище номер два у могилки, где спала моя Феюшка.
– Вот видишь, Полюшка, – сказал я, – как оно все получается? Ты, главное дело, не волнуйся. Ты, миленькая, себе спи. Я ничего… я скоро. Я тут доделаю кое-какие дела – и тоже к тебе. Потому что – кому я нужен на этом свете и что мне тут делать?
Ну а затем настала очередь и Кривобокова. С Кривобоковым было, конечно, посложнее, чем с Семеновной. Он постоянно был на виду, всегда вокруг него хороводились какие-то люди – попробуй-ка подступись! Откуда я знал, что он постоянно на виду? Ну, я малость за ним проследил… Эта-то слежка, к слову, и помогла мне определиться, каким образом я смогу лишить жизни эту тварь. Я решил устроить засаду около дома, где жил Кривобоков. Посижу, думаю, незамеченным, дождусь подходящего момента, и…
Подходящего момента долго ждать не пришлось: все решилось в один вечер. В тот вечер Кривобоков явился домой поздно и – один. Он поднялся к себе на пятый этаж, и вскоре в его окнах вспыхнул свет. Вспыхнул свет – стало быть, он его и включил, и, стало быть, он дома один. Вряд ли кривобоковские домочадцы ожидали бы своего кормильца при выключенном свете…
Один – это было то, что мне надо, а взобраться на балкон пятого этажа для меня было делом пустячным. Для верности я хоронился в кустах еще с час, затем, когда все затихло и улица окончательно обезлюдела, я вышел из своей засады…
Конечно, балконная дверь могла быть наглухо запертой и даже зарешеченной, но это меня почти не волновало. Для меня главное было поскорее очутиться на кривобоковском балконе, а там – по обстоятельствам… На мое счастье балконная дверь оказалась не только не зарешеченной, но даже и не запертой. Я ее неслышно приоткрыл и оказался в самой квартире.
В комнате орал телевизор, сам же Кривобоков сидел в кресле и, похоже, дремал. Рядом валялись брюки, а в них был вдет ремень. Я мигом выдернул этот ремень из брюк и накинул его на шею Кривобокову. Он дернулся, моментально проснулся и уставился на меня непонимающими и полными ужаса глазами…
– Ну? – спросил я.
Он еще раз дернулся, попытался вскочить на ноги, и тогда я потянул концы ремня… Кривобоков забился, захрипел и стал терять сознание. Я ослабил хватку, и Кривобоков пришел в себя и опять попытался вскочить на ноги.
– Сидеть! – сказал я. – Иначе сдохнешь моментально!
– Ты… – захрипел Кривобоков. – Что тебе надо… кто ты такой?
– Неужто не узнаешь? – спросил я и вновь потянул концы ремня. Держа ремень, я постоянно старался находиться сзади Кривобокова, с тем, чтобы он не задел меня рукой или ногой. Тогда – все: от его удара я бы непременно отлетел в сторону, и поди тогда этого Кривобокова достань…
– У… узнаю, – прохрипел Кривобоков. – Пусти, поговорим…
– Не о чем нам говорить, – сказал я. – Впрочем… Скажи слово «Полина» – и, может быть, я тебя отпущу.
– Что? – не понял Кривобоков. – Полина… Полина?
– Неважно! – закричал я, чувствуя, что меня опять начинает колотить знакомая дрожь. – Скажи «Полина»! Это твой единственный шанс! Ну же!
– По… ли… на… – простонал, задыхаясь, Кривобоков. – От… пусти…
Может, я бы его и отпустил, если бы не внезапно посетившая меня мысль. Даже не мысль, нет, а… Я вдруг вспомнил, что ведь и моя Полюшка была удавлена или удавилась сама… сейчас это было неважно, а важно было то, что вот ведь как оно получается – я казню убийц моей Полюшки тем же самым способом, каким они убили и ее… Мне вдруг почудилось, что в этом заключена некая высшая справедливость – и я резко потянул концы ремня в разные стороны. Кривобоков дернулся, забился, захрипел, нелепо замахал руками и затих…
Не знаю, сколько времени я стоял, глядя на мертвого Кривобокова. Должно быть, долго… Дрожь постепенно проходила. Я повернулся, чтобы выйти на балкон и оттуда спуститься обратно на землю, но вдруг подумал, что ведь можно выйти и через дверь. И как только я это подумал, дверь вдруг сама отворилась, и в нее вошла женщина. Кем была эта женщина мертвому Кривобокову, что она могла делать в его квартире в столь поздний час, отчего, в конце концов, сама дверь оказалась незапертой – ничего этого я, разумеется, не знал. Женщина вошла, увидела меня и мертвого Кривобокова в кресле и, вероятно, все поняла. На какое-то время она застыла у двери, затем опрометью бросилась бежать. Признаюсь, первой моей мыслью было догнать эту женщину и сделать с ней то же, что я только что сотворил с Кривобоковым. Я даже сделал шаг к двери, но тут же и остановился. «Опомнись, – подумал я, – что плохого сделала тебе эта женщина? Она видела тебя рядом с убитым Кривобоковым и решила, должно быть, что убийца – ты? Ну, так что же? Ну, увидела, ну, решила… Ну, пускай даже эта женщина на тебя и донесет. Плевать! На все плевать после того, как умерла моя Феюшка!»
Однако уходить из квартиры я все же решил не через дверь, а через балкон. Я для чего-то подошел к двери, запер ее на задвижку, затем вышел на балкон, спустился, остался никем не замеченным, и через какой-то час был уже рядом с могилкой моей Полюшки.
– Вот видишь, Полюшка, – сказал я ей, – уже и второго твоего убийцы нет на свете. Ничего, миленькая, ничего… Еще несколько дней – и я приду к тебе…
Поговорив с Феюшкой, я почувствовал, что смертельно устал и хочу спать. С той поры, как я начал мстить, я ни разу не появлялся в приютившей меня ночлежке. Я не хотел никого видеть, я не желал ничьих сочувственных взглядов и намекающих вопросов… Я приспособился спать на деревьях. Взобраться на дерево было для меня делом пустячным. Я взбирался, привязывал себя ремнем, чтобы во сне не свалиться, и засыпал до утра. На дереве мне было хорошо, тихо и покойно…
А затем дело дошло и до мадам Грязевой, то бишь до Грязи. Встретиться с Грязью лицом к лицу было, конечно, делом немыслимым. Два или три дня, следя издали за Грязью, я размышлял, как мне быть, и вскоре меня осенило… «Да на кой ляд, – подумал я, – мне и встречаться с этой тварью? Я могу убить ее и на расстоянии. Например, камнем. Я здорово метаю камни – сильно и метко. Попасть ночью с двадцати метров камнем в голову – дело для меня плевое…»
Так я и сделал. В тот день я загодя подобрал подходящий булыжник и, незамеченный, пристроился в густом кустарнике напротив входа в подъезд, где жила Грязь. Пристроился – и стал ждать. Хорошо знакомая нервная дрожь на этот раз меня почти не колотила. Помню, что я даже сам себе удивлялся – насколько я был спокоен и бесстрастен, ожидая прибытия Грязи. Будто это вовсе был не я, а кто-то иной в моем несуразном обличье…
Грязь прибыла поздно, ближе, наверно, к полуночи. Подъехала машина, из нее вначале вышли два или три ее телохранителя. Вышли, осмотрели окрестности, обнюхали воздух… Затем из машины вышла и сама Грязь. Кажется, она была изрядно пьяна. Пошатываясь, Грязь медленно пошла к своему подъезду. Когда же она оказалась как раз напротив меня, то (надо же такому случиться!) вдруг остановилась и, насколько я мог судить в темноте, с ужасом на лице повернулась в мою сторону. То ли она меня увидела, то ли просто почуяла свою скорую смерть, я не знаю, да и не до размышлений мне было. Я просто встал и метнул свой камень. Мадам Грязева охнула и упала лицом вниз…
Конечно, поднялись шум, гам, суматоха и неразбериха, пользуясь которыми, я незаметно вышел из своей засады, и вскоре я был на кладбище.
– Вот видишь, Феюшка, – сказал я, – уже и третьего твоего убийцы нет на свете…
Не помню, сколько времени я сидел в ту ночь у могилки моей Полюшки – час, а может, два или три… Когда я уходил, восточный краешек неба уже начинал светлеть. Я намеревался дойти до городского сада, отыскать там подходящее дерево, взобраться на него и пару-тройку часов вздремнуть. Конечно, я бы так и сделал, если бы не случайная встреча еще с одним убийцей моей Феюшки Ванькой Куликом. Разумеется, этого Ваньку я также знал в лицо. Близкого знакомства у нас с ним никогда не было, но он был наш, зоновский, а зоновские все друг дружку знают.
Я сказал, что встретил этого ублюдка случайно. Да, конечно, наша встреча была случайной, и вместе с тем мне до сих пор кажется, что в этой встрече присутствовала какая-то предопределенность: будто кто-то всемогущий и неведомый взял нас с Ванькой Куликом за руки и одновременно привел на пустынную предутреннюю улицу к пивной «Чуркин и компания»… Не знаю, отчего во мне возникло такое чувство, но оно, это чувство, не покидает меня и до сих пор…
Ванька Кулик был по своему обыкновению пьян и, мне кажется, шествовал сам не зная куда. Я схоронился за углом «Чуркина и компании», какое-то время наблюдал за Куликом, и когда он со мной поравнялся, я шагнул ему навстречу…
– Ну здравствуй, Ваня, – сказал я ему.
Ручаюсь, что Ванька Кулик не ожидал кого-либо встретить, и уж тем более, он не ожидал встретить меня. Он резко остановился, отшатнулся, шлепнулся на зад и в испуге замычал. Кто его знает, может, он принял меня от неожиданности и спьяну за черта. В темноте меня запросто можно принять и за черта – об этом мне говорили неоднократно…
– Как у тебя, Ваня, дела? – спросил я у трясущегося и мычащего пьяницы. – Куда и откуда ты путешествуешь в такой час? Да ты никак пьян, Ваня? А коль пьян, то, стало быть, и богат? Ты богат, Ваня! И на чем же ты разбогател? Ну, на чем ты разбогател, Ваня?
Напрасно я, конечно, обращался к этому ублюдку, и уж тем более напрасно я говорил с ним столь долго, потому что от моих речей Ванька Кулик слегка протрезвел, пришел в себя и довольно-таки резво поднялся на ноги.
– Ты-ы-ы! – завизжал он, отбегая в сторону, – Слышь, ты… это!
И продолжая визжать, Ванька откуда-то из-под одежды вытащил остро заточенный металлический прут – по-нашему, по-зоновски, пиковину. С пиковиной шутки плохи, это я знал. На нашей Зоне пиковина пользовалась особым почтением… Вот потому-то, не давая Ваньке Кулику, да и себе тоже, опомниться, я стремительно швырнул свое тело вперед, мигом оказался рядом с Ванькой и двинул его кулаком в пах. Одного удара оказалось достаточно: Ванька Кулик взвыл, уронил пиковину и согнулся. Одной рукой я ухватил выпавшую пиковину, а другой – двинул Ваньку по челюсти. Ванька еще раз взвыл и упал на спину. Я мигом его оседлал и нацелился прямо ему в переносицу.
– Ну? – сказал я. – И что же мы теперь будем делать, Ваня?
– Э-э… ы-ы-ы!.. – ответил мне Ванька Кулик.
– Жить-то, небось, хочешь, мразь? – спросил я.
– Так ведь это… кто же не хочет? – впервые осмысленно сказал Ванька Кулик. – Жизнь-то ведь это… у всех одна.
И опять-таки – напрасно я пустился с этой сволочью в переговоры. Надо бы мне было делать свое дело сразу – безо всяких разговоров. А так… Я вдруг почувствовал огромную, просто-таки беспредельно огромную усталость: будто тяжкая каменная гора на меня навалилась. И еще – я вдруг почувствовал жалость к этому ублюдку Ваньке Кулику…
– Значит, говоришь, одна у тебя жизнь? – устало спросил я. – А ты думаешь, что у других – по две жизни?
– Так это… у всех по одной, – сказал Ванька и задергался, пытаясь опрокинуть меня.
– Лежать! – сказал я и нацелился пиковиной прямо в Ванькин глаз. – Лежать, мразь, иначе… Мразь ты, понял? Понял, спрашиваю?
– Э… понял… – испуганно ответил Ванька Кулик.
– Ну, а коль понял, – сказал я, – то и живи с таким понятием до конца своей поганой жизни! А чтобы ты этого случаем не забыл…
И острым концом пиковины я мигом начертил на Ванькином лбу глубокую литеру «м»: мразь, стало быть. Затем я встал и не слушая Ванькиного воя, пошел, бессмысленно держа в руке пиковину, куда глаза глядят. Худо мне было, ох и худо…
Не спрашивайте меня о днях, часах, минутах и тому подобных отрезках времени. Я до сих пор не могу вспомнить, день, два или три прошло с тех пор, как я заклеймил Ваньку Кулика и совершил еще одно убийство – священника отца Никанора. Я не хотел убивать этого человека, я вообще больше никого не хотел убивать. Но я – убил, и мне нечего сказать в свое оправдание…
Расправившись с Ванькой Куликом, я долго и бесцельно бродил по городу. Настало утро, я купил большую теплую ковригу хлеба, сунул ее за пазуху и отправился в городской сад. В самом отдаленном углу сада росла раскидистая, с густой кроной липа, на ветвях которой я провел уже несколько ночей. Хорошая это была липа, добрая: за день она впитывала в себя так много солнца, что даже утренняя прохлада, и та не могла до конца остудить ее тело. Ее листва надежно укрывала меня от всего остального мира. Если мне сейчас чего-то в том, потерянном для меня мире, и жаль – так это именно этой липы, если мне сейчас чего-то и не хватает, так это ее родного, теплого до самого утра, тела… Ну и вот: взобравшись на мою липу, я вытащил из-за пазухи ковригу и, отламывая от нее кусочки, стал машинально есть. Мне ничего больше не хотелось в этом мире, внутри меня больше не возникало никаких чувств. Мне было все едино – продолжать ли жить, умереть ли сию минуту… Прижавшись к теплому телу липы, я невольно слушал отдаленные звуки окружающего меня мира, до которого мне не было абсолютно никакого дела…
Сам того не осознавая, я заснул. Мне приснился сои. Это было тем более удивительно, что обычно сны мне снились весьма редко. Мне приснилась моя покойная мамка. Во сне она была молода и удивительно красива. Мамка стояла под липой, на которой я спал, смотрела на меня и светло улыбалась. Как она обнаружила меня в этой густой листве, кто ей сказал, что я здесь? Ведь даже перелетные птахи – и те меня не всегда замечали на этом дереве… «Мамка, – сказал я и заплакал, – вот видишь, как оно все несуразно получается…» «Тебе надо покаяться, сынок!» – сказала мамка. «Покаяться… – горько всхлипнул я. – Кто же их отпустит, мои грехи? Ведь грехи-то у меня какие, мамка! Несоразмерные грехи!» «Для НЕГО, – с ударением сказала мамка, – не бывает несоразмерных грехов. Ты покайся – ОН и простит». «ОН… – безнадежно вздохнул я. – Вначале ОН пускает меня на свет таким… таким… а как мне жить таким, не совершая греха?.. а затем ОН ждет от меня покаяния. Как же так-то, мамка?» «Да ведь главное-то, сыночек, не это, – сказала мамка. – Главное – это твоя душа. А она у тебя нежная, будто цветочек полевой…» «Мамка, – сказал я и снова заплакал, – мамка…» «Ты покайся, сынок», – сказала мамка… «Хорошо, мамка, – сказал я, – я покаюсь…»
С тем я и проснулся. Я вытер рукой свои мокрые глаза, засунул остатки краюхи поглубже за пазуху, слез с дерева и пошел каяться. Наверно, в этом городе имеется много храмов, но мне был известен всего лишь один – тот самый, в котором я был несколько дней назад и откуда меня по сути выгнали. И я пошел каяться в этот храм.
День клонился к вечеру. У входа на церковный двор сидели несколько человек нищих. Увидев меня, они недовольно заерзали и зашипели: должно быть, подумали, что я сяду рядом с ними, – а для чего им лишний конкурент? Я прошел мимо этих шипящих, оборванных калек и ступил на церковный двор. Здесь было совершенно пусто, и я направился в сторону того самого домика, куда прошлый раз ушел батюшка и в который меня так и не пропустила подвижная старушонка с колючими глазами.
Едва только я ступил на крыльцо, эта самая старушонка возникла передо мною вновь. Помню, я даже удивился столь неожиданному ее возникновению: будто из-под земли выросла бабуля…
– И куда это ты, милок, навострился? – как и в прошлый раз, затарахтела она. – Куда, спрашиваю, ты идешь? Если насчет обеда, то сегодня уже поздно, уже все съедено, да. А если ты насчет одежки к зиме, то…
– Мне нужно к батюшке, – перебил я старушонку.
– К батюшке! – насмешливо сказала бабуля. – А для чего тебе к батюшке?
– Стало быть, надо, – сказал я и вдруг почувствовал, что, наверно, не так уж мне к батюшке и надо, что я не прочь и уйти. И я бы ушел, если бы не вдруг припомнившийся мне сон. «Ты покайся, сынок», – сказала мне мамка… – Надо мне, поняла?
– Надо ему! – осуждающе сказала старуха. – Всем вам надо… покою от вас никакого! Нету, допустим, батюшки в храме… завтра будет! Вот завтра и приходи…
Не знаю, как бы я поступил в следующий момент: наверно бы все же ушел. Но, видимо, не суждено мне было в тот день уйти просто так, без дополнительного греха на мою, и без того пропащую, душу. Вероятно, услышав нашу перебранку, на крыльцо вышел батюшка собственной персоной.
– Что такое? – бегло спросил батюшка, глядя поверх меня.
– А говорила, что его нет… – сказал я, обращаясь к старухе.
– Иди отсюдова, милок, иди, – затараторила старуха и, сбежав с крыльца, принялась подталкивать меня в спину. – Ходят тут всякие… завтра с утра будет служба, вот и приходи. Завтра, завтра…
– Да ты, Людмила, погоди, – вдруг сказал батюшка. – Может, у него и впрямь какое-нибудь серьезное дело. Помнится, – обратился он ко мне, – я тебя здесь уже видел…
– Батюшка! – всплеснула руками старуха. – Да какие у них могут быть серьезные дела! Известное дело – убогий! Вот и все его дела…
– Да ты погоди, Людмила, – повторил батюшка, и вновь обратился ко мне: – Ну, так чего же тебе надо?
– Пускай она уйдет, – сказал я, указывая на старуху.
– Уйди, Людмила, – сказал батюшка, но вероятно из-за того, что старуха протестующе замахала руками, батюшка тут же переменил свое решение и сказал мне: – Ладно, пройдем со мной в помещение.
Помещение это было, как я понимаю, вроде как церковным складом. На столах охапками лежали свечи, рядом со свечами – множество белых нательных крестиков, рядом с крестиками – какие-то книги…
– Ну, так что же тебе надо? – спросил батюшка.
– Я хочу исповедаться, – сказал я.
– Вот как? – спросил батюшка и впервые взглянул на меня.
– Да, – сказал я.
– Дело, конечно, доброе, – сказал батюшка. – В особенности, если добровольно и не по принуждению. Что ж… Завтра будет служба, вот и приходи. Побудешь, послушаешь… Ну, а затем состоится и исповедь с причастием.
– Завтра? – спросил я.
– Я же внятно сказал – завтра! – нетерпеливо произнес батюшка. – Именно завтра.
– Мне надо – сегодня, – сказал я. – Сейчас.
Батюшка снова посмотрел на меня, и на этот раз он смотрел на меня долго и внимательно.
– Отчего же именно сегодня? – спросил он.
Я ничего ему не ответил. Ну что я ему мог сказать? Рассказать о своем сегодняшнем сне? О совершенных мною убийствах? О мертвой Феюшке? О жизни моей нескладной и несуразной? Долго пришлось бы рассказывать, да и – как об этом расскажешь? Хотя, наверно, на исповеди так или иначе об этом рассказывать пришлось бы, но то – исповедь…
– Ну, так отчего такая спешка? – переспросил батюшка. – Грехи, должно быть, замучили?
Я опять ничего не ответил и лишь молча передернул плечами.
– Оно и хорошо, если замучили, – сказал батюшка. – Проведи ночь в размышлении и молитве и завтра – приходи. Завтра, понимаешь?
– Почему? – спросил я. – Почему – завтра?
– Потому, – нетерпеливо сказал батюшка, – что есть порядок. Раз и навсегда заведенный порядок!
– То есть, – сказал я, – сегодня Бога нет, а завтра – он будет?
– Бог есть всегда! – резко сказал батюшка.
– Тогда почему же – завтра? – спросил я.
– Знаешь, что? – сердито сказал батюшка. – Иди-ка ты, убогий, отсюда восвояси! И – приходи завтра. В храм. На утреннюю службу. Понял, наконец?
– Завтра – это слишком далеко, – сказал я. – У меня нет времени, чтобы завтра… Завтра будет обрыв. Шаг в стремнину…