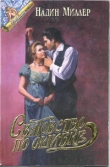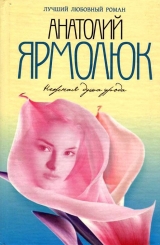
Текст книги "Нежная душа урода"
Автор книги: Анатолий Ярмолюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
8
Мне неохота объяснять, что я чувствовал, прочитав эту прощальную записку. Да и – ничего эдакого я и не чувствовал. У меня было ощущение, будто из моего дома, где я жил много лет, где ко всему привык и притерпелся, вдруг неожиданно кто-то вынес висевшую на стене картину. Непорядок, неуют, какая-то внутренняя расхристанность – и не потому, что мне так уж жаль эту картину, а просто – была картина, и вдруг ее не стало. Из-за этого и все остальные вещи кажутся не на своем месте, и сквозняки откуда-то задули, и дверь заскрипела противно, и в душе образовался некий изъян… А так – ничего, можно жить и без картины. Или повесить на место исчезнувшей другую: свыкнется, стерпится, слюбится… Может, я просто не умею любить? Говорят, что есть такая категория человечества, и вполне возможно, что я из их числа. Ну что же: каждому – свое. Во всяком случае, мне совсем не хочется сломя голову мчаться на вокзал, чтобы заметить в толпе знакомый силуэт и крикнуть: вернись, дескать, я все прощу! Что я ей прощу? В чем она передо мною провинилась – моя бывшая Мулатка? Ладно. Берем себя в руки, обедаем и идем допрашивать карлика-убийцу. Жизнь продолжается. Вот только окаянное сердце – отчего же оно так назойливо и тревожаще ноет? Все ноет и ноет…
«Расшифровка магнитофонной записи.
– Итак, Кольцов Виктор Васильевич, 7 марта 19… года рождения, проживающий по улице Водоемная, 18, квартира 8. Вчера, насколько мне помнится, вы, в общем и целом, признали, что совершили шесть убийств и одно тяжкое телесное повреждение в форме неизгладимого обезображивания лица. Опять-таки насколько мне помнится, обещали во всех подробностях рассказать, как именно, с какой целью, с чьей помощью и так далее вы все это совершили. Я правильно излагаю?
– Скажите, вы – мой следователь?
– Нет. Я – сотрудник уголовного розыска. В мои обязанности, если вас это интересует, входит установить преступника, выследить и задержать его, добиться первоначальных признаний и затем уже передать дело следователю.
– Вот оно что… Что ж – спасибо.
– Это за что же?
– За то, что пока не бьете.
– Почему вы решили, что я вас буду бить?
– В камере просветили… Да и без этого знал.
– Что, уже попадали в руки милиции?
– Зачем же? Земля слухом полнится.
– Я никогда и никого не бью. В камере вам должны были об этом сказать. Там, я думаю, есть несколько личностей, которые меня знают.
– Ну, стало быть, следователь будет бить…
– И следователь не будет. Тем более что это, скорее всего, будет женщина. У нас почти все следователи – женщины. А вы что же, так боитесь побоев?
– Боюсь.
– Почему же?
– Потому, что часто били… Ладно… Спрашивайте.
– То есть вы готовы давать показания?
– Да. Спрашивайте. Или мне начать самому?
– Вчера я вам говорил, повторю и сегодня: может, все-таки написать явку с повинной?
– Явка с повинной – это что?
– Ну, берете бумагу, садитесь и пишете обо всем, что сочтете нужным. Я читаю написанное, задаю уточняющие вопросы, вы на них так же искренне отвечаете – вот, пожалуй, и все. Дальше следствие, суд и так далее.
– Следствие, суд… Хорошо, я попробую явку с повинной. Хотя писать я умею не так чтобы…
– Ничего. Как сумеете. Главное – как можно точнее и честнее. От этого зависит вся ваша дальнейшая судьба.
– И сколько у меня есть времени, чтобы все это написать?
– Сколько понадобится, столько и пишите. Вот ручка и бумага, сейчас вас отведут в камеру – и пишите. Когда закончите, позовете меня. Моя фамилия Якименко.
– Я знаю, что Якименко. У меня просьба…
– Что такое?
– Если можно, поместите меня в отдельную камеру. В общей не слишком-то и напишешь, да и вообще…
– Хорошо, я распоряжусь. Ну что, вызывать конвой? Запомните – как можно точнее и честнее».
… – Что-то ты, мил друг, неважно выглядишь, – посочувствовал Батя, когда я по его вызову явился в начальничий кабинет. – Будто с похмелья…
– Ага, с похмелья, – сказал я. – Каждодневно пьян от жизни и любви.
– Вот-вот, – сказал Батя. – Когда ты становишься ехидным, это верный признак того, что с тобой что-то не в порядке. Умаялся?
– Сердце отчего-то болит. И вообще…
– Под этим «вообще», насколько я уразумел, ты подразумеваешь свою Мулатку? Вернее – ее отъезд? Прости, конечно, за бестактность, но поскольку мы с тобой друзья, то… М-да…
– Ты-то откуда знаешь о ее отъезде? – с искренним изумлением спросил я. – Ведь только сегодня…
– Ха! – сказал Батя. – Да завтра об этом будет знать весь город! Еще и в газетах пропечатают: от сыщика Якименко, того самого, который арестовал карлика-убийцу, ушла жена. Ну, или невеста, какая в принципе разница? На чем не сошлись характерами-то?
– На карлике…
– Эвона! На карлике, стало быть… Да ей-то что за дело? Хотя…
– Вот именно – хотя. И – хватит об этом, прошу тебя. Давай лучше о деле.
– О деле так о деле, – с готовностью согласился Батя. – Ну, и как он там, этот твой карлик?
– Пишет явку с повинной.
– Думаешь, напишет все, как надо?
– Не знаю. Сломленный он какой-то. Угнетенный. Такие обычно пишут…
– Ну-ну… Так там, – Батя ткнул пальцем в потолок, – и скажу. А то просто одолели с этим карликом. Убогого, думаешь, можно выпускать?
– Думаю, что да. Разумеется, после соответствующей профилактической беседы.
– Ну, уж это само собой. А ты шел бы пока домой, а? А то на тебя глядеть больно. Отдохни, выспись, то-се… Только чур не напиваться. Напьемся после, когда отделаемся от этого карлика. Как закатимся куда-нибудь!..
Придя домой, я упал плашмя на диван и почти сразу же заснул. Мне приснился арестованный мною карлик. Будто бы он пришел ко мне домой, встал напротив меня, лежащего на диване, и принялся молча смотреть: глаза у него были огромные, бездонные и говорящие… «Зачем же ты это сделал, Витька? – спросил я его. – Зачем же ты их всех убил-то? Чего же ты этим добился, а? Ах, уродец ты уродец!..» Карлик ничего не отвечал, и я вдруг почувствовал себя былинкой, одной из миллиардов былинок на лугу, былинкой, которую вот-вот должна скосить беспощадная, свистящая где-то неподалеку железная коса. Железный посвист все ближе и ближе… я изо всех сил стараюсь прижаться к земле, схорониться за другие былинки, но вдруг острая, непереносимая боль, будто молния поперек груди… я никну, я падаю в разом опрокинутое небо… я просыпаюсь. «Сердце, черт!.. – соображаю я. – Да что же это такое творится с моим сердцем? Ведь никогда до этого…»
На часах – половина девятого вечера, за окнами – темень и стучащий в стекло осенний дождь. Хотя погодите-ка: кажется, это не дождь. Сдается, это какой-то иной стук. С работы пришли, что ли? А отчего же тогда стучат в окно, а не в дверь? Или, скажем, отчего же тогда не звонят по телефону? Нет, это не с работы. Ночная птица, что ли, бьется сослепу в стекло? Тук-тук-тук, тук-тук-тук…
– Какого дьявола? – пробормотал я, подходя к окну и стараясь вглядеться в темень. Нет, это не птица. Кажется, это какой-то человек. Кажется, это женщина. «Моя Мулатка вернулась, что ли?» – невольно подумал я.
– Подойдите к двери! – проорал я сквозь стекло. – Я сейчас открою!
Это была не моя Мулатка и не коллеги с работы. К моему немалому удивлению, это была Ксения, иначе говоря, Грушина Ксения Юрьевна, та самая, которую я допрашивал утром в качестве свидетеля. Заведующая городской библиотекой, которую я за время нашего с ней общения мысленно успел прозвать Осенней Женщиной. Вот те на! Откуда и для чего? Обычно никогда ранее свидетели ко мне на дом не приходили. Бандиты, бывало, приходили, а вот свидетели – никогда. Или она пришла не как свидетель, а по какой-то иной надобности? Тогда – по какой?
– Скорее заходите! – сказал я. – Дождь, холодно, а вы – в платочке…
Она была в легком сиреневом плаще и платочке на голове: и тот, и другой, как мне мимолетом показалось, удивительно ей шли.
– Да, в платочке, – смущенно сказала она. – Дождь застал меня на полпути, и пока я нашла ваш дом, успела промокнуть. Вообще-то я собиралась позвонить. Но мне сказали, что ваш номер телефона вроде как засекречен… Я, наверно, некстати… простите.
– Да, наших номеров телефонов посторонним не дают… на то имеется специальная инструкция, – машинально сказал я. – Да входите же наконец! Раздевайтесь… это все скоро высохнет. Проходите. Э, да вы, сдается, совсем озябли!
– Немножко… На улице так холодно…
– Чай? Кофе? Кажется, где-то было немного вина…
– Спасибо. Если можно, чай.
Чайник вскипел почти моментально, я заварил две чашки, одну дал моей неожиданной гостье, другую взял себе и сел напротив нее. Ее влажные русые волосы падали на лоб, было похоже, что это ей мешает, и мне вдруг мучительно захотелось дотронуться до этой ее непокорной пряди, пригладить ее, а может, даже и поцеловать. Прямо какое-то наваждение, честное слово! То ли она угадала это мое невольное желание, то ли это получилось чисто интуитивно – но моя вечерняя гостья поставила чашку, сама пригладила прядь и, кажется, даже попыталась от меня отодвинуться.
– М-да… – сказал я слегка смущенно. – Ну, так чем же я обязан визиту, Ксения Юрьевна?
– Мне кажется, – тут же ответила она, – что вы взяли неправильный тон. Это, разумеется, не упрек – просто ваш тон меня смущает, и оттого у меня разбегаются мысли, и я не знаю, что говорить. И, главное, я не знаю, как мне говорить…
– Простите, – сказал я. – Это все из-за вашего локона. Меня он отчего-то смущает…
– Я это поняла, – сказала она. – Вернее, почувствовала.
– В таком случае, – сказал я, – говорите сами. Что хотите и каким угодно тоном. Иначе говоря, берите инициативу в свои руки.
– Спасибо за доверие, – улыбнулась она. – Как вы себя чувствуете?
– А! – махнул я рукой и неожиданно для самого себя добавил: – Сны какие-то дурацкие снятся… Постоянно один и тот же сон – будто я трава и меня вот-вот должны скосить. Или уже скосили, не знаю… А сегодня, помимо всего, приснился еще и карлик… тот самый. Пришел, встал и молчит…
– Вам его жаль?
– Карлика?
– Ну да.
– Не знаю…
Помолчали, прислушиваясь к унылому шороху дождя за окном.
– Никак не могу сказать о том, для чего я к вам пришла, – сказала наконец моя гостья. – Не знаю, с чего начать…
– Тогда начните с начала, – посоветовал я, и мы оба засмеялись, вспомнив, что сегодня утром я уже давал точно такой же совет.
– Да, – сказала она теми же утренними словами, – конечно же, с начала… именно так, с начала. Хотя, я думаю, вы начнете считать меня исключительно испорченной женщиной…
– Опять? – воскликнул я в отчаяньи, и мы снова дружно засмеялись. Нет, все-таки легко было общаться с этой женщиной, легко и приятно, несмотря на все ее причуды.
– Сегодня, ближе к вечеру, – сказала моя гостья, – я по пути домой зашла в магазин и вдруг услышала там разговор, касавшийся вас. В магазине говорили, что у знаменитого следователя Якименко, который арестовал карлика-маньяка, заболело сердце, и еще от него ушла жена. Навсегда ушла… «Он не следователь, а сыщик!» – неожиданно для себя вмешалась я в разговор, и все посмотрели на меня странно. Я вышла из магазина и вдруг поймала себя на мысли, что мне хочется вас увидеть – прямо сейчас, немедленно, несмотря на вечер и дождь. Вы спросите – для чего? Не знаю. Может, чтобы утешить. Может, чтобы просто увидеть. Потом я подумала, что увидеть – это, наверно, было бы чересчур, достаточно позвонить. Но мне не дали номера… Вот.
– И вы пришли ко мне, несмотря на позднее время и дождь…
– Я же говорила, что вы начнете думать обо мне плохо…
– О, Господи!..
– Все-все, больше не буду! В самом деле, что тут плохого, когда человек приходит к другому человеку? Приходит безо всяких дурных намерений и задней мысли, а просто лишь затем, чтобы поддержать и утешить. Ведь правда же, здесь нет ничего дурного? Ну, почему вы молчите?
– Я не молчу, я вспоминаю. Кажется, до сих пор никто ко мне не приходил, чтобы просто поддержать и утешить. Приходят для того, чтобы позвать меня среди ночи на работу, чтобы выпить, иногда приходят, верней, пытаются прийти преступники для переговоров либо чтобы запугать меня или купить… а вот так, как вы, – нет, не припомню. Если ваши слова искренни, то – спасибо.
– Знаете, а вы совсем не похожи на сыщика. По крайней мере, в моем представлении. Ой, потух свет! Надо же!
– Да, потух. Думается, это надолго. Как вы сказали – не похож на сыщика? Во-первых, вы это мне уже говорили – сегодня утром. А во-вторых, это потому, что сейчас я никакой не сыщик.
– Да-да. Сейчас вы просто усталый человек, которого мне хочется погладить по голове.
– Вы и это мне уже говорили. Сегодня утром по телефону.
– Я помню…
Напоенная дождем и ночным ветром тьма царила над миром. И в этой тьме я и моя собеседница были всего лишь голосами – стремящимися навстречу друг другу.
– Вы знаете, у меня есть давняя странная привычка – давать прозвища всем моим собеседникам, случайным и неслучайным знакомым. Хотите знать, какое прозвище я вам дал сегодня?
– Конечно же хочу! Очень хочу!
– Осенняя Женщина.
– Осенняя Женщина?
– Вам не нравится?
– Что вы! Очень нравится! Осенняя Женщина… это удивительно! Но все же – почему именно так?
– Не знаю. Может, из-за вашего имени. Отчего-то оно мне всегда напоминало осень. Ксения… Светлое и немножко грустное имя. Как осень. А может, из-за чего-то другого… из-за цвета волос, из-за глаз… Или из-за того, что мы познакомились накануне осени… Не знаю.
– Осенняя Женщина… Как красиво и таинственно. Я запомню. Спасибо.
– За что же?
– За прозвище, разумеется.
Мы опять замолчали, и молчание это вовсе не тяготило ни меня, ни, по-моему, мою позднюю гостью.
– Скажите, – нарушила молчание гостья, – а ваша жена…
– Невеста, – прервал я. – Хотя в моем возрасте довольно-таки странно употреблять это слово…
– Пускай так – невеста. Почему она ушла? Конечно, если вы сочтете мой вопрос бестактным, то, во-первых, заранее простите, а во-вторых, можете не отвечать. Я, разумеется, не обижусь.
– Как по-вашему, почему люди уходят друг от друга?
– Да-да… Скажите, вам больно из-за того, что она ушла?
– Сегодня я уже пытался найти ответ на этот вопрос – для самого себя. Знаете, не больно. Теперь уж мне впору опасаться за то, что вы сочтете меня безнравственным человеком, но – не больно. Какое-то горькое облегчение в душе – и больше ничего.
– Горькое облегчение… Это хорошо сказано – горькое облегчение…
– Как чувствую, так и сказал.
– Да-да… Я еще хотела спросить о вашем сердце…
– А что – мое сердце? Сердце как сердце – пройдет.
– Ну разумеется, пройдет! Покой, отсутствие отрицательных эмоций, тщательный уход – и пройдет.
– Покой, отсутствие отрицательных эмоций… Ох, Ксюшенька…
– Вы впервые назвали меня по имени. Не по имени-отчеству, а просто по имени…
– Разве?
– Да-да. И мне это очень приятно. Как вы выразились, когда меня допрашивали, – будто цветком по душе. Ну, я пойду. Времени уже, наверно, часов десять.
– Половина одиннадцатого, – сказал я, вглядываясь в свой светящийся циферблат.
– Ну, вот видите. Пока дойду, будет уже и половина двенадцатого…
– Вас кто-то дома ждет?
– Нет, но…
– В таком случае – одно из двух: либо я провожаю вас до самого жилища, либо…
– Либо – что?
– У меня – две изолированные комнаты. Одна – в вашем распоряжении до самого утра. Там имеется прекрасный диван, так что…
– Я просто не знаю… как-то неловко, и вообще…
– Ручаюсь, – сказал я, – что никакого «вообще» не будет. Тем более что на дверях – внушительный запор…
– Ну, коли запор… – сказала моя гостья и рассмеялась, а вслед за ней рассмеялся и я сам.
– Знаете, – сказал я, смеясь, – оказывается, вы – обыкновенная женщина. Сказать честно, меня это вдохновляет.
– Вдохновляет – на что? – по-прежнему смеясь, спросила Ксения.
– Ну, например, на то, чтобы накормить вас ужином. Было бы свинством с моей стороны отправить вас в комнату «с запором» на голодный желудок.
– Это уж точно… то есть я не насчет свинства, а насчет моего голодного желудка.
– В таком случае – немного терпения. Где-то тут была свеча… сейчас мы ее зажжем и пойдем на кухню. Там имеется холодильник и, сдается мне, что-то в холодильнике. Заранее прошу прощения за скудность меню.
– Ну что вы…
– Подержите, пожалуйста, свечу. Ну-ка, что у нас там имеется? Ага! Еще раз ага, и еще раз… И, кроме того, полбутылки вина. Как вы относитесь к полубутылке вина?
– В общем, положительно…
– Ну, тогда замечательно! У нас будет ужин при свечах.
– При одной свече.
– При одной свече. Прошу. Еще раз не обессудьте за убогость ассортимента.
Водрузив свечу посреди стола, мы сели ужинать. Мы ели и пили вино, старательно не глядя друг на друга. Горела свеча, черный ночной ветер срывал с невидимых деревьев листву, листва подлетала к окну и мягко билась о стекла, будто это были разлапистые бабочки, примчавшиеся из некоего мира на одинокий огонек нашей свечи…
– Спасибо, – сказала Ксения. – Будьте добры, проводите меня до той самой комнаты с запором на дверях… Спасибо. Спокойной ночи.
– И вам тоже, – сказал я. – Во сколько вас завтра разбудить?
– В семь.
– Хорошо. Я постучу условленным стуком. Скажем, таким: чижик-пыжик, где ты был…
– Я буду ждать вашего стука. Буду спать – и ждать…
– Возьмите с собой свечу и спички. Мало ли что…
– А вы как же?
– А я – как летучая мышь…
– Спокойной ночи, летучая мышь.
– Спокойной ночи, Осенняя Женщина.
Судя по звуку, она все-таки заперла дверь. Усмехнувшись, я пробрался к дивану, разделся, лег и почти моментально заснул. Удивительное дело, но на этот раз мне не снились ставшие уже привычными сны, и оттого, вероятно, и сердце мое меня не беспокоило. Несколько раз за ночь я все же просыпался, но не от боли, а из-за того, что каждый раз мне чудилось чье-то дыхание. Я удивленно поднимал голову, ошалело ею встряхивал и тут же припоминал, что в соседней комнате спит моя неожиданная гостья – Осенняя Женщина, которую на самом деле звать Ксенией. Разумеется, сквозь затворенную дверь я не мог ничего слышать, но вместе с тем каким-то непостижимым образом я все же слышал – и это вселяло в душу доселе неведомое ощущение покоя и какой-то логической завершенности мироздания. «Вот, – думал я, – в соседней комнате спит удивительная женщина по имени Ксения, а по прозвищу Осенняя Женщина. А на дворе – ночь, и на часах – всего только половина четвертого утра…»
9
«Явка с повинной.
Зря я, наверно, согласился писать эту дурацкую явку с повинной. Писатель из меня… Грамоту-то я разумею не так чтобы, потому что в школу я не ходил: читать-писать меня выучила покойная мамка. Но, с другой стороны, коль согласился, то надобно писать, иначе будут бить. Что с того, что у этого Якименки вроде как доброе лицо и он говорил, что никогда никого не бьет? Сказать-то можно что хочешь, а только меня за мою жизнь били всякие: и с добрыми лицами, и с недобрыми…
Ах, мамка ты, мамка! И зачем только ты произвела меня на белый свет – такого-то? Зачем только ты не утопила меня сызмальства в каком-нибудь омуте, которых так много на речке Журавлихе, протекающей мимо нашей деревни Овсянки? Как бы я тебя сейчас благодарил, пребывая на небе рядом с ангелами, если, конечно, оно есть, это небо и ангелы на нем! Мне кажется, что если оно есть, это небо и на нем ангелы, то там непременно должна быть и моя Феюшка, единственная моя в этом мире любовь и единственный человек, который в этом мире любил меня, не считая, конечно, мамки. Потому что – где же ей еще и быть, моей Феюшке, как не на небесах? А если ее сейчас там нет, то что же это за небеса? Это получаются несправедливые небеса, и нет у меня к таким небесам никакого доверия!
Наверно, я начал не с того. Я думаю, что нужно начинать с честного и подробного описания всех моих злодеяний на этой земле: кого и как я убил, с кем, может, собирался рассчитаться, да не успел… Написать-то об этом немудрено, да вдруг те, кто будет это читать, возьмут и спросят: а почему ты это сделал? А как можно ответить на такой вопрос коротко? А не ответишь – станут бить…
Не знаю я, с чего мне начать, совсем не знаю! Не со дня же моего рождения, в самом деле, и, наверно, не с того момента, как я начал себя осознавать и донимать мамку разнообразными горькими вопросами: мамка, дескать, ответь мне, отчего это все такие, а я не такой… Подобных вопросов я задал мамке целый, наверно, миллион, да вот получил ли я на них хотя бы один ответ? Не получил. Возьмет, бывало, меня мамка в охапку после очередного моего вопроса, да и зальется горючими слезами: ах, дитятко ты мое дитятко, ах, несчастные мы с тобой разнесчастные! Вот и весь мамкин ответ – а разве это ответ?
Или, может, мне начать с той поры, как некие пьяные и разъяренные люди ворвались однажды в нашу с мамкой избенку и принялись, потрясая кольями и зажженными свечами, орать и выгонять нас из дому и вообще из деревни? В ту пору я был еще крохой, однако же, я отчетливо помню: уходите, орали, иначе сожжем дом и вас вместе с домом! Вы – ведьмино семя, от вас все несчастья в деревне, вам нет места среди нас! «Мамка, – помню, спросил я, когда они ушли, – а что такое ведьмино семя? И почему эти страшные дяди и тети нас выгоняют?» В ответ мамка, как оно обыкновенно и бывало, только залилась слезами, да и ничего более…
Ну, так с чего же мне начать? Может быть, с того, как, боясь людей, моя мамка выводила меня на прогулку только темными ночами, да и то гуляли мы с ней не по деревенским улицам, а вдоль речки Журавлихи с ее темными и зовущими омутами? Да даже и ночью вдоль Журавлихи – что это были за прогулки? Помню, как однажды из темноты со свистом вылетела каменюка, и если бы не мамка, почуявшая эту каменюку и заслонившая меня своим телом, то там бы, на бережку, я бы и заснул вечным сном. Ах, мамка, мамка, зачем ты меня тогда заслонила от той каменюки?..
Я так думаю, что мне надо начинать с той поры, когда мы с мамкой переехали из Овсянки в город. Да-да, именно с этой поры я и начну писать свою явку с повинной. Потому что если бы мы не переехали в город, то, я думаю, ничего того, что со мною произошло, и не было бы.
Город – это вам не деревня. В городе нам с мамкой жилось не в пример лучше, чем в деревне. Поселились мы в городской слободе под названием Зона. Надо сказать, что зоновскому люду, в общем и целом было без разницы, как ты выглядишь: всяческих уродцев здесь хватало и без меня, а одним больше или одним меньше – какая кому разница? Здесь главное было – уметь добывать свой кусок хлеба и не отнимать у соседа добытый им кусок. Если ты не умел добывать, над тобой насмехались, если ты пытался отбирать у других – ты становился кандидатом номер один в покойники. Впрочем, несмотря на это, лихих ребят в Зоне хватало, и я сам при желании мог бы стать одним из них – но это было уже потом, когда померла моя мамка… Пока же мы с мамкой поселились в Зоне, и перед нами во всей своей беспощадности встал вопрос: как нам не помереть с голоду. Мамка вскоре устроилась поломойкой в какую-то контору – но что это были за деньги? На чай с сахаром не хватало… «Ничего, мамка, не реви, – утешал я свою родительницу. – А я у тебя на что? Ведь я же у тебя помощник! Значит, завтра выйду на работу и я! Ничего, проживем!» «Ой, да на какую же ты работу выйдешь, кровинушка ты моя? – рыдала мамка. – Да кто же ее тебе такому даст, ту работу? Уж лучше бы ты шел в школу, цветочек мой ненаглядный! Уж я одна как-нибудь…» Помнится, в ту пору мне было лет, наверно, девять: по зоновским меркам – взрослый человек! «О чем ты, мамка, говоришь! – резонно рассуждал я. – Какая там школа? Ведь все едино задразнят и житья не дадут… Да и зачем она мне? Читать-писать ты меня выучила – а больше что мне в ней, в школе-то этой, делать?»
Короче, вышел скоро на работу и я: кому помочь поколоть дровишки, кому приглядеть за скотиной… Да, вот еще что: урод, я, конечно, был несусветный, но, наверно, благодаря именно моему уродству силу я в руках имел невероятную. До того невероятную, что, бывало, даже пьяные зоновские мужики по праздничным дням – и те не рисковали драться со мной. И это в мои девять или десять неполных лет! Нет, и впрямь: силища в моих руках была неимоверная. Расскажу один только случай.
Тогда мне исполнилось лет уже, наверно, одиннадцать. Ну, и повадился к моей мамке по известным делам один зоновский мужик по имени Серега, а по прозвищу Картошкин. Не то чтобы мамка отвергала этого Картошкина: да и мужиком он был ничего себе. Но это – когда трезвый. В пьяном же виде Серега Картошкин был просто невыносим, а пьяным он бывал пять, а то и все шесть дней в неделю. Как он измывался тогда над бедной мамкой! Но она его измывательства терпела, хотя, честно сказать, я тогда и не понимал, для чего мамка терпела этого Картошкина. Ну и вот: будучи однажды предельно пьяным, Серега Картошкин, как это обычно и водилось, полез на мамку с кулаками. И даже, припоминается мне, один раз ударил мамку по голове. Хотел ударить и другой раз, но тут на пути его пьяного кулака встал я. Я даже не знаю, как это у меня вышло: будто какая-то сила вдруг толкнула меня встать между этим дураком Картошкиным и моей мамкой.
– Ха! – сказал я, перехватывая пьяный Серегин кулак.
Какое-то время мы с Серегой Картошкиным боролись, а затем оба поняли, что я побеждаю. И – оба несказанно этому удивились: шутка ли дело – одиннадцатилетний уродец одолевает здоровенного, взрослого и пьяного балбеса!
– Ты! – заорал Серега, потирая свою руку, которую я ему, как оказалось, основательно помял. – Ты, сучий выблядок, цирковой урод, тля, – ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю!
Мамка, конечно, тут же завизжала и попыталась повиснуть на Сереге с тем, чтобы уберечь меня, но он, пьяный и разъяренный, сбросил мамку на пол и медленно, со страшным выражением лица, стал подходить ко мне. А я стоял и ждал. И когда Серега Картошкин достаточно приблизился ко мне, я трижды ударил его кулаком в пах: левой, правой, левой… Разумеется, в пах, куда же еще-то: до Серегиной физиономии мне было не дотянуться. Серега взвыл и медленно осел наземь: кажется, на какое-то время он даже потерял сознание. Ну да, потерял, потому что мамка, припоминается мне, отливала Серегу водой.
– Убью! – сказал я, заметив, что Картошкин пришел в себя и пытается подняться. – Еще раз полезешь к мамке или ко мне – убью!
Но Картошкин, похоже, больше драться не собирался. То ли мои удары, то ли мамкина вода почти протрезвили его, и он с удивлением смотрел на меня.
– Ни хрена себе, сказал я себе! – это была любимая Серегина поговорка. – Ну и ну… вот так конек-горбунок! Ну и сыночек у тебя, Зинуха! Я так думаю, что теперь мне на потомство рассчитывать совсем незачем… Какое там потомство, мать-перемать… сплошная яичница всмятку! Ох! Ах! Слушай, урод, а здорово ты меня… да! У тебя прямо не рука, а какая-то рельса! Вот что я тебе скажу, уродец: а ведь ты со своими ручищами мог бы заколачивать сумасшедшие деньжищи! Свободная вещь! Ну-ка, помоги мне встать! Да помогай, не бойся: видишь, я уже почти тверезый… Само собою, наш с тобой инцидент побоку, и сейчас мы будем говорить с тобой на коммерческие темы…
Наш с Серегой разговор на коммерческие темы заключался в следующем. В ту пору на Зоне были в моде кулачные бои. Дрались между собою и взрослые, и ребятня. Дрались не просто так, а за деньги: это было нечто вроде подпольного тотализатора. Взрослые мужики дрались между собой самозабвенно, до третьей крови, а иногда и того более, иногда дело доходило и до убийства, – а какой же это тотализатор, если дело доходит до убийства? Убийство – оно и есть убийство: тут тебе и милиция, тут тебе и допросы с тюрьмами и прочим горем… Совсем другое было дело, когда дралась ребятня. В ребячьих драках убийств не случалось: во-первых, ребятня, в отличие от взрослых, была гораздо милосерднее по отношению к своим противникам, а во-вторых, сцепившихся насмерть малолетних драчунов легко можно было растащить и урезонить наблюдающим за дракой взрослым дяденькам. Оттого-то на ребячьи драки посмотреть охотников было куда как больше, и потому деньги в подпольном тотализаторе (помню, этот тотализатор у нас назывался «черная касса») крутились изрядные. Ну и вот, Серега Картошкин принялся уговаривать меня стать участником таких коммерческих драк.
– Да ведь тебе, – втолковывал мне Серега, – цены нет с твоими кулачищами! Эк саданул меня – прямо сознание из меня вон! Да ты любого вырубишь в два приема! А если к тому же учесть твою конфигурацию, то тут вообще, мать-перемать! Вообрази: непобедимый карлик… да нет, придумаем тебе какую-нибудь подходящую кликуху… да о чем тут говорить! Какие на нас свалятся деньжищи, уродец… как бишь тебя… Витек! Ты не боись! Я, Серега Картошкин, возьму тебя под свое покровительство! А чего ж? Мы с твоей мамкой того… короче, ты мне получаешься вроде как сын – свободное дело! Заживем, мать-перемать!
– Да не хочу я драться! – возражал я. – И деньжищ твоих тоже не хочу. Я заработаю и так: кому огород, кому дровишки…
– Огород, дровишки… – скривился Серега. – Ну и дурак же ты еще, как я погляжу! Зинка, ты слышишь; какой твой сын дурак? Ну разве он не дурак, коли отказывается от таких деньжищ?
– Да как-то… – в нерешительности произнесла мать.
– Как-то, как-то!.. – начал заводиться Картошкин. – Дурачье вы… ох, и дурачье же! Да тебе, уродик, и драться-то не надобно будет! Ну разве это драка, когда пацан с пацаном? Так, баловство… зато какие деньги! Ну? Мамке купишь шубу, себе что-нибудь эдакое… дом себе купите! Не век же вам по чужим углам скитаться, мать-перемать! Ну, решайся же!
– Мне их жалко… – угрюмо пробормотал я.
– Чего ты сказал? – вскинулся Серега. – Кого это тебе жалко?
– Ну, этих… кого я буду бить.
– Ой! – закатил глаза Серега. – Ему их жалко! А они тебя шибко ли жалеют? Ну? Кто из них когда-либо тебя пожалел – хоть раз? Ну-ка, вспомни, отчего ты не ходишь в школу и почему ты не желаешь гулять по улицам среди бела дня? Не из-за них ли… не из-за тех ли, кого ты вознамерился жалеть? Ах ты, уродик… Жалеть он кого-то вздумал… надо же! Пацан! Жалость – это не для нашего мира и не для нашей жизни, понял? Жалость – это где-нибудь там, на небесах. А мы с тобой – на земле! А потому – бей в морду первым, иначе ударят тебя!..
Короче, при молчаливом согласии моей мамки, Серега меня уговорил. Помню свой первый бой. Было это, кажется, ранней осенью. Серега привел меня на пустырь, каких вокруг нашей Зоны было неисчислимое множество. Вечерело, вокруг вытоптанной земляной площадки толпились люди. Здесь были и наши зоновские, и такие, которых я никогда раньше не видел. Когда Картошкин показал меня всей этой публике, публика загудела. Понятное дело, никто не ожидал увидеть такой сюрприз, как я. Кстати, и прозвище мне Картошкин дал точно такое же – Сюрприз.