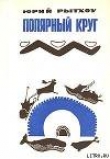Текст книги "Гремите, колокола!"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Не случайно теперь Греков и погостить приехал к ним не всей семьей, а только с Алешей. Недаром, должно быть, и так безропотно сносил все его внезапные бурные нападки. Время от времени в парня как будто вселялся какой-то вирус, и он начинал придираться к отцу то зато, что тот возвращался с Дона без улова, хотя просидел с удочками в лодке с самой зари, то из-за того, что и в самые удачные дни берется у него одна мелочь. И Алеша бежал в дом за сантиметром, чтобы измерить длину принесенных отцом с Дона су́лок. А то просто достаточно было отцу за столом заговорить, чтобы он тут же, перебивая, завязал с ним спор ни из-за чего. Лишь бы поспорить. И иногда Луговому даже со стороны трудно было смириться, что его друг, тот самый комиссар Греков, которого любили не только в полку, но и во всей дивизии, при этом лишь втягивал голову в плечи, растерянно улыбаясь. Как будто подменили его.
Должно быть, он и сам это чувствовал, потому что однажды, когда они остались с Луговым в лодке вдвоем, заговорил:
– Ты только, пожалуйста, ничего такого о нем не подумай. Парень он не хуже других. Конечно, неуравновешенный, но в этом надо винить не его. И знаешь, я вообще после Цимлы понял, что большую часть вины за ошибки детей должны взять на себя мы сами.
Но нападало на Наташу ее затворничество, и опять, кроме музыки, уже ничто не существовало для нее, в том числе и Алеша. Только Бетховен, Шопен, Лист. И Алеша никогда не мешал ей, только поодаль бродил вокруг веранды. Но в эти-то часы отцу и доставалось от него больше всего. И опять Луговому трудно было смотреть, как его друг покорно сносит все его нападки.
Только однажды он и вышел из себя. Нет, не тогда, когда Алеша опять придирался к нему, как репей цеплялся к каждому слову. В эти минуты Греков лишь безуспешно пытался урезонить его:
– А вот это, Алеша, ты уже совсем зря. Это ты не подумал.
И ни разу не повысил голоса. Лишь иногда смуглый румянец прильет к скулам.
Но однажды, когда Алеша, сорвавшись вдруг с места, бросился вплавь через Дон наперерез вынырнувшей из-за острова ракете, впервые увидел Луговой, как его уравновешенный друг весь покрылся каплями пота и закричал голосом, скорее похожим на звериный:
– Верни-ись!
На этот раз Алеша не ослушался его. Вернулся.
Приезжая с тех пор с отцом каждое лето, сопровождал он Наташу и в ее ежедневных походах в кинотеатр турбазы, когда на нее вдруг нахлынуло желание самой учиться музыке. Так же как до этого нахлынул на нее английский язык.
Когда-то, когда Луговой переучивался из военного в агронома и на пять лет они переехали в город, матери большого труда стоило уговорить ее ходить в музыкальную школу. И когда потом возвращались они в хутор, больше всего, может быть, радовалась Наташа тому, что избавится от этой музыки. Достаточно того, что у них в семье уже была одна каторжанка. И вот теперь она вдруг бросила матери за столом упрек, что, если бы та действительно хотела учить ее музыке, она бы не позволила ей тогда бросить по глупости. А теперь, в ее годы, ничего уже наверстать невозможно. Но она все равно будет играть, будет!.. И совсем не для того, чтобы из нее вышел Рихтер, – она просто не может без музыки. Она уже все обдумала. Несмотря на то что пианино у них в доме нет, она, как и Любочка, будет ходить в кинотеатр турбазы, который по целым дням пустует…
В полдень знойного донского лета в дощатом кинотеатре турбазы всегда было жарко и душно. Наташа раздевалась за полотном экрана и садилась там за пианино в купальнике. Пианино «Ростов-Дон» было вконец заигранное, и в Революционный этюд Шопена, который она стала разучивать, то и дело врывались чужеродные звуки. Тем более что после большого перерыва пальцы слушались ее совсем плохо. Между тем этюдом Шопена, который звучал в ее сердце, и тем, который рождался под ее пальцами в этом пустынном зале, была целая пропасть.
Но пусть бы кто-нибудь заикнулся об этом тому единственному слушателю, что способен был три, четыре и шесть часов подряд, не шелохнувшись, сидеть на своем месте на откидном стуле в сумеречном зале кинотеатра! Глаза Алеши, устремленные на экран, на котором обрисовывался Наташин силуэт, становились за стеклами очков совсем черными, а щеки, всегда полыхавшие розовым, девичьим румянцем, пепельно бледнели.
Для завсегдатаев же бильярдной, располагавшейся под дощатой сценой кинотеатра, все эти часы были сплошной мукой. Они бежали из города от грохота цехов и улиц не для того, чтобы и здесь, на берегу Дона, на их головы валился этот грохот из одних и тех же повторяющихся звуков, называемых музыкой… Не музыка это была, а пытка. И бильярдисты под сценой, под ногами у Наташи, начинали сквернословить так, что уши у Алеши, сидевшего в зале, охватывались огнем. Он не срывался с места лишь потому, что Наташа ко всему, что не имело отношения к Революционному этюду Шопена, оставалась совершенно глухой и равнодушной. Ничто другое ее не касалось. Ее тень трепетала на экране, и глаза Алеши еще никогда не смотрели на киноэкран с таким жгучим вниманием, как теперь. И над этим Шопеном он раньше смеялся, называя всю эту музыку мертвым хламом.
Но доведенные ею до исступления бильярдисты начинали стучать снизу в доски сцены концами своих деревянных киев. Приходившая после обеда в кинотеатр убирать дородная тетя Глаша, чтобы усмирить их, лила из черного ведра сквозь щели на сцене им на головы воду, а когда они начинали ломиться снаружи в дверь, закрытую на крючок, встречала их на пороге с сибирьковым веником, тряпкой и шваброй. Отступая, бильярдисты бежали жаловаться директору турбазы, но тетя Глаша оставалась неумолимой. Ко всем этим городским туристам, отдыхающим и загорающим на береговом песочке в то время, когда все хуторские с утра до вечера не разгибали спин на виноградниках и на огородах, она относилась с нескрываемым презрением:
– Понаехали сюда, фулюганы, шарики катать.
Директор пытался убедить ее:
– Люди, тетя Глаша, за целый год собрались отдохнуть.
– А у самих шеяки – как у бугаев. Ты бы послухал, какие они не стесняются при дитю слова говорить. И язык не отсохнет.
Директор грозил ей увольнением, но она только поводила пышным плечом.
Во-первых, она была уверена, что по своему добросердечию он свою угрозу не исполнит. Во-вторых, знала, что ему и некуда податься, когда в хуторе самый сезон, каждый человек нарасхват. Без людей задыхаются и в совхозе, и в учебно-опытном хозяйстве за Доном, и на опорном виноградарском пункте.
Иногда прибегала Валя, поступившая на лето в столовую турбазы официанткой. Как-то сразу изменилась она и, хоть все так же оставалась небольшого роста, уже не похожа была на девчонку в своих остроносых туфельках, в короткой юбке и с высокой прической. И как-то она по-новому, можно было подумать – намеренно, то и дело старалась откинуть голову, как будто она стала у нее тяжелой и падала вниз. Рядом с Наташиным ее лицо выглядело совсем взрослым, хотя была она почти на два года моложе.
Она молча садилась в зале рядом с Алешей, не обращавшим на нее ровным счетом никакого внимания, и через час так же молча исчезала. Перерыв в столовой кончался. Туристы требовали, чтобы их кормили не реже четырех раз в сутки.
Однако вскоре и завсегдатаи бильярдной под сценой сменили гнев на милость. То ли сумела их тетя Глаша в конце концов укротить, то ли со временем не так стала оскорблять их слух Наташина игра. Во всяком случае, теперь уже нередко под ее ногами раздавался стук и звучал вопрос:
– А что это ты там такое играешь?
– Шопена, – отвечала Наташа.
– И никакой другой музыки больше не знаешь?
– Нет.
– Ну тогда давай Шопена, а там, гляди, и чему-нибудь другому научишься.
Тот же единственный слушатель, который долгими часами просиживал в зале кинотеатра, был убежден, что никакой иной музыки в мире вообще не может быть. Земляной пол в кинотеатре был усыпан белым обдонским песком, в полутьме мерцали вкрапленные в него зерна слюды, галька. Ветром с Дона надувало шелковые шафранные портьеры на окнах. Рокочуще похлопывая, они парусили.
Но и после того, как Алеша с отцом уже уехали в Москву, она еще с месяц продолжала совершать свои ежедневные путешествия под палящим солнцем, с нотами в сумке. Со сменой на турбазе отдыхающих менялись и завсегдатаи бильярдной под сценой, то и дело между ними и тетей Глашей вспыхивала война, и неизменно она принуждала их к позорному отступлению с помощью все того же испытанного оружия – сибирькового веника, швабры и половой тряпки. Революционный этюд Шопена мог звучать в зале летнего кинотеатра без всяких помех.
И когда он вдруг однажды смолк и больше не возобновлялся ни на другой день, ни в последующие дни, бильярдисты уже сами потребовали объяснения у тети Глаши. Судя по тому, как после ее ответа под ударами их киев глуше застучали шары, к известию об отъезде Наташи они отнеслись без восторга. Оказывается, под музыку Шопена шары и стучали и бегали по зеленому сукну бильярдного стола веселее.
Вплоть до самого дня ее отъезда Луговой никогда и не предполагал, что это может так подействовать на него. Накануне за обедом мать сказала Наташе, чтобы она уложила в чемодан свои платья, чтобы в последнюю минуту не лотошить. Наташа молча кивнула, а он опять почувствовал, будто чья-то ладонь сжала его сердце, и быстро вышел. Потом, когда он ходил по саду среди деревьев и кустов винограда, эта ладонь все время то сжимала, то отпускала его сердце.
И несомненно, что связано все это с недавним вторжением в их дом той самой силы, о могуществе которой они никогда и не подозревали прежде. Конечно, уже и до этого ее присутствие ощущалось в доме, особенно когда Любочка переехала учиться в Москву. Если бы Абастик могла тогда знать, какую она каждое лето взрывчатку привозит с собой в чемодане! Но и кто же мог тогда предположить, – Луговой и теперь до конца не уверен, – что во всем этом, даже и в музыке, могла таиться опасность. Тем более что все это у них совершалось как-то между прочим. Казалось, только что для них ничего другого на свете не существовало, кроме Чайковского или Рахманинова, склонив черноволосую голову, Абастик перебирает пальцами по валику дивана, а Наташа, поджав под себя ногу, тигриным взглядом озирается на малейший скрип двери; и вот уже опять у них хохот столбом, выскочив во двор, они гоняются друг за дружкой с ведрами, обливаются водой, а вот уже их голоса доносятся в звенящем рое других голосов с берега Дона.
Люди натолкнули его вскоре и на мысль, что она в Москве скучает… Не кто иная натолкнула, как самая резвая из хуторских письмоносиц Катя Сошникова. Доставая из сумки очередное письмо от Наташи и помахав им в воздухе, потребовала:
– Придется вам мне магарыч ставить со своего личного сада. Четвертое за этот месяц.
Оказывается, и не только отец с матерью считали ее письма., А Луговому казалось, что пишет она непростительно редко, могла бы почаще. И в следующий раз, встретившись с Луговым на полпути между почтой и конторой совхоза и вручая ему с пачкой газет окаймленный красно-синей полоской конверт, Катя присовокупила:
– И все авиа. На целых две копейки дороже, а по-старому – на двадцать. Не жалеет отцовских денег, знает, что любимая дочка.
Луговой даже остановился, отойдя от нее шага на три.
– Ты почему же, Катя, так думаешь?
Катя вдруг засмущалась, две ярко-алые, как весной на придорожном шиповнике, розочки зацвели у нее на смуглых щеках.
– Ничего я не думаю. Просто так.
Но Луговой не захотел отступиться.
– Нет, договаривай.
От кого-нибудь другого она, может быть, и отшутилась бы или же просто сказала «отцепись, репей» и пошла бы, придерживая рукой почтовую сумку. Она была острая на язык. Но здесь нельзя было. Все-таки Луговой начальство, а ей, как сверхштатному письмоносцу, выплачивал ставку совхоз. Да и вообще, если бы она обошлась с Луговым невежливо, ей было бы не по себе. И, решившись, она подняла на него правдивые глаза:
– Да это же и по вас видно.
И тут же обрадованно ринулась за проходившей мимо свекровью Дарьей Сошниковой:
– Мама, и вам сегодня письмо. Из самого Кустаная, – так и оставив Лугового недоумевать, что она подразумевала под своими словами.
И не только в этот день, но и потом он не раз мысленно возвращался к ним. Вот уж никогда не подозревал, что у него есть более и менее любимые дети. Разве к той же Любочке не испытывал он по временам приливов какой-то немужской нежности из-за того, что она полусирота и так сложилось, что росла не с ним, а с дедушкой и бабушкой! Просто за нее последнее время он стал более спокоен. Она, можно сказать, уже на ногах, а у Наташи все еще так неясно.
Он решил при случае снова завести с Катей этот разговор, по она, вручая ему очередное письмо, опередила его:
– А еще у меня спрашивали! Вы бы на свои руки поглядели.
Луговой с недоумением посмотрел на свои руки:
– А что?
– Не успели взяться за письмо – и уже рвут конверт. Боятся, не успеют.
И действительно, его руки, едва взяли из Катиных рук письмо, уже успели и разорвать конверт, и развернуть исписанные прямым и крупным Наташиным почерком листки, и поднести их к глазам.
На этот раз пришлось и ему испытать смущение под взглядом Катиных глаз. Но она же и успокоила его:
– А стыдиться тут нечего. Я сама, бывало, как от Андрюшки из армии письмо получу, так сразу и прочту его до десяти разов, а пока домой добегу – уже выучу наизусть. Слово в слово. Ничего в этом стыдного нет. Вы тут скучаете за ней, а она там – за вами.
– Ты думаешь, и она скучает?
Катя ответила вопросом на вопрос:
– А вы думаете, она так просто на неделю по два авиа шлет?
Нет, Катя Сошникова, конечно, умница, но тут она явно преувеличивает, а может, ей так показалось. Со времени Наташиного отъезда в Москву и вообще-то совсем немного прошло, чтобы успеть ей соскучиться, а во-вторых, достаточно вспомнить, как последнее время она не находила себе места дома, металась между верандой и Доном, островом и верандой. Если же теперь и поскучает вначале, то только с непривычки. Конечно, ее новые подруги по институту не то что Валя, московские улицы не хуторские проулки и квартирная хозяйка не родная мать. Хотя вообще-то и писала Наташа, что ей посчастливилось сразу же набрести на симпатичную хозяйку комнаты с пианино. И притом всего в пяти минутах езды на метро от института. Судя по ее же письмам, у нее совсем не должно оставаться времени для скуки. Бывая иногда в командировках и в отпуске в Москве, Луговой на себе испытал, как там летит время. Шумит у человека в ушах, как астраханский суховей. А у нее, кроме института, есть и еще бремя, которое она добровольно взвалила на свои плечи.
Если бы Абастик могла только знать, какое тонкошкурое сердце окажется у ее младшей сестры!
«Что я могу сказать нового? – писала она в первом же письме своим торопливым крупным почерком. – Просто не знаю. Еще не вполне осознала, что я в Москве. Но со мной моя музыка. Эти дни играю часов по семь. Если бы было возможно, то играла бы все двадцать четыре. Сейчас играю Двадцать третий концерт Моцарта, Баха и этюды. Еще не знаю, что буду играть из романтиков…»
Если эти Моцарт с Бахом и романтики будут отнимать у нее по семи часов ежедневно, то что же у нее будет оставаться для института? Конечно, у нее способности, она и дома уже читала английские книжки, но одних способностей мало. В то же время об институте упоминает совсем мимоходом, вскользь – и опять не без присутствия музыки. Вот как, например, во втором письме:
«Сегодня из института поехала прямо в Дом звукозаписи. В Москве холод и дожди. На концертах еще не была».
Можно было подумать, что и в Москву она помчалась, не успев оглянуться, ради этой музыки, а не ради английского языка. И в следующем письме, которое с понимающей улыбкой на черноглазом лице извлекла из своей кожаной сумки Катя Сошникова, об институте ни слова. Зато для сообщения о том, что, по ее мнению, больше всего должно было интересовать родителей, нашлось место:
«Была на концерте Магомаева. Пел он сегодня гораздо лучше, чем тогда, когда мы с Алешей ездили на его концерт в Ростов. На „бис“ спел кучу всякой смеси и под конец даже сам играл и пел».
Кроме этого единственного упоминания об Алеше, она больше так и не написала о нем; виделась ли там с ним, в Москве. Между тем Луговой с Мариной думали, что семья Грековых окажется для нее не чужой в этом большом и пока чужом для нее городе. И дальше вдруг, чего ни отец, ни мать, приученные последнее время к ее скрытности, никогда не ожидали от нее:
«…Но я не знаю, как остальные, а у меня нет почему-то нежности к нему. Вообще-то я не знаю, смогу ли когда-нибудь отдать всю свою нежность, все самое хорошее, что есть во мне. Верю и не верю, а все-таки верю. Не может же быть, что все зря…»
Писала, писала – и вдруг… Магомаев. Но почему она должна отдавать ему свою нежность? И как можно понять эти строки: «Верю и не верю, а все-таки верю»? Все-таки, конечно, она еще совсем ребенок, девочка. У нее и у самой это вдруг прорывается в письмах. Особенно в этом, третьем, в октябре:
«Странно, раньше чувствовала себя более взрослой, а теперь – то ли музыка, не знаю, – чувствую себя маленькой, но не беззащитной. Нет, все сложно, и хочется победить в борьбе, которую я затеяла уже давно».
Но какую же она могла затеять в свои семнадцать лет борьбу? И с кем или с чем? И храбрится совсем как ребенок. Все это Луговому так знакомо. В этом возрасте все обязательно с кем-нибудь сражаются и непременно надеются победить. Все этим должны переболеть.
Но Марина, кажется, думает об этом по-своему. Прочитав, Луговой молча передает ей письмо и, глядя на нее, думает, что она что-то утаивает от него. Там у и раньше казалось, что она недоговаривала чего-то, если не скрывала, и сейчас его не может обмануть выражение ее лица. Слишком знакомы ему и этот затаенный блеск ее глаз и это облачко, скользнувшее от бровей к губам и залегшее двумя складками по обочинам рта.
Но она так ничего и не говорит, возвращая ему письмо. Между тем он может поклясться, что она и сама едва удерживается, чтобы не заговорить. Неужели так и не может забыть той его небрежно-снисходительной усмешки, на которую когда-то, как на острый риф, напоролась ее откровенность? А ему тоже что-то мешает самому завести этот разговор.
Но, пожалуй, чаще других мелькало в Наташиных письмах все одно и то же слово – Клин. Как, впрочем, и в этом, только что врученном ему насмешливой, все понимающей Катей Сошниковой. Хорошая Дарье попалась невестка. Если у самой Дарьи и не сложилась жизнь – за то время, пока ее муж Андрей мыкался по лагерям в плену, она успела полюбить другого, теперь и этот уехал, и он пишет ей письма с целины, – то хоть за сына своего, тоже Андрея, она должна быть спокойной. А это так много значит, так много для материнского, да и для отцовского сердца!
Так с раскрытым письмом и вошел он в дом, начав на пороге перечитывать его во второй раз:
«В пятницу была в Клину. Конечно, одна. Все эти часы дороги и пребывания там я была счастлива, даже, боюсь, слишком».
И в предыдущем письме, помнится, писала, как ехала в электричке в этот самый Клин, познакомилась там с удивительно симпатичной женщиной, с которой они, пока доехали, прикончили кулек с пирожками, а после того, как побывала в доме у Петра Ильича Чайковского, сидела на скамье в саду, слушала по радио Первый концерт и романсы в исполнении Зары Долухановой – те самые, которые она часто слушала и дома. Но там, в Клину, среди тех деревьев, которые так любил Петр Ильич, они, конечно, звучат, как нигде…
Луговому оставалось теперь только пожалеть, что, бывая в Москве, он так и не удосужился побывать в Клину; но тогда ведь и представить он не мог, что этот Клин займет такое место в ее жизни. А солгать теперь задним числом самому себе, что лишь по недоразумению или по недостатку времени он до этого не поинтересовался Клином, Луговой не мог. До недавнего времени и мысленно не забредали туда его дороги. До того как не взял он себе в поводыри эту тревогу.
И теперь он должен был довольствоваться лишь тем немногим, что могли ему рассказать и этот коричневый с вклеенной в обложку фотографией дома альбом, оказавшийся на веранде у Наташи среди других ее книг и бумаг, и этот, лунным светом загорающийся с недавних пор у них в доме квадратный экран, к обычности которого он так еще и не успел привыкнуть в хуторе.
Никак не мог он привыкнуть, что сквозь это небесно-голубое окно можно заглянуть и туда, где совсем иная, так непохожая на повседневно окружающую его жизнь, и даже увидеть вдруг ожившими и этот дом с обложки Наташиного альбома, и аллею, о которой она пишет в своих письмах, а может быть, и ее саму, идущую по этой аллее к дому. Вглядываясь в толпу людей, так легко в это поверить, особенно когда Марина рядом вдруг резко подастся на стуле вперед, всматриваясь в мерцающий квадрат голубого света.
Наверно, там и служители давно уже запомнили эту девушку в вишневом пальто, в пушистой круглой шапке. Но никому там, конечно, и в голову не придет сравнить эту серую меховую шапку с цветком татарника, какие во множестве можно увидеть где-нибудь на склоне того же Володина кургана или Сибирьковой балки. Никто среди этих тополей и берез и не подозревает, что есть где-то на земле такие Володин курган, Сибирьковая балка. Но то, что эта девушка не здешняя, не из Москвы, ни у кого из служителей не вызывает сомнения. Глаза у нее не здешние – и ласковые и дикие. Не то чтобы несчастливые, а кажется, что из них каждую секунду могут брызнуть слезы. А волосы у нее не жесткими пучками или конским хвостом торчат из-под шапки, а просто падают из-под нее на воротник.
Приехав с воскресной утренней электричкой из Москвы и войдя в дом, она сперва стоит перед фотографиями с конкурса имени того, для которого просто домом был этот дом, ставший теперь музеем. На одной из этих фотографий есть и этот пианист за роялем со склоненной над ним курчавой головой и, с большими руками на клавишах. А на другой фотографии он откинулся назад и поднял глаза, как бы призывая в свидетели своей непорочности само небо. Крылья черного фрака свесились по обеим сторонам стула, а за роялем над ним и над оркестром простер свои руки дирижер.
В сад же, где, передав просьбу служительнице, можно, сидя на скамье, послушать и Первый концерт и Зару Долуханову, она спускается после того, как обойдет уже все комнаты дома. Должно быть, и эти служители уверены, что приехала она в Москву издалека учиться не чему-нибудь иному, не тому же английскому языку, а только музыке. Иначе зачем же и приезжать ей сюда, в Клин, чуть ли не каждое воскресенье, бродить но дому, долго стоять у рояля и даже гладить спинку придвинутого к нему стула, а потом сидеть на скамье в саду и слушать, слушать?..
Найти эту пластинку с Зарой Долухановой среди других, оставшихся на веранде, не представляло никакого труда. Все это были большие пластинки, некоторые из них нужно слушать почти по часу, а на эту маленькую надо было потратить не больше пяти-шести минут. И ничего не стоит всего лишь с помощью корундовой иглы заставить Зару Долуханову запеть не где-нибудь, а здесь, на веранде, глядящей своими окнами в сад и на Дон:
День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая,—
Все о тебе!
Выливавшийся из открытых окон голос, спускаясь с яра, расстилался по Дону. Он был по-осеннему пепельно-серым и холодноватым, а в безраздельно отдающихся музыке словах романса было полуденное знойное солнце. Из окна Луговой увидел, как у Марины, разгребающей между деревьями граблями палую листву, замедлились движения и, повернув голову в соломенной вьетнамской шляпе, она прислонилась плечом к сохе виноградного куста.
Должно быть, все потому же, что последнее время при Наташе музыка не умолкала у них в доме и чтобы как-то предохраниться от нее, Луговой научился опускать на уши невидимые заслонки, он прежде так и не успел как следует прислушаться к этим словам:
С нею не страшен мне призрак былого,
Сердце воспрянуло, снова любя…
Вера, мечты, вдохновенное слово,
Все, что в душе дорогого, святого,—
Все от тебя!
Марина отслонилась от сохи и опять стала сгребать граблями ярко-красную и ярко-желтую листву, но все же слегка повернув к веранде голову в соломенной шляпе. Солнце еще было горячо, и она не хотела, чтобы лицо у нее загорело… Как и все остальные хуторские женщины, что, работая в степи и в садах, мажут лица кислым молоком, обклеивают листьями и наглухо, до самых глаз, закутываются платками.
Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь загубя, —
Знаю одно: что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Все для тебя!—
клятвенно заверял этот голос, как бы отдавая тому, кому предназначалась музыка и слова, вместе со своим сердцем и эту листву, зажженную осенью в садах, на острове и в задонском лесу, и этот уже набухающий от пролившихся в верховьях дождей Дон, и отдаленные маковки придонских курганов и бугров, облитые еще ярким, хотя и осенним солнцем.
Но там, в Клину, его венчик, конечно, уже едва проступает сквозь пелену туч, с которых, может быть, срываются и первые белые мухи. И не очень-то, должно быть, греет ее осеннее красное пальтецо.
А стоит только перевернуть пластинку, и тот же голос запоет:
Уноси мое сердце в звенящую даль…
Наташа, если уж она ставила на проигрыватель эту пластинку, то обычно всегда и переворачивала ее. Но Луговой это послушает когда-нибудь в другой раз. Он и так уже заслушался здесь, в то время как Марина там с граблями, в саду. А ведь до этого за день она не меньше, если не больше, утомилась и на медпункте, и во время своих обходов больных на дому, а часто и с заходами в степь, на полевой стан, к дояркам и к пастухам – это три километра туда и столько же обратно по степной пыльной дороге среди будыльев подсолнуха и кукурузы. Да и после этого еще накормила его обедом и, пока он здесь задержался, вычистила граблями полсада. Сделала, в сущности, то, что положено было сделать ему.
И оставшуюся половину сада он обязательно должен вычистить сам. Тем более что никакое из занятий в саду он, пожалуй, не любил так, как это, когда уже не изнурительно жарко, но солнце еще сушит влажную спину и ветром овевает ее, столько самых неожиданных красок осень разбросала в саду, и под граблями шуршат листья, а когда сгребешь их в огромный оранжево-красно-коричневый ворох и сунешь в него спичку, на стебле жаркого пламени поднимается и клонится к земле густой, влажный дым, пахнущий необъяснимо как хорошо – и уходящим летом, и хозяйничающей вокруг осенью, и неотвратимо следующей за ней по пятам, хотя еще и далекой, зимой. Тепло, свежо и грустно. Ничего лучше этого запаха он не знал.
Молча отобрав у Марины грабли, он взамен отдал ей Наташино письмо, которое она тут же и начала читать, удаляясь между деревьями к дому. Вокруг над хутором уже колыхались дымы и сползали из дворов с яра в Дон. И из двора Фени Лепилиной, и из двора Лущилихи, и из двора Махоры. Всюду обрезывали виноградные лозы и увязывали толстыми пучками перед тем, как пригорнутьих на зиму землей. Слышно было, как Феня громко отвечает из своего двора на «доброе здоровьице» Стефана Демина, который катит под яром из совхозного виноградного сада домой, толкая перед собой чем-то нагруженную и прикрытую сверху травой тачку.
– Доброго, доброго, Стефан… Сейчас ты, когда день и ночь мимо моего двора твоя тачка скрипит, опять здоровкаешься, а как все поперевозишь из сада, обратно нос отвернешь. Забогатеешь.
– Тьфу дура баба, ну и дура баба! – смачно плюется под яром Демин и под сдержанный смех в других дворах начинает быстрее толкать перед собой свою двухколесную тачку. Узкие железные колеса зарываются в песок, и Феня Лепилина, перегибаясь через хмыз, которым огорожен ее двор, чистосердечно сочувствует ему:
– Конечно, по песку она плохо идет. Тяжело. Это у тебя, Стефан, в тачке под травой еще виноград или ты его уже весь перевозил и теперь арбузы доставляешь? Хорошую ты в совхозном саду промеж кустами бахчу развел.
Налегая на перекладину между оглоблями и не оглядываясь, Демин спешит поскорее прошмыгнуть мимо ее двора, но Феня все-таки успевает послать ему совет:
– А ты своего Пирата припряги, он у тебя кобель здоровый, хоть, правда, уже и старый. Жена от тебя ушла, так ты приучай кобеля. Хватит ему только ребятишек за икры хватать.
Как назло, этот самый Пират, сторожевой, с подрубленными ушами кобель, тут же и вертится вокруг тачки, подбегая под самые колеса, мешает хозяину, и тот от ярости отшвыривает его ногой. Теперь уже на яру во всех прилегающих к береговой дороге дворах не смеются, а хохочут.
И так же, как всегда это делала Наташа, во дворах ребятишки с веселым визгом перепрыгивают через кучи пылающей листвы. Сквозь синюю мглу дыма Дон лучит свой предвечерний свет. Неотступно идя за своим забором по кромке яра вслед за Деминым и его поскрипывающей на весь хутор тачкой, Феня Лепилина говорит:
– Погоди-ка, Стефан, сейчас я масленку принесу. Мы ее смажем.
– Черти б тебя, стерву, мазали, – ругается Демин и рывком толкает вперед тачку.
Высокое железное колесо, провалившись в расщелину, размытую вешними водами и дождями, круто тормозит, и тачка, чиркнув хозяина оглоблей по скуле, сбивает у него с головы казачью с околышем фуражку и высыпает из-под вороха травы на песок черные и желтые виноградные гроздья. Отборные, они впечатываются в придорожный песок. Демин бросается на колени, пытаясь прикрыть их руками и всем телом. Фуражка его скатилась с дороги в лущилинскую копанку и плавает в ней, как большой синий цветок с красной каемкой. Из-за всех заборов свесились головы. Феня Лепилина улюлюкает. Пират мечется вокруг своего хозяина. Весь верхний хутор хохочет.
Из пелены дыма, застлавшего Дон, вынырнул нос лодки и уткнулся в песок. Спрыгнувший с лодки мужчина подтягивает ее на берег, а встречающая его на берегу женщина помогает ему, примыкая лодку за цепь к колесу от сеялки.
Это приехал поужинать Андрей Сошников, которого временно перебросили сторожить совхозные огороды за Доном, а встречает его Любава, хотя она и не жена Андрея, а только сестра его жены. Жена его Дарья, которая теперь бригадирствует не в хуторских, бывших кулацких, а в новом совхозном саду в степи, там и живет большую часть времени в кирпичном домике, лишь изредка, один-два раза в месяц, наведываясь домой обстираться. О муже и о хозяйстве она не беспокоится, полностью полагаясь на сестру. И не зря: Андрей у Любавы всегда вовремя накормлен и чисто одет. Чуть только увидела на Дону его лодку – и уже выбежала на берег. И теперь, лязгая цепью и о чем-то разговаривая с ним, весело, молодо хохочет. Вообще Любава неузнаваемо изменилась с тех пор, как ушла от своего мужа Стефана Демина жить к сестре. Помолодела и стала разговорчива, не то что раньше. С берега к дому она идет по стежке, натоптанной среди репьев, впереди Андрея и, то и дело оборачиваясь, спрашивает у него: