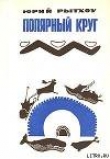Текст книги "Гремите, колокола!"
Автор книги: Анатолий Калинин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Анатолий Калинин
Гремите, колокола!
Роман
В сущности, ничего необычного не произошло. Рано или поздно удар этого колокола звучит в каждом доме, хотя родителям почти всегда кажется, что он звучит слишком рано. И дело было не в самом отъезде Наташи, а в том, что ее отъезд из дома был скорее похож на бегство.
Еще вчера вечером, когда она ходила с матерью на Дон купаться, и потом, когда все сидели во дворе за столом, об этом не было и речи, и вдруг утром она вышла из своей летней комнаты на веранде и объявила, что уезжает. Куда? Конечно, в Москву. И раз ехать, то только завтра, чтобы успеть на консультации в институте, – у нее и так уже пропало лето.
Она принимала решения так же, как обычно бросалась с кормы лодки или с бакена возле острова в воду. Кто за нею гнался и кто ее мог ожидать там, в Москве? Наверняка можно сказать, что никто, за исключением старшей сестры, которая после защиты диплома и сама должна была уехать на два года в Монголию. А учиться английскому с не меньшим успехом можно было и в Ростове: всего сто километров от дома и не придется, как Любочке, пять лет скитаться по углам. Полно родственников.
Но при этом напоминании Наташа взглянула на мать так, что мать тут же и отвела свой взгляд. Последнее время что-то появилось во взгляде у Наташи такое, что мать уже перестала вступать с нею в споры.
Возвращались из города вечером. За всю дорогу, не нарушили молчания ни Луговой, ни его жена, еще никогда, казалось, так не поглощенная своими обязанностями шофёра. И надо сказать, справлялась она с ними сегодня даже лучше, чем всегда, безошибочно нащупывая фарами в ночной степи все повороты среди чернеющих под безлунным небом скирд, лесных полос и курганов. На подъезде к хутору, как всегда, открылся из-под горы Дон. И тут вдруг Луговой впервые остро ощутил, что привычного успокоения, испытываемого им при возвращении из поездок домой, на этот раз нет, не будет.
И в ее комнате, такой же темно-зеленой, как и листья клена, прилипшие снаружи к стеклам веранды, все могло навести на мысль о внезапности ее отъезда. Возможно, и для нее самой. Как если бы она и сама, ложась вечером спать, еще не знала, что проснется с твердым решением ехать. Все оставалось в том виде, в каком оно обычно оставалось, когда она ненадолго отлучалась на Дон, на остров, в Сибирьковую балку. Ночная сетка от комаров откинута так, чтобы можно было спрыгнуть с подоконника в сад и дальше – под яр. Книги все в том же порядке полнейшего беспорядка – на деревянной скамеечке у изголовья раскладушки и прямо на полу. С диска проигрывателя так и не снята та самая пластинка, которую в это лето она слушала особенно часто. Иногда на самом раннем рассвете, а иногда и в полночь Луговой слышал эту пластинку из своей комнаты, с беспокойством думая о том, что спать Наташа стала теперь совсем мало. И это несмотря на всеобъемлющую тишину хуторских ночей и зорь, единственно и нарушаемую, а скорее, смягчаемую почмокиванием набегающего на кромку берега Дона.
Стоило всего лишь дотронуться до рычажка проигрывателя – и вот уже обернулась вокруг оси надпись на голубовато-зеленом поле: «Апрелевский завод грампластинок». А вот уже пластинка закружилась, и так, что надпись совсем растворилась, утонула в этой голубизне, как в колодце, – тридцать три оборота в минуту. Сейчас протрубит вступление оркестр и тут же как бы расступится, открывая дорогу роялю.
Он никогда не считал себя сведущим в музыке настолько, чтобы до конца понимать ее язык, но этот техасский пианист, завоевавший недавно Москву, кажется, сумел бы разбудить эту способность и в самом бесчувственном сердце. И Первый концерт Чайковского действительно звучит у него так, будто он родился среди этих берез, выбегающих из глубины русских лесов и полей на берега весенних потоков. Если сравнивать это с чем-нибудь, то, может быть, только с Доном, когда он, затопив прибрежные сады, бурлит среди деревьев и когда потом, успокаиваясь среди крутых яров, почти неслышно вымывает из-под них пурпурную глину.
А ему-то казалось, что он знает свою дочь. Не избежал и он обычной участи родителей, самоуверенно думающих, что ничто не может быть скрыто от них из жизни их детей, и за это теперь наказан той тревогой, которая все больше охватывает его душу. Оказалось, что он знает ее очень мало, а если не увиливать от истины, то и совсем не знает. И как бы теперь ни оправдываться тем, что с его профессией агронома он давно уже не принадлежит себе и что в то время, когда вокруг в повседневной жизни людей еще так много самого элементарного неблагополучия, у него просто не оставалось времени для своей семьи, о которой он знал, что в ней все благополучно, – оправдаться невозможно. И перед кем же оправдываться, перед собой? Но самоутешение – ненадежный союзник, и тревога не станет меньше.
Березы поодиночке и толпами выбегают на береговую кромку и застывают в молчаливом удивлении перед этим половодьем звуков. И раньше, еще до отъезда Наташи, когда они доносились из ее комнаты, он всегда думал, что руки у этого техасца – как два голоса… Но на рассвете же и снятся в детстве лучшие сны, и, не открывая глаз, она просит его не прерывать ее сновидений. Ей кажется, что и его голос она слышит во сне и, если проснуться, он тоже умолкнет. А то, о чем он ей говорит, она слышит впервые в жизни. Он говорит, что детство уже позади и то, что ее ожидает после пробуждения, прекраснее всяких сновидений. Спроси у этих берез и потоков… И в подтверждение опять трубит оркестр.
Но на этом пластинка на диске отнюдь не заканчивает своего вращения – тридцать три оборота в минуту. Окончилась только первая часть концерта. «Аллегро нон троппо э мольто маэстозо…»– успел прочитать он надпись, прежде чем она растворилась в этой голубизне посредине черного круга. С отъездом Наташи не у кого спросить, как это перевести с языка музыки на язык, который понятен всем людям.
И все это она слушала так много раз: и засыпая вечером у себя на веранде под шорохи Дона и листвы, и просыпаясь рано утром от тех же шорохов, к которым прибавлялось первое перепархивание птиц в листве клена, красной от пробивающих ее нападающих в Наташину комнату рассеянным дождем лучей солнца. Прямо перед домом переливается сквозь ветви клена Дон, а если взглянуть налево, поверх кудрявой кровли виноградных садов, сразу за хутором встает, заслоняя собой степь, весь окутанный лилово-сизой мглой чабреца и полыни Володин курган.
Собственно, он и знает о ней только то, что росла она, как все хуторские дети: среди вербовых сох с раскинутыми на них донской чашей лозами в казачьих виноградных садах; в Сибирьковой балке и на склонах Володина кургана, где раньше всего проглядывали весной из бурьяна желтые пахарьки и фиалки, а потом зацветали и дикие алые розочки; на острове в ветвях тютины и терна; а в самом раннем детстве – под двумя громадными кустами смородины за домом, где всегда, даже когда задувал суховей, было тихо, пахло прелью прошлогодних листьев и в сумраке таинственно мерцали ее цветные стеклышки, ракушки, донская галька. Едва только смородина одевалась первым зеленым пухом, Наташа забивалась туда со своей единственной подружкой Валей. И вытащить ее оттуда можно было только на Дон.
Не доискаться ему самому и смысла этих слов на обороте пластинки: 2-я часть – Андантино семпличе;3-я часть – Аллегро кон фуоко.И это теперь тоже в наказание ему за то, что он так ни разу и не поинтересовался этим, когда она была дома. Если ничего не утаивать от себя, ему иногда даже казалось блажью, что она может по целым дням вслушиваться в одни и те же звуки. Да и вообще, не сводилась ли вся его заинтересованность в ее жизни лишь к тому, чтобы она была сыта, одета и могла учиться без помех? Как будто, кроме его виноградников, ничего другого и не существовало в окружающем мире. И как будто бы эта корундовая игла, извлекающая из пластмассового круга звуки, и этот заокеанский пианист смогут теперь рассказать ему больше, чем он сам должен знать о своей дочери.
Только что она вполне счастлива была радужным блеском своих стекляшек. Только что, безутешно рыдая, требовала, чтобы внесли обратно в дом ее елку, с которой давно уже осыпались все иглы. Кажется, только что и под лед на Дону чуть не ушла, когда ходила из хутора в станичную школу и как-то весной спустилась на окраинцы помыть сапоги, и ушла бы, если бы пальто не надулось пузырем.
Не так ли уже сколько раз за свою жизнь приходилось ему замечать, как тот самый побег на виноградной лозе, который вчера вечером еще только проклевывался своим желтым клювиком из коричневой почки, сегодня утром сразу стал зеленым чубучком и сам уже тянется вверх, цепляясь усиками за надставку. И вот так же еще не удавалось уследить, когда произошла с ним эта перемена.
За стеклами, в которые впечатал свои листья клен, ночь, а флейты и скрипки, раздвигая темноту, все громче настаивают на том, что уже утро. Но они же и навевают эти безоблачные сны, приглашая еще и еще раз побывать во владениях детства. Пробежаться с кургана на курган. Покружиться на одной ноге под дождем. И после того, как опять просияет солнце, полежать у тихой воды, уносясь взором туда, где ее синева впадает в синеву неба.
А Наташа с подружкой Валей после дождя могли по полдня простаивать с удочками под береговыми вербами по колено в воде. И тут же, неподалеку от них, безбоязненно собирали свой улов такие же голенастые цапли.
Опять забурлили под корундовой иглой потоки, подобные тем, что низвергаются весной из степи в Дон по всем балкам. В этом концерте Чайковского и вообще много водопадов, шумят реки. Но откуда же и у техасского пианиста это русское чувство в музыке? И вот уже его руки опять вступили в свой разговор – как два голоса. В одном – и обещание и нежность, а в другом – и мольба и тревога. Вот и скрипки не могут от нее скрыть, что возврата в страну безоблачных снов уже не будет.
Утро само по себе прекрасно, но этого еще мало, чтобы возместить ее потерю.
А это? – спрашивает он и начинает свое восхождение с нею с порога на порог. На такой высоте она еще никогда не была – и все-таки ей хочется узнать еще больше. Тем более что в томящих ее предчувствиях многое для нее еще совсем непонятно. Ожидание счастья уживается в них с грустью.
И это! Они поднимаются выше. Ей хорошо и страшно, но и это еще не все счастье. Должно быть и еще что-то такое, о чем, наверное, знает этот колокольчик, зазвеневший у нее в сердце.
И тогда таким же колокольным звоном рассыпается под руками пианиста из Техаса та самая песня, которой, вероятно, его и сумели заманить эти березы сюда, на берега русского половодья:
Выйди, выйди, Иванку,
Заспивай нам веснянку,
Зимовалы – не спивалы,
Весну дожидалы.
От этого колокольного звона она и пробуждается от сновидений своего детства.
Теперь уже пластинка совсем закончила свой бег под корундовой иглой, и в комнате на веранде стало тихо.
И опять можно услышать, как сосет из-под яра глину Дон, а ветер, ударяясь грудью о грудь воды, издает вздохи – как эхо оркестра.
И гудки самоходных барж, теплоходов и катеров, бороздивших Дон вверх и вниз, вечно будили, куда-то звали. В густой туман они часто бросали якорь перед островом, прямо против дома, и по воде далеко расстилался звон сигнального колокола. В годы раннего Наташиного детства самым большим из ходивших в этих местах судном считалась двухпалубная колесная «Москва», окрашенная в цвет июньского неба, а потом, когда появилась у Цимлы плотина, из Волги по шлюзовой лестнице спустились еще невиданные здесь теплоходы и дизель-электроходы. Ночами блуждающие по Дону в поисках фарватера судовые прожекторы выхватывали из темноты унизанные капельками росы береговые талы, обремененные гроздьями лозы в придонских виноградных садах, изломанные улочки хуторов и станиц. Забирались и внутрь домиков, пробегая по затейливой резьбе старинных комодов и по зеркалам новомодных шифоньеров, по большим фотографическим портретам не вернувшихся с войны солдат и по спящим лицам их жен и детей.
Наташа внезапно просыпалась в своем углу на веранде. Вихрь света, сдернувший с нее покрывало сна, уже убежал вперед и блуждал где-то среди верб островного леса. Проплыли мимо огни – и вот уже заглох у станицы Раздорской звук судовой машины. И вновь обступала тишина, нарушаемая лишь гулкими толчками сердца.
Если долго вслушиваться в эту ночную тишину, она начинает звенеть все громче и громче. И вскоре уже все гремит: и Дон, и остров посередине Дона, и всходящая из-за ветвей леса багровая луна, и сама ночь, как огромный, опрокинувшийся над землей звездный колокол, в стенку которого с необъяснимой испуганной радостью ударяет сердце.
Весной и летом над Доном часто бушевали грозы. С утра небо чистое, как и вода в Дону, сквозь которую у берега можно пересчитать на его дне обросшие лохматой зеленью ракушки, солнце такое, что на песчаную косу нельзя смотреть, – и вдруг сразу поднимается низовка, вздымает бугры волн и срывает с них пену, из-за горы надвигается мрачная туча и над самым хутором лопается, разрешаясь бурным ливнем. Матери зовут с Дона детей исступленными голосами. Лодки с доярками и огородницами, застигнутые грозой на переправе через Дон, пляшут на гребнях волн. Наташа прибегает с берега домой, уже вся исхлестанная дождем, с платьицем в руке.
Весь день гудит Сибирьковая балка, по которой вода из степи рвется через хутор к Дону. Прямо через двор бушует ерик, несет вниз вымытые из-под Володина кургана глыбы ракушечника, окатыши красной глины. Вода у берега Дона, разбавленная глиняной жижей, становится ярко-оранжевой.
Луговой, если он дома, вооружившись лопатой, старается не дать потоку прорваться в подвал. Сбегающая из степи вода пахнет полынью, пшеничным полем. Деревянный дом на яру сотрясается от ударов, а если гроза продолжается и ночью, в нем все время светло от вспышек молнии. При этих вспышках задонский лес со стогами лугового сена на прибрежной опушке и с широкой просекой, уходящей к займищу, встает как нарисованный.
Наташа, которая в детстве страшно боялась грозы, а с недавних пор уже совсем не боится ее, или стоит под навесом крыльца и смотрит в ярко озаряемый грозой затопленный двор, или, босая, помогает матери собирать во все кадушки, корыта и ведра дождевую воду, или же так и засыпает у себя на веранде под канонаду грома.
А утром она опять проснется от тишины. Вымыт, выкупан каждый листик, прилипший к стеклам веранды. Дон опять такой же синий, как и утреннее небо. И во дворе, в саду, куда Наташа перебирается своим наикратчайшим путем, через окно, кусты винограда, кусты смородины – все окутано запахами теплых испарений, всюду капли дождя.
– Куда же ты? Завтракать! – кричит ей вдогонку мать.
Наташа и не оглянется. Конечно, на Дон, смыть остатки сна. Оттуда с Валей на старые колхозные базы за червями для рыбалки. А может быть, и прямо в степь, на бахчу, где сторож выставит циркулем из своей халабуды ноги и по целым дням спит, а двустволка висит у него над головой на сучке. По хорошему арбузу съесть – и весь завтрак.
Ну и мало ли еще куда, когда солнце еще только выкатывается из-за Дона.
Но и к повзрослевшему чубуку нельзя опоздать с помощью, когда его отрывает ветром. Иначе он может надломиться… И пожалуй, жена права, что впервые подуло этим ветрому них в доме не день и не год назад, а гораздо раньше. Но дальше жена умолкает, то ли сама недостаточно уверенная и своих догадках, то ли как будто боясь их. И он не вправе рассчитывать на ее откровенность после того, как однажды, когда, может быть, еще не поздно было подвязатьчубук, она сама попыталась поделиться с ним своими тревогами и наткнулась на его иронию, как на стенку.
Не день и не год назад, а, скорее всего, с того самого лета, когда последний раз приезжала из Москвы на каникулы Любочка. За все это время он так и не собрался подумать, что у него уже взрослая дочь, целиком поглощенный своей войной из-за этих склонов, краснеющих сквозь полынь глиной. И войне за то, чтобы засадить их виноградной лозой, не видно конца, и еще неизвестно, не опоздал ли он уже со своей помощью дочери. Он даже не знает, какая ей нужна помощь.
Конечно, где-нибудь на задворках памяти можно найти доказательства, что и он был для нее отцом если не лучше, то не хуже, чем для своих детей другие. Из своей памяти человек всегда властен извлечь только то, что ему надо. Сразу же появятся такие подробности, что впору будет и самому поверить в свою безгрешность. И то, как, несмотря на занятость, он все же находил время, чтобы спеть ей песню о казаке, которая потом так и сделалась ее колыбельной песней; и то, как ходил с нею за руку по бахче в конце двора, объясняя, где арбуз, где дыня, которые вскоре так и объединились у нее под одним названием абуздыня; и многое другое.
– Казака! – требовала она, едва успев обхватить своей ручонкой его жесткую шею, и не закрывала глаза уже вплоть до той самой поры, пока весенняя птаха не поселялась в калине у изголовья этого умершего на далекой чужбине казака.
Но часто Луговому и не надо было петь, а только прислушиваться вместе с нею к этой же песне, доносившейся из старых виноградных садов – из бригады Дарьи Сошниковой.
А на самом краю бахчи они обычно усаживались на больших белых тыквах, нагретых солнцем. Пахла агудина, и кузнечики стрекотали в дерезе, буйно-зеленой волной перехлестнувшей из двора через забор, через кромку яра… Сколько ни вырубали ее тяпкой, а то и топором, росла и даже сиренево, весело зацветала в самом конце лета, когда все остальное уже чернело, вяло.
Да и вообще-то отцовская любовь стыдлива. А то, что уехала, еще не причина, чтобы теперь взваливать на себя какую-то вину. Все дети уезжают. Странно было бы, если бы она решила навсегда привязать себя к дому. Не для того ли у птенцов и отрастают крылья, чтобы они могли покидать гнезда!
Да, уезжают все дети, но как?
И вот уже выясняется, что у той же самой памяти есть про запас и другое. Притом совсем противоположное тому, что она только что нашептывала на ухо.
Конечно, не хуже других родителей, но в том числе и таких, которые любят не столько самих детей, сколько свою любовь к детям. И забавляются ею, как игрушкой, вплоть до того часа, пока не грянет над ними колокол. Заигралась своими стекляшками, довольствуется теми ответами на свои «почему» и «зачем», которые у всех родителей наготове, – и хорошо. И она не усомнится ни в едином твоем слове, заглядывая снизу вверх глазами, зелеными, как вода под вербами под яром в полуденном Дону, и тебе спокойно…
Но заглянул ли он хоть раз поглубже в это зеленое зеркало, когда уже чем-то замутилось оно – как будто под яром забили ключи – и что-то поселилось там новое: то ли недоумение, то ли ожидание, то ли боль?! И обратил ли внимание, что с некоторых пор она уже не радуется воскресным разговорам с отцом и с матерью, а как будто даже избегает их. Чуть только все сойдутся за столом – спешит ускользнуть к, себе на веранду, а то и вовсе исчезнуть из дома. Благо пятилетняя соседская Верка так и околачивается внизу под верандой: «Наташа, пойдем на бугор», «Наташа, поедем на остров…»
Да, да, с некоторых пор Наташа уже не столько со своей всегдашней подружкой Валей лазает по балкам и буграм и ездит на остров, сколько с этой толстощекой, похожей на матрешку Веркой. Как будто стыдится Вали или боится, что по праву подруги та вдруг может задать какой-нибудь опасный вопрос. А Веркину пятилетнюю душу еще не смущают никакие подобные вопросы. Нет, и старая дружба с Валей не порвалась, но встречаются они все-таки реже и, когда Валя приходит, сразу же спешат уйти куда-нибудь в глубь сада или же на одну из приткнувшихся к берегу лодок. И там они уже не купаются подолгу, как всегда, не лежат рядом на горячем песке, а больше сидят поодаль друг от друга на лодке. Одна на носу, а другая на корме. Даже издали можно понять – между ними ни слова.
Вот и посмейся теперь над переизбытком родительских чувств. Вчуже все так объяснимо. При случае не отказывался посмеяться и Луговой. Особенно когда наведывался к нему из соседней станицы Раздорской его товарищ по кавкорпусу, отставной майор, и за стаканом пухляковского затевал свой обычный разговор, что они теперь не знают никакой чурыпотому, что не знали ни нужды, ни лиха. Если бы они пощеголяли в детстве с латками на заду, на них бы теперь не нападала эта плесень…
И никто бы тогда не смог заставить Лугового поверить, что наступит день, когда и он, оглянув с порога эти пустынные стены, вдруг нечаянно обнаружит, что глаза его мокры.
Теперь можно было самооправдываться или казнить себя сколько угодно. Тем более что и эти два сторожа памяти никак не могут договориться между собой, перейти от вражды к миру. Может быть, еще и потому, что один из них несет свою службу днем, а другой – ночью. Из-за того же самого куста, который при солнечном свете радует взор, ночью ползет опасность. Недаром же и в совхозном саду у Андрея Сошникова ружье все время так и стоит в сторожке в углу, а Стефан Демин то и дело открывает по ночам беспорядочную пальбу, будит хутор.
При ярком свете дня все начинает выглядеть не так мрачно… Все, что только мог ты дать своей дочери, ты ей дал, а может, и чуточку больше. С учетом опять-таки того, что время твое принадлежит не только твоей семье. И теперь радоваться нужно, что все это не пошло впустую. Не какая-нибудь никудышная оказалась у тебя дочь. Значит, удочки удочками, стекляшки стекляшками, а в голове у нее оставалось место и для другого. И когда наступило время, она выбросила все это под яр и, уезжая, даже не оглянулась на все, что оставалось у нее за спиной: на этот берег, Дон с островом, сады и все остальное, где прошла ее детская жизнь. Нет, оглянулась, но только один раз и уже на аэродроме в Ростове, когда, поднимаясь по лесенке в самолет, уже на самой верхней ступеньке коротко повернула голову и взмахнула рукой. И тут же, нагнувшись, скрылась в жерле люка.
И Луговой тем охотнее готов был порадоваться, что и взгрустнувшая было после ее отъезда жена повеселела.
– Этого, признаться, и я от нее не ожидала, – говорила она. – Впервые в жизни сесть в самолет, прилететь в Москву – и сразу сдать экзамены. И не куда-нибудь еще, а в иностранный.
И, поддаваясь ее настроению, он тоже начинал испытывать тщеславную родительскую гордость. Еще бы! Какой бы отец не порадовался на его месте. Сняться, поехать и поступить в институт. Прямо из станичной школы. И притом совсем не прибегая к чьей бы то ни было помощи, если не считать этих пластинок с уроками по английскому языку, прокручиваемых ею на веранде вперемежку с Чайковским, Рахманиновым, Листом. Со временем и Луговой уже знал, что нужно отвечать на вопросы, задаваемые англичанкой, обладательницей вкрадчивого баса, своему мужу, всегда полусонному Джону:
– Are you in the garden, John?
– Yes.
– What are you doing there?
– I'm reading a newspaper.
– Come here, or well be late for the theatre. [1]1
– Ты в саду, Джон? – Да. – Что ты там делаешь? – Я читаю газету. – Иди сюда, иначе мы опоздаем в театр (англ.)
[Закрыть]
И при этом им вторят скворцы, облюбовавшие крону клена над верандой. Антрацитово-черный скворец, спрыгнув из-под стрехи на самую нижнюю ветку и склонив набок головку, долго ждет, что ответит этот самый Джон на настойчивые вопросы своей супруги:
– Are you ready, John? Are you sleeping? [2]2
– Ты готов, Джон? Ты спишь? (англ.)
[Закрыть]
И, не дождавшись, вдруг хрипловато выпаливает!
– Are you ready, John? Are you sleeping?
Но тут же из-под стрехи его вечно голодные птенцы поднимают такой гвалт, что он, вспомнив о своих обязанностях, стремительно летит в совхозные сады за червями. Скворчата в ожидании затихают. И тотчас же становится слышно, как снизу, с тропки под яром, тянет скучающая в одиночестве из-за этого английского языка соседская Верка:
– Наташа, а на острове уже тютина поспела.
– Вот я тебе сейчас надаю по шее, будешь знать!
– Are you ready, John?
– Ax, ты еще дразниться!
И окно на веранде откидывалось так, что створка хлопала о сетку, как выстрел. Прыжок на землю – и вот уже четыре босые пятки залопотали под яром, удаляясь по стежке, натоптанной женщинами садовой бригады.
– Ай-яй! – с нарочитым испугом кричит Верка.
Ей только того и нужно. И теперь уже жди возвращения Наташи домой под самый вечер – с исцарапанными руками и ногами и с губами, черными от тютины и большими, как у негритянки. На лилово измазанном лице белеют одни глаза и улыбка.
Но все это только доказывало, что своей дочери он так и не знал, как должен бы знать отец, иначе бы теперь не открывалось его взору то, что до сих пор от него было скрыто. Конечно, еще и сейчас ему не поздно было укрыться за тем спасительным щитом, что обычно девочки бывают более откровенными с матерями. Разве действительно уже не наступила для нее та самая пора, когда на душу нападают и задумчивость и тоска, а внезапные бурные рыдания сменяются столь же бурными приступами смеха?
Но вот здесь-то и подстерегал его этот ночной страж. Андрей Сошников его памятисдавал пост Стефану Демину. А тому достаточно было напомнить Луговому о том, чем закончилась одна-единственная попытка его жены поделиться с ним своими опасениями, и сразу же то, что только что было залито ярким светом, снова затягивалось непроглядной тьмой. И робкий росток радости, едва проклюнувшись из зерна родительского тщеславия, тут же свертывался, как сгорал под жестоким суховеем.
Ночью, особенно если это долгая осенняя ночь и дождь с ветром скребутся в окно, как когтями, шарящий в потемках своей памяти человек обязательно должен наткнуться грудью на что-нибудь острое. Тревога и стыд ползут из-за каждого куста. Дорого дал бы теперь Луговой, чтобы совсем не было этого его разговора с женой, не были сказаны им в этом снисходительно-небрежном тоне слова в ответ на ее слова, что с Наташей что-то творится.
– А что особенное творится? Возраст есть возраст.
И когда жена попыталась пояснить: «Да, но у нее все это происходит как-то иначе…» – он не нашел ничего лучшего, как совсем уже по-мужски отрубить:
– Не она первая, не она последняя. Молодое вино, побродит и перестанет.
Но кому же еще, если не ему, и знать, что как раз молодое вино и рвет чаще всего обручи… И в душе у Лугового поднималась такая пальба, что тому же Демину в ночном совхозном саду и не снилась. За осеннюю длинную ночь можно успеть снова прожить всю свою жизнь. И человеку даже может начать казаться, что он чуть ли не враг своей дочери.
Запрокидывая на подушке голову, Луговой освещал язычком спички циферблат пристегнутых к спинке кровати часов – двенадцать, половина первого, час, два часа. Ох и много же еще оставалось до рассвета, когда снова приходит на дежурство в старый виноградный сад Андрей Сошников! А пока Демин палит и палит, пугая воров, а больше подбадривая себя. После каждого выстрела из конца в конец хутора катится собачий брех. Утром Луговой скажет в совхозе кладовщику, чтобы поменьше сторожам выдавали пороху – чтобы не будоражили по ночам людей.
Но перед самым утром и у Демина, должно быть, иссякает весь его огневой запас – тишина поселяется в садах. А в душе у Лугового все еще продолжается пальба. Несмотря на ее беспорядочность, все выстрелы ложатся прямо в цель. Ни за каким щитом нельзя укрыться от самого себя.
И все больше он склонен был согласиться с женой, что если бы теперь начинать искать, с чего это началось, то, пожалуй, с последнего приезда Любаши.
Нет, ее, конечно, ни в чем нельзя было упрекнуть, и, если бы она могла знать, на какую почву упадут ее семена, она бы, не взвесив, не обронила в своих разговорах с младшей сестрой ни слова, тем более что вряд ли еще где-нибудь можно было найти – по крайней мере, Луговой не встречал, – чтобы сестры вот так же любили друг друга.
Тем, должно быть, сильнее, что жили они не вместе: Любочка в городе с дедушкой и бабушкой, которые взяли ее к себе сразу же после смерти в роддоме ее матери – первой жены Лугового. Долгие разлуки подстегивали их любовь, а после того, как Любочка уехала дальше учиться музыке в Москву, они стали видеться еще реже. Каждый ее приезд всегда ожидался Наташей как праздник. За месяц она уже начинала срывать с календаря числа.
И потом уже никого, кроме Абастика,для нее не существовало. По целым дням сидит и слушает ее рассказы, как у них педагог требует от своих учеников, чтобы они играли не требухой, и как другой знаменитый профессор из их музыкального института на концертах своего сына отстукивает счет палкой.
Вооружившись каким-нибудь байдиком, Любочка показывает, как стучит этот профессор, которого она запросто называет Генрихом. Хохот стоит у них под кленом такой, что голова бабки Лущилихи в соломенной шляпе показывается из-за плетня за проулком. Это вызывает новый взрыв смеха, и Лущилиха перевешивается через плетень, обнаруживая, что она спасается от жары у себя во дворе в красном лифчике и в желтых рейтузах.
Кажется, они только и дожидались весь год, чтобы вместе посмеяться. Тем более что горючего материала за год у них набирается в избытке. Они наперебой подбрасывают его в костер веселья. И то, как Генрих, если его сын за роялем начинает мазать,демонстративно достает из кармана конфеты, шуршит обертками и вступает в разговор с соседними дамами. И то, как Михаил Рублев, которого Лущилиха допекла своими лекциями о вреде алкоголя, однажды явился к ней в отсутствие ее деда на взводеи целый час муштровал ее во дворе, заставляя ложиться и вставать под палящим солнцем.
У Любочки омытые слезами глаза еще больше чернеют, и Наташа никогда так не бывает похожа на нее. Общее у них не в глазах и улыбках, а в том, чем вдруг могут засветиться их глаза и улыбки. А потухнет этот свет – и опять никто бы не сказал, что они сестры. У одной волосы черные до синевы, а у другой – почти как та же красная глина, просвечивающая сквозь полынь на придонских склонах.
И пока не отсмеются, не выговорятся до конца, не отойдет от Абастикани на шаг, ловит каждое слово. Из дома – в сад, из сада – в дом, как нитка за иголкой. Как и в тот последний ее приезд, когда у них на все лето хватило разговоров о конкурсе Чайковского. Даже не столько о самом конкурсе, сколько об этом парне, который едва смог наскрести денег на поездку в Москву, а вернулся домой…
– Уже не фортепьянной Золушкой, которая никак не могла найти своего принца-менеджера, – заявляла Любочка. – Теперь-то уже никто не посмеет отрицать…
И в глазах у нее появлялся угрожающий блеск. Она, конечно, не пропустила ни одного тура, хотя достать билеты было совсем невозможно и милиция охраняла все подступы к залу Чайковского и к Большому залу. Конечно, при этом больше всего Наташе нравилось как раз то, от чего начинала ахать мать и даже отец покачивал головой, не подозревавший до этого, какие таланты водились за его старшей дочерью.