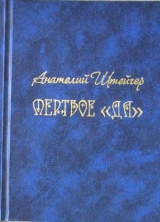
Текст книги "Мертвое «да»"
Автор книги: Анатолий Штейгер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Юрий Иваск. Рецензия на книгу «Дважды два четыре»
Анатолий Штейгер. «Дважды два четыре». (1926–1936).
Эта книга посмертная. Анатолий Сергеевич умер 24-го октября 1944-го года, 37 лет, от туберкулеза.
Штейгер лучший поэт того эмигрантского поколения, для которого Россия – это только детство и отрочество. Многие лучшие мечты этого поколения были связаны с родиной. Эти мечты – всегда вынужденно-зыбкие, слишком беспочвенно-романтические – попытался выразить рано умерший Николай Гронский, даровитый ученик Цветаевой. Голос у него был сильный, чистый, но ему не хватало серьезности. Действительно серьезен только тот, кто отваживается жить настоящим, и вот Штейгер туманно-радужным образам прошлой и будущей России предпочел безотрадное эмигрантское настоящее, в котором он себя чувствовал лишним, чужим, по-детски беспомощным, но всё-таки не отказывался от него. Вот что было содержанием и его жизни, и его поэзии: болезнь, нужда, скитания, жалость к другим и к самому себе, обида и изредка – короткая радость дружбы, легкое восхищение или какой-то проблеск надежды.
Мучительно живя настоящим, он постоянно говорил и миру: нет, не приемлю ничего или почти ничего! Но в его стихах слышится негромкое, почти беззвучное: да! К кому обращено это «да»: к Богу ли, к человеку? Ответить трудно. Но поэзия, как бы она ни была горестна, безнадежна, – всегда целебна: самый факт ее существования есть благо.
Штейгер не умел жить и не хотел никакого умения жить, но доверялся «сумраку неизвестному» поэзии, которая никакого рая не обещает, но всё-таки именно о нем напоминает.Еще он доверялся любви. Жить он уставал, но никогда не уставал любить: не бесплотной ангельской любовью, а человеческой любовью, то темной, то светлой. Вот его завещание:
У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы.
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… Как еще любили!..
И в этом даре любви, а не только в чистоте тона заключалось его «да».
Многие поэты его поколения были, может быть, богаче: Червинская – своими мыслями-настроениями, Поплавский – сюрреалистической своей фантазией, Гронский – мечтой о родине (и можно было бы назвать еще нескольких других), но Штейгер всех их значительнее благородно-скромным и серьезным пониманием реальности, правдивостью, а также своим мастерством; и он, конечно, не только эмигрантский поэт: ведь очень обидеться на жизнь (и всё-таки любить наперекор этой обиде) можно также, живя на родине.
Знаменательно, что в стихах Штейгера нет отзвуков блоковской поэзии. Сладостное совершенство поэзии Осипа Мандельштама также не соблазняло его. Учитель Штейгера – Иннокентий Анненский («внушенный» ему Адамовичем). Это тоже не «певучий» поэт. Но его голос «нежный и зловещий» нередко подымался до судорожного крика, он не хотел так легко сдаться: он всегда погибал, но как-то еще безнадежно защищался. А Штейгер был отродясь беззащитен; с самого начала понимал, что криком ничему не поможешь. Также в противоположность Анненскому, в стихах которого есть сознательная незавершенность, Штейгер всегда говорил ровно столько, сколько хотел сказать. По-детски беспомощный и по-детски обиженный, он каждое свое настроение передавал в законченной форме. Штейгер, заблудившийся ребенок, в творчестве своем неожиданно обнаружил также ту скромную сдержанность светского человека, который считает недостойным для себя высказывать чрезмерное волнение, стонать или говорить неясно, поэтому его стихи, при всей их интимности, сдержанны и закончены. Черновиков он не печатал.
Натура Штейгера детская. Тема его тоже детская – это обида. Но стихи его взрослые, и не только по способу выражения (форме), а прежде всего потому, что он думал, любил и писал «беспощадно всё видя насквозь».
«Новый Журнал». Нью-Йорк. 1951, № 25.
Вадим Морковин. Воспоминания
<…> В Моравской Тршебове я встретился с человеком, оказавшим огромное влияние на всю мою жизнь. Это был Анатолий Штейгер.
Его отец – Сергей Эдуардович – заведывал нашей гимназической библиотекой. Его сестры и брат – Алла, Лиза и Сережа – учились у нас. Самому же Анатолию методическое учение было не по нутру, у него было сердце конкистадора. Это сравнение не случайно – он был бароном. Но самое его баронство было необыкновенным, как все в нем. Когда в средние века образовывалась Швейцария, то все дворянство сражалось против крестьян, лишь тогдашний Штейгер был на стороне восставших. После возникновения Швейцарского Союза все дворянские титулы были отменены, только Штейгерам оставили их баронство, впрочем, без всяких привилегий.
Прадед Анатолия переселился в Россию, так что Анатолий был вполне русским человеком. Но необыкновенная история его семьи и врожденный романтический ум сделали его мечтателем, а позднее выдающимся поэтом. Некоторые предвзятые идеи, которыми он руководствовался, полагая, что так велит ему традиция рода и его личная честь, иногда заводили его в тупик. Он сознавал это, но отказаться от них не мог…
Но существовало еще одно обстоятельство, определявшее его мышление и длительное время оказывавшее иногда даже неосознанное влияние на его поведение. Хотя мы были друзьями, я очень долго не знал об этом. Лишь много лет спустя он мне признался, что его старший брат был «церемониймейстером» при советском правительстве и любимцем Сталина. Конец его был обычен – он был замешан (не знаю уж, действительно или же только «был пришит») в «заговор гомосексуалистов» и расстрелян.
Сергей Эдуардович был в ужасе, видя дружбу своего сына с «красным». Однажды он меня остановил на верхней аллейке.
Я обращаюсь к вам как к честному человеку, – сказал он. – Обещайте мне никогда не говорить с моим сыном о политике…
Мне было тем легче ему это обещать, что мы с Анатолием в сущности никогда в жизни о политике не говорили. Он умел уважать чужие мнения, я же в гимназии начал понимать, что людей надо разделять не по вертикальному признаку – налево, направо, а по горизонтальному – над или под. Этому в значительной мере меня научил мой одноклассник, уральский казак. Как-то он разбирался в своем шкафчике, а я стоял рядом и читал книгу. Артем вынул из какой-то коробочки асфальтовый крестик и подал его мне:
– Это моя бабка из Иерусалима принесла, – сказал он. – Возьми его…
– Да ведь это же тебе память о бабушке, – возразил я.
– Ничего, – отвечал он с доброй улыбкой. – Тебе благословление пригодится…
Этот крестик я свято храню до сих пор.
Анатолий Штейгер в гимназические годы увлекался Николаем Гумилевым. Подозреваю, впрочем, он не вполне точно представлял себе лицо поэта. Во всяком случае он подчеркивал влияние на него акмеистов. Со свойственной ему застенчивой улыбкой он мне читал (относя стихи к однокашникам, не понимавшим поэзии):
И с улыбкой безобразной
Он мне скажет – ишь,
Начитался дряни разной —
Вот и говоришь…
[75]
Как-то он мне признался, что хотел бы погибнуть на баррикаде, в кумачовой косоворотке. Это были мальчишеские бредни, но для него характерные.
Потом, сравнительно скоро, он уехал из Тршебовы. Переписка между нами продолжалась много лет. К сожалению, как будет рассказано позднее, она почти вся погибла после войны. В письмах Анатолий часто мне присылал свои стихи. Вот одно из них:
В. Морковину
В сущности так немного
Мы просим себе у Бога:
Любовь и заброшенный дом,
Луну над старым прудом,
И розовый куст у порога.
Чтоб розы цвели, цвели,
Чтоб пели в ночи соловьи,
Чтоб темные очи твои
Не подымались с земли…
Немного? Но просишь года,
А в Сене бежит вода,
Зеленая, как и всегда.
И слышится с неба ответ
Неясный… Ни да, ни нет.
В книге это стихотворение приведено без посвящения. Так как его письма ко мне погибли, я никак это доказать не могу, за исключением записи в тетради тех лет. Читатель принужден будет мне верить на слово.
<…> С переездом семейства Штейгеров в Берн Анатолию в сущности незачем было ездить в Чехословакию. Все же он раза два или три приезжал, но останавливался не у сестры, а в гостинице.
Брат и сестра очень друг друга любили, но это проявлялось у обоих различно. Анатолий говорил об Алле с удовольствием, даже с некоторой гордостью, она же над ним подтрунивала, прозвала его «Тося на лыжах» (по детской, еще дореволюционной книжке. Одновременно намек на его зимние поездки в горы, в Швейцарии) и часто писала на него пародии. Особенно удачной была придуманная ею выборка из газет с мнимыми высказываниями различных тогдашних «калифов на час» об Анатолии и его последней книге.
Среди них был и Гитлер, кричавший о жидомасонском заговоре и что таких, как Анатолий, следует «расстреливать на дому из пулеметов, на глазах у родственников. Дайте мне адрес Ганса из Селекта!..»
В другом шуточном стихотворении, посвященном Анатолию, Алла писала:
Сосал я с Жаном шерри-бренди
И дососался с ним до Швенди…
В Heiligenschwendi был туберкулезный санаторий, где лечился одно время Анатолий.
Хотя они оба принадлежали к младороссам, отзывались о Гитлере и его приспешниках с отвращением – даже в начале тридцатых годов, когда еще многие не понимали опасности национал-социализма. Обоим также был чужд расизм. Как-то мы сидели втроем в головинском ателье, разговор зашел об еврейской крови.
– Ну, – сказала Алла, – в нас ее нет.
– Откуда ты знаешь, – живо перебил Анатолий. – Можешь ты ручаться за какую-нибудь – нашу бабушку?..
– Нет, за бабушку ручаться не могу, – протянула она растерянно.
<…> Когда приезжал Анатолий Штейгер, то тоже бывал в «Ските». Кажется – дважды. В первый раз меня не было. Мансветов потом с хохотом мне рассказывал, что А. Л. Бем «пошел на Штейгера в атаку развернутым строем, но никто его не поддержал».
Естественно – большинство скитовцев было со Штейгером в хороших отношениях, а в доме его сестры место для схваток было неподходящее. Альфред Людвигович мне потом жаловался:
– Как же это так – мне никто не помог…
Надо сказать, что А. Л. Бем критиковал поэзию Анатолия не только в «Ските», но и в печати, на что Штейгер отвечал в печати же, причем справедливость требует отметить, что выступления Анатолия были классом ниже. Я уже писал о вымышленных Аллой интервью об Анатолии. Бему в них приписывалось следующее:
Простота. Пустота. Скобки.
Срамота…
Во второй раз Штейгер, собственно, никакого в собрании не принимал, а таскал отдельных скитовцев по углам и там, показывая свое стихотворение, спрашивал совета. В «Ските» это не было принято, притом он отвлекал от весьма интересного в тот день собрания. Не думаю, чтобы мнение спрашиваемого было особенно нужно, скорее это делалось в пику А. Бему, но тот не попался. Если не ошибаюсь, речь шла о его «Поэме о гимназисте» [76], где Анатолию не нравилось описание выстрела:
Звук был ровен и чист…
Я ему посоветовал вместо «ровен» – «четок», в духе скитских словосочетаний.
– Получится два «ч» за собой, – сказал он. – Черт знает что, чечетка какая-то…
Ученик парижской школы, он боялся аллитерации. Тут нас заметил Мансветов, которого взорвало, что Анатолий обсуждает стихотворение со мной, а не с ним. Сардонически смеясь, он прошел около, приговаривая:
– Штейгер советуется с Морковиным! Запомним это…
<…> Как Аллу, так и Анатолия Штейгера я видел лишь в 1938 г. В следующем она была у родителей в Швейцарии, а он – в санатории для туберкулезных.
К Головиным я заходил несколько раз, благо мы жили не очень далеко друг от друга – я на улице Den-fert-Rochereau, они – в Impasse du Rouet (в следующем году и я жил в этом доме). Саша был как всегда оптимистичен, хотя жилось ему в Париже отнюдь не легко – скульптурой он прокормиться не мог и зарабатывал на жизнь как маляр. Алла же полеживала, здоровье ее никак не улучшалось. На открытке, посланной тогда мной матери, нахожу приписку – «Сердечный привет. Бегаем с Вадимом. Алла». Вспоминаю, однако, лишь две встречи вне стен ее дома – раз она мне показала Rue du chat qui peche, ставшую известной после выхода книги Иоланы Фёльдеш, в другой – на литературном вечере молодых писателей, где она читала стихи. У меня сохранилась ее фотография на эстраде, сделанная им.
В одно из моих посещений она сказала:
– Мне очень хотелось бы иметь портрет Сен-Жюста…
– Ну, – подумал я, – в Париже найти его, вероятно, не так уж трудно…
Действительно, несколько дней спустя, роясь на набережной в ларьке у букиниста, я его нашел. Алла, у которой сидел Вл. Смоленский, меня встретила с восторженным изумлением, словно бы я раздобыл необычайную редкость.
Вспоминаю также, что как-то мы сошлись у Аллы с Анатолием и провели очень приятный часок. Помимо тршебовских воспоминания, мы поговорили и о младоросских делах. Алла рассказывала оживленно о Казем-Беке, Анатолий же молча слушал – ему о «второй советской партии» рассказывать не приходилось. Саша по обыкновению подвел итог:
Ай да Казем-Бека,
Не глупее человека…
Это была пародия на печатавшийся тогда в одном из русских журналов детский стишок о собачке Пеке. Алла побрюзжала, и этим разговор закончился.
Анатолий нигде не выступал и ни на какие литературные собрания не ездил. Ему всё это уже надоело, да и здоровье не позволяло. Но в мой приезд он выбрался в Париж на большое младоросское собрание.
Его положение в этом движении было прочным, но личное его отношение к ним было весьма своеобразным. Он всегда подчеркивал, что он младоросс в силу избранного им девиза – fiddle a son Roi [77]. В своих же письмах, а особенно в разговорах, он отзывался о них достаточно иронически. Так, с хохотом он мне показывал фотографию колонны младороссов.
– Посмотрите, какой блеф, – восклицал он. – Ведь последние шеренги – это дети на стульях. Черт знает что такое…
В своих письмах ко мне он писал – «пятилетка, по-видимому, удастся» – дня эмигрантского молодого человека признание весьма необыкновенное. Но он глубоко переживал трагедию русской интеллигенции и с отчаянием приводил стихи Михаила Кузмина, окольным путем дошедшие из России:
А мы, как Меншиков в Березове,
Читаем Библию и ждем…
[78]
– На днях я вам покажу нечто невероятное, – сказал он в тот раз у Аллы и добавил, чтобы я в назначенный день ждал его дома в темном костюме. Он заехал за мной на такси и повез далеко, чуть ли не на окраину. Мы остановились перед красивым домом с колоннами.
– Идите, – сказал штейгер.
Я поднялся по лестнице, он расплачивался с шофером. Навстречу двинулись молодые люди с голубыми повязками на рукавах, но подошедший штейгер сухо сказал:
– Это со мной…
Мы вошли в зал, уже почти полный.
– Налево – наши ихтиозавры, – промолвил Анатолий.
Там стояли старики в старинных расшитых мундирах, старые дамы в белых платьях, с бархотками на шеях. Потом растворились двери и вошел пожилой человек в визитке и брюках в полоску, ведший под руку молодую даму – великий князь Димитрий Павлович и великая княжна Кира Кирилловна.
Я во все глаза смотрел на убийцу Распутина. Он был сухощав, с большой залысиной, обыденной внешности, с серыми, свойственными всем Романовым глазами. Печать вырождения коснулась его.
Великая княжна была в темном платье. Она была темноволоса, хороша собой.
Оркестр исполнил «Боже, царя храни». Потом все простерли вперед правую руку и прокричали – Глава, глава, глава!» Лишь два человека в зале не подняли руку – я и великая княжна.
Впрочем, самого главы, т. е. Казем-Бека, в зале не было.
– Partons [79], – сказал Штейгер. – Теперь будут представляться…
Мы спустились по лестнице. Идя к ближайшей стоянке такси» мы услышали крик в соседней улице. На мой вопрос Анатолий ответил вполне равнодушно:
А это здешние коммунисты шумят…
Это меня поразило. Рядом – такие исключающие друг друга собрания. Настроение у меня было сумбурное после всего пережитого. Я был, однако, благодарен Штейгеру, что он мне дал возможность увидеть дядю последнего царя и дочь претендента.
<…> Во время войны я получил последнее письмо от Анатолия Штейгера, едва ли не после пятилетнего перерыва. Это была его лебединая песнь. Он писал мне из Швейцарии. Письмо было чрезвычайно благородное, написанное с целью поддержать меня в трудных условиях оккупации. Оно действительно мне очень помогло. Много лет спустя я узнал, что в 1943 г. он умер от туберкулеза [80]. Желая материально поддержать сестру Аллу, он вместо требующегося лечения поступил на службу. Это его скосило.
В конце мая 1945 года я стоял на часах в дверях междугородней телефонной станции. На мне был мундир революционной гвардии.
В зал почтового отделения вошла высокая представительная дама в сопровождении другой, помоложе. Пока она задержалась у окошечка, я спросил ее спутницу:
– Простите, это не госпожа Анна Тескова?..
– А почему вы хотите знать? – ответила та, смотря на мою винтовку.
– Много лет назад я был ей представлен…
Я вернулся к дверям, а дамы, поговорив между собой, подошли ко мне. Анна Антоновна меня вспомнила и пригласила к себе. Так я снова попал на Грегрову улицу № 18, где потом бывал много раз.
Впервые же я представился обеим сестрам еще в начале 30-х г. В. Ф. Булгаков меня попросил зайти к Тесковым по какому-то цветаевскому делу, подробностей, однако, я не помню. Дело было незначительное, я изложил его в прихожей. Седая старушка – их мать – стояла в дверях комнаты направо и ласково мне кивала.
Потом, в течение многих лет, я видел сестер лишь в обществе. Впрочем, с Анной Антоновной мне пришлось свидеться лишь раз или два. Каждый раз мы говорили о Цветаевой, но из-за присутствия чужих людей только формально, а потому ничего из этих бесед не запомнилось. Потом был длительный перерыв.
В следующий раз я попал в их дом уже после ее смерти. К Августе Антоновне я ходил много лет. Она жила одна, ее уплотнили, многое из их личного архива было утрачено. Она мне значительно помогла советами и рассказами в цветаевских делах, в частности она весьма обстоятельно пробрала со мной мою до сих пор не опубликованную работу о Цветаевой. Но когда я ее попросил рассказать о жизни своей и сестры, то она решительно отказалась.
– Это ни к чему, – ответила она. – Я вам помогаю в память сестры…
Основным ее качеством была скромность, желание оставаться в тени.
Августа Антоновна мне рассказала два цветаевских случая.
Раз Анна Антоновна приехала к Цветаевой в гости во Вшеноры. Марина Ивановна ей предложила свежесваренное варенье из лепестков роз. Присутствовавший С. Я. Эфрон сказал:
– Не ешьте… Это совершенно несъедобно…
Как-то Анна Антоновна пришла в Едноту. В соседней зале были сложены стулья. Два из них были поставлены, там сидели Марина Ивановна со Слонимом. Подходя, она услышала их громкий смех. Когда она спросила об его причине, то Слоним, указывая на Цветаеву, сказал:
– Она прекрасно говорит по-итальянски!..
– Ах нет, это он говорит по-итальянски, не я… – возразила она.
Видя мой постоянный интерес к Цветаевой и понимая, что никто из ее знакомых, за исключением меня, не в состоянии обработать цветаевские материалы, находившиеся у нее, Августа Антоновна мне их незадолго до своей смерти целиком подарила. Это было сделано без всяких условий, но я всегда себя полагал не их владельцем, а лишь душеприказчиком обеих сестер [81]. <…>
Я попытался воссоздать свой путь литератора. Описание прилегает к моей жизни, как ряд Фурье к большой функции. Я писал все от первого лица, надеюсь, без всякого самолюбования, но как свидетель. Свою пристрастность я не отрицаю.
Воспоминания. «Русская литература». 1993, № 1.
Публикация и примечания Д.В. Базановой.
Юрий Терапиано. Встречи: 1926–1971
<…> Барон Анатолий Сергеевич штейгер родился 7 июля 1907 года в Киевской губернии и происходил из старого швейцарского рода, одна из ветвей которого переселилась в начале прошлого века в Россию. Его детство протекло в украинской усадьбе, затем в Константинополе и Чехии.
«Этот день», стихи, Париж, 1928, «Эта жизнь», стихи, Париж, 1932, «Неблагодарность», стихи, изд. «Числа», Париж. 1936 и посмертная книга стихов «Дважды два – четыре», изд. «Рифма», Париж, 1950 г. составляют литературное наследство Анатолия Штейгера.
Среди напряженной, активной и шумной литературной жизни предвоенных лет А. Штейгер прошел стороной, своим особым путем, и в то же время был одним из главных выразителей «парижской ноты». Больной, вынужденный часто выезжать из Парижа, духовно он был б ольшим «парижанином», чем многие участники парижских литературных кружков. Его поэзия, его мироощущение, его манера видеть и чувствовать внутренне связаны с тем горьким опытом пореволюционных зарубежных поколений, который лег в основу новейшей поэзии.
Худощавый, слегка горбившийся, весь какой-то легкий и хрупкий, с тонким выразительным липом, Штейгер производил впечатление незащищенности, обреченности. У него был туберкулез в тяжелой, безнадежной форме, он постоянно должен был или лежать в санатории или жить на юге – в Ницце он провел несколько лет. Несмотря на свою болезнь, Штейгер вовсе не был в стороне от жизни, он живо интересовался всем и по характеру своему, отнюдь не мрачному, любил жизнь, и шутки, и веселье. В первые годы, когда мы все с ним познакомились, в нем было много юношеского энтузиазма; он с увлечением вел литературные разговоры и даже увлекался политикой – был каким-то «должностным лицом» в партии младороссов.
Редкий случай в литературных кругах – у Штейгера, насколько я знаю, никогда не было врагов и никто не говорил о нем дурно. И в то же время Штейгер вовсе не был безличным, соглашавшимся со всеми, какими обыкновенно бывают люди, которых «все любят». У него было свое миросозерцание, на котором он очень настаивал, свои политические убеждения – пусть еще юношеские, – было «свое лицо».
Во время последней войны, совсем уже больной в Швейцарии, он нашел в себе силу сделаться журналистом, вел активную борьбу с гитлеровской пропагандой – настолько, что немцы занесли его в список подлежавших уничтожению лиц, беспокоился о своих друзьях, находившихся в оккупированной Франции, остро переживал все тогдашние события.
Издательство «Рифма» поступило правильно, начав свою серию книг парижских поэтов с книги Штейгера. Поэзия Штейгера является весьма характерной для поэтической атмосферы, создавшейся в Париже в тридцатых годах. Есть много способов для подхода к творчеству того или иного поэта. Самое важное для меня – это наличие «своего голоса», личной, всегда неповторимой манеры видеть и ощущать. Среди множества сборников стихов, порой стоящих на высоком техническом уровне, я ищу и отмечаю тех немногих поэтов, которые дают нам не умелые перепевы прежнего, не формальное, пусть виртуозное, мастерство, но имеющих личную манеру, т. е. что-либо прибавляющих от себя к тому, что до них уже найдено.
Анатолий Штейгер был одним из таких немногих. Он принадлежит к типу поэтов «с коротким дыханием», диапазон его не широк, но голос на редкость истый и подлинный.
Штейгер сдержан, точен, глубок и правдив. Если говорить о поэтической преемственности, нужно назвать имена поэтов петербургской школы: Иннокентия Анненского, Анны Ахматовой, Георгия Иванова.
Эти влияния Штейгер сумел претворить по-своему. Уже в «Неблагодарности» он находит вполне самостоятельные приемы, свои собственные, ему ишь одному присущие интонации:
Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увы, настанет этот час, —
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас,
И жизнь – какой она на самом деле…
Штейгер искал «правды без прикрас», строго проверял свое отношение к жизни, к любви, к смерти и к религии. Он не мог удовлетворяться «приблизительными словами» и стремился выразить то подлинное, ради которого стоит жить и стоит писать.
Поэтому короткие, лишенные всякой искусственности, сдержанные и как бы умышленно приглушенные строфы стихов Штейгера обладают внутренней убедительностью. Его прием отступлений, его манера порой вдруг, как бы на полуслове, обрывать строку – когда он чувствует, что говорить дальше было бы претенциозно или внутренне нецеломудренно, – составляют это «открытие», – еще при жизни Штейгера некоторые поэты старались воспроизводить его приемы. Как пример «обрывающегося стихотворения», процитирую одно из таких:
До того, как в зеленый дым
Солнце канет и сумрак ляжет,
Мы о лете еще твердим.
Только скоро нам правду скажет
Осень голосом ледяным…
Выразительность этого стихотворения основана на безошибочно найденном моменте, когда нужно остановиться, замолчать.
Штейгера нельзя назвать поэтом отвлеченным, уходящим от жизни, напротив, несмотря на свою кажущуюся уединенность, он связан с окружающей жизнью, принимает ее, хотя и видит непрочность и ненужность всяких «возвышенных обманов».
Обману или самообману поэт предпочитает правду, как бы страшна и горька она ни была. В отношении к смерти (Штейгер по опыту знал, как страшно стоять на краю гибели) он стремится сохранить трезвое отношение. Модная в свое время в Париже тема «литературного умирания», риторически-лживая игра со смертью в стихах, которой занимались тогда, да и сейчас еще занимаются некоторые поэты, отталкивала Штейгера. Далекий от всякой позы и желанья щеголять своим подлинным неблагополучием, он не скрывал, что любит жить, и говорил в своих стихах о смерти, как о неизбежном, трудном часе.
Какая сила любви в коротком и, на первый взгляд, даже неярком стихотворении, которым сам Штейгер закончил составленный им перед смертью сборник стихов «Дважды два четыре», изданный потом «Рифмой»: это стихотворение, в его представлении, вероятно, было выражением «самого главного», последним словом:
У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы.
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… Как еще любили!..
А.С. Штейгер скончался в Швейцарии 24 октября 1944 года.








