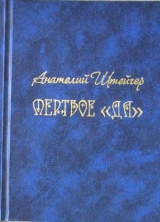
Текст книги "Мертвое «да»"
Автор книги: Анатолий Штейгер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Мое оправдание – 1) книжка моя не вышла, иначе Вы бы ее давно имели. Критика в «Нови» сделана, подозреваю, по рукописи. Иртель пятый месяц мусолит эти несчастные 40 страничек, напечатать которые в Париже можно было бы в неделю. С его стороны это просто… умолчу. Все ждал выхода книжки, чтобы Вам написать. 2) У меня опять шла кровь горлом, что означает еще Н-ое количество месяцев ссылки и поэтому у меня кофар. Кажется, уже Вам писал, что на Рождество был в Берне, куда приезжала Алла [124]. Мы с ней провели два дня вместе, она привезла массу анекдотов, сплетен и литературных историй, до которых я смертельный охотник.
Думаю, что Вы не очень сердитесь на Адамовича за его рецензию. А М. совсем не «мой», как Вы пишете. И вряд ли найдется на него охотник. Очень прошу меня не забывать.
Ваш Толя Штейгер
Где Сирин, дайте его адрес, чтобы я ему мог послать книжку, когда она наконец выйдет.
Heil.Schwendi, 26 июня 1936 г.
Дорогая Зика, что можно требовать с узника, сидящего на веревочке – имею право писать «второй год», потому что на днях был год, как я попал на эту несчастную гору… И кому? – Вам, после того как Вы только что побывали в Париже. Поэтому не прошу извинения за мое недолгое молчанье и вместе с тем нагло требую, чтобы Вы мне немедленно ответили на это письмо.
Париж. Всё о Париже. Решительно всё, начиная со сплетен… и кончая сплетнями, потому что это самое интересное и все равно ничего другого нет. Кто, как, где, почему, с кем, кого и каким образом – ведь Вы вращались именно в том, с позволения сказать, – не смешивать – с Фондаминским Кругом [125], которого я еще не получил. Не думайте, что я удовлетворен Вашей открыткой. Она только разожгла мое любопытство.
Парижские письма, которых я получаю в общем довольно много, – отвратны. Каждый и каждая элегантно жалуются на серость и скуку жизни и окружающей среды, дают понять в изысканных выражениях о своей избранности и своей отчужденности от окружающей среды – все это не длиннее моего стишка с таким же количеством скобок… Вы, я знаю, открещиваетесь от декадентства – даже эпистолярного, – и потому я знаю, что при желании – пожелайте – Вы вполне в состоянии написать письмо по «старой орфографии» – т. е. со смыслом, с чувством и с расстановкой.
Кстати, не знаете ли Вы, что такое с Адамовичем? Три четверга нет его статей и Сизифа, три понедельника нет Пэнгса [126]. Запрашивал в Париже, но в ответ всякие бредни о непонятых душах и о том, что на Монпарнасе закрыты кафе. Закрытие кафе на Монпарнасе – совершенно серьезно – есть предвестие конца света. Чтобы я дал, чтобы выйти из метро Vavin и дойти хотя бы до цветочного магазина Bauman (via Dome, Coupole, Select, Napoli, разумеется).
Мне в общем гораздо лучше, и я думаю выйти на свободу через три-четыре месяца. Скучно, что доктора меня предупредили, что вполне здоровым я уже никогда не буду и что мне, в сущности, ничего нельзя. К ноябрю я надеюсь быть в Париже и приняться за половину старого, я буду все-таки осторожен и потом – зимою, если Вы меня пригласите и еще будут действовать железные дороги и не будет войны, я приеду к Вам в гости… надолго. Вообще я решил больше не притворяться и честно нигде не жить, а путешествовать. До сих пор я делал это под благовидными предлогами, но они, кажется, уже все исчерпаны, и потом мне их лень искать.
Вы бы пришли в ужас – как я и сам прихожу, – до какой степени я не по дням, а по часам – «левею». Объяснение этому простое: я пришел к мысли, что всему объяснение в том, что «мы» (т. е. руководящие классы) величайшее сокровище человечества – Христианство – не только не попытались передать «малым сим» (народу, пролетариату), но обезвредили, засахарили и употребили и пытаемся еще употребить на защиту наших материальных мерзостей. А если так, то ни удивляться, ни возмущаться – нечего. На смену нам, культурным, лощеным и «благородным» антихристианам – приходят, вернее врываются, антихристиане – варвары, огромные, варварские толщи народов, которые мы до сих пор сдерживали при помощи силы и церквей. «Мы» – это даже, и по счастью, не совсем верно, – нас давно уже смела буржуазия и разночинцы, час которых наступает теперь. «Мы» же на это зрелище можем смотреть даже и не без злорадства: «наш» главный враг – буржуазия, и к тому же она повторила все наши ошибки и преступления. В этой схватке все мои симпатии на стороне варварского пролетариата, хотя я уверен, что он тоже сделает себе из жизни ад, и так до скончания века…
О Пушкине [127]не может быть и речи. Несмотря на кликушество подъюбилейное в эмиграции и в России, где воскресший квартальный отбирает подписку в любви к нему, я слишком знаю, что такое Пушкин, и никогда не посмею его коверкать. Помните, Адамович как-то написал: «поклонник Пушкина, но человек не глупый…» – и как это верно! Ханжество кругом имени Пушкина подчас прямо невыносимо.
Ваш преданный Толя Штейгер.
Вы писали, что мои книжки отдаете для распространения Беляеву. Очень прошу Вас отобрать у него и переслать мне что осталось, так как книжка разошлась вся и у меня нет ни одного экземпляра, а ее все требуют… Кто бы подумал! Очень прошу совершенно честно написать, что Вы слышали о «Неблагодарности» [128]в Париже. В особенности все пакости. Будьте мне другом.
Зика, нет ли у Вас Блока? Если есть, пришлите сразу, просто умоляю, я очень скоро и в сохранности Вам его верну.
26, av. Chilperic, Noisy-le-Grand, Seine. 8 декабря 1936 г.
Дорогая Зика, целую вечность Вам не писал, не потому, что стал изменником и забыл старую дружбу, а просто не было необходимого спокойствия – все были какие-либо fails divers (обстоятельства), выводящие из равновесия: операция, усталость после нее, приведение в порядок матерьяльных дел, дела сердечные, приготовление к отъезду и наконец – Париж.
Сейчас живу под Парижем в Нуази – в Доме отдыха, в совершенной деревне, продолжая санаторский режим и вообще мало чем изменив образ жизни, который я вел в Швейцарии.
Здесь даже еще мертвее и тише, но я на это не жалуюсь, так как несколько дней, проведенных в Париже показали, что «старое» (Coupole, Napoli, Select, обед 4 часа, сон в 9 утра, разговоры о поэзии Мандельштама [129]в последнем метро) – уже мне просто не под силу, и я к ним до конца утратил всяческий вкус.
Впрочем, все на Монпарнасе очень милые и симпатичные и прекрасно меня встретили. Сразу же оказалось, что все вечера расписаны – вечер Ходасевича о Горьком, доказующий, что Ходасевич – джентльмен и не забыл гостеприимства на Капри; вечер Зурова у Рахманиновых; доклад Адамовича о Жиде, где была страшная толчея и Адамович говорил умно и тонко, а остальные нет, но о чем он говорил, Вы уже знаете из его двух статей в «Последних новостях». Меня избрали в Круг – философский клуб Фондаминского, но я пока туда не езжу и предпочитаю философии митинги Народного фронта, где грозная, грязная, искренняя и отчаявшаяся толпа верит в то, что у всех будет бифштекс и рента и что жизнь завтра будет честной и веселой, стоит только вырезать аббатов и посадить де ля Рока [130]на фонарь, сжечь Нотр-Дам и 16-й и 17-й аррондисманы. Я всей душой с пролетариатом против буржуазии, но боюсь, что приехал под самый занавес и chambardement general (Великий переворот – фр.) – не за горами.
20 декабря будет мой вечер. Обращаюсь к Вам с большой и очень спешной просьбой: соберите и пришлите все непроданные в Брюсселе мои книжки, чтобы я получил их не позднее 18-го, так как, конечно, на вечере их можно будет распродать. Очень, очень прошу Вас об этом.
Не собираетесь ли Вы в Париж? Очень был бы рад с Вами увидеться и поговорить. У меня остались самые лучшие воспоминания о Брюсселе. Целую Ваши ручки.
Ваш преданный Толя Штейгер.
(Открытка) 3, av. de la Princesse. Le Vesinet (S-et-O), 4 января 1938 г.
Дорогая Зика, от души поздравляю Вас с праздниками. Что случилось с нашей перепиской? Умерла она не по моей вине. У меня к Вам неизменные самые лучшие чувства.
Весь прошлый год я провел в путешествиях – Париж – Берн – Базель – Италия – Ницца – Милан – Венеция – Триест – Любляна – Сараево, опять Италия, опять Швейцария – и сейчас до весны прочно сижу под Парижем. Пишу и печатаюсь. Очень бы хотелось знать, что Вы делаете и в какой Вы сейчас «фазе». Буду очень рад, если напишете. По моим расчетам, у Вас есть еще 4–5 моих книжек, если они не проданы и если я не ошибаюсь, очень прошу вернуть, здесь они разошлись.
Сердечный привет Вашему мужу.
От души Ваш Толя Штейгер.
(Открытка) Истамбул, 19/3 – 1939
Дорогая Зика, только что ходил по рю де Брус около Маяка и с нежностью вспоминал старые хорошие времена. Все время думаю о Вас, в Эюбе, на Принцевых Островах, повсюду, где мы бывали вместе.
Осень я провел в Рагузе и Албании, а всю зиму в Афинах. Сейчас пережидаю грозу в Истамбуле – двум смертям не бывать, а одной не миновать. Неужели опять начинается светопреставление?
Обнимаю Вас, если не будет катастрофы, еще увидимся.
Ваш друг Толя Штейгер.
Зинаида Шаховская. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991.
ИЗ ПИСЕМ М. ЦВЕТАЕВОЙ
Анна Саакянц. Из книги: Марина Цветаева жизнь и творчество. (М., 1999)
<…> То был двадцатидевятилетний поэт Анатолий Штейгер, потомок старинного баронского рода; брат поэтессы Аллы Головиной. Одинокий, неизлечимый мизантроп. Уже в ранних стихах – невытравимая хандра, «душевная нужда», «сомнение и боль», тоска на берегу Сены по Неве, тоска, которую поэт не желает отдать никому. И печаль по «милой покинутой Руси», по «бедной далекой Украйне», и тени и видения осеннего Царского Села; и «странные жуткие сны». Мы говорим о стихах из первого сборника «Этот день», вышедшего в Париже в 1928 году. Потом была такая же тоненькая книжка «Эта жизнь», выпущенная в 1931 (так у автора. – В. К.).
Только что вышла его третья книга – «Неблагодарность». Ее он и прислал Цветаевой.
Два мотива, две темы слились в единый стон: неразделенная любовь – и заброшенность, никому ненужность в этом мире. «До нас теперь нет дела никому – У всех довольно собственного дела, И надо жить, как все, – но самому…»; «Никогда он не поймет Этой нежности и боли…»; «Зови не зови – не придет. Упрямее линия рта. Так каждую ночь напролет, Так каждую ночь – до утра». И все в этом духе» – выстраданное и неподдельно искреннее. Последняя строфа заключительного стихотворения книги («Ночь давно обернулась днем…»):
…Это трудно в слова облечь,
Чтоб увидели, полюбили…
Это надо в себе беречь,
Чтобы вспомнить потом в могиле.
Интересно, что по авторским пометам над некоторыми стихами, начиная с 1931 года и кончая 1936-м, можно видеть, сколь мятущийся образ жизни вел этот несчастный, не рожденный для любви к женщине, гонимый всю свою недолгую жизнь вселенской скорбью. Париж – Марсель – Ницца – Лондон – Рим – Берн – Берлин – Прага – Брюссель (он по нескольку раз возвращался в те же города, колеся по странам: «Все столицы видели бродягу», – писал он) – и наконец швейцарский Хейлиген Швенди, куда бросила его тяжелая болезнь. «Есть что-то очень детское и птичье В словах, делах и снах туберкулезных», – читаем в стихотворении 1935 года, вошедшем в маленькую книжечку «2x2 = 4», которую он подготовит незадолго до смерти – в 1944 году. Дарование Штейгера было средним, словарь – ординарным. Неординарной была одна лишь тоска – врожденная, неотступная, роковая, на которую он был обречен и которая, вероятно, сократила его жизнь.
Сохранилась рукопись Штейгера – «Детство» (напечатана в 1984 г. в «Новом журнале», № 154): о жизни в малороссийском имении Николаевка, в окружении родных и близких: родители, сестра, польская «Тетя», фрейлейн Марта; идиллическая картина уборки хлеба – паровик, молотилка, украинские мужики; «полусон» детства; и такая подробность: «Меня наряжали девочкой, и я носил длинные волосы, которые вились и причиняли мне немало мучений при расчесывании…» Затем – жизнь в Петербурге; чудеса игрушек в Гостином Дворе; промелькнувший на Невском в санях царь. И наконец – кошмарная картина бегства из Одессы в 1920 году, когда семья чудом прорвалась на английский ледокол, не потеряв никого из людей и оставив на берегу множество сундуков со всем состоянием… Счастливое, изнеженное детство – и жуткий перелом судьбы в самом трудном возрасте во многом, конечно, обусловили неизлечимый пессимизм характера этого человека и его стихов.
Получив отклик Марины Ивановны (он не сохранился), Штейгер, по-видимому, ответил письмом, являвшим собою «крик отчаяния»; письмо также не сохранилось, однако известно, что поэт просил у Цветаевой «дружбы и поддержки на всю оставшуюся жизнь» и говорил о преследующем его страхе смерти»: ему предстояла операция. Цветаевский ответ и на это письмо, по-видимому, не уцелел; смысл его состоял в вопросе: "Хотите ко мне в сыновья?» Штейгер прислал исповедь на шестнадцати страницах; вероятно, – прообраз будущих воспоминаний «Детство» (увы, она скорее всего не сохранилась). Рассказывал о своих ранних годах, о любимых и навеки утерянных людях, об ужасе отъезда из Одессы. О содержании его письма мы можем судить по ответу Марины Ивановны от 29 июля.
То была, если перейти на образы самой Цветаевой, полногласная органная буря дремавшей и разбуженной скалы. Цветаева отозвалась – всею собой. Она снова любила. Любила материнской, сестринской, женской любовью. Въяве переживала историю его души, «с тетей и с Frl. Martha – и с тем корабельным канатом, режущим жизнь и душу надвое – и с нищенством» и т. д. Но доминировало над всем – материнское чувство: «…и если я сказала мать– то потому, что это слово самоевмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и – ничегоне изымающее… И хотите ли Вы или нет, я Вас уже взяла туда внутрь, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, видяуже внутри…»
«Не успев рассмотреть». Ее рука бессознательно выводила слова, опережающие события, предрекающие их роковой исход. И дальше: «Мы от нетерпения (у души – свои сроки) опережаем настоящего партнера и клонимся к любому, внушая ему быть – любимым».
В июле, 31, она вернулась в Ванв; оставалась неделя, чтобы подготовиться к новому отъезду: в Верхнюю Савойю, где жила далеким летом 1930 года. Сергей Яковлевич находился тогда в русском пансионе Шато д'Арсин (где, заметим, обдумывались и вершились тайные «союзвозвращенческие» дела, о которых Марина Ивановна мало что ведала). Теперь она с сыном сама жила в Шато д'Арсин; она уже не огорчалась сырости этих мест и не сравнивала их с Чехией, а радовалась – тому, что оттуда всего двадцать пять верст – рукой подать было до Швейцарии, до Женевы – до него, самовольно присвоенного и горячо любимого сына: слабого, больного, так жаждущего сочувствия. «Я иногда думаю, что Вы – я» (письмо от 2 августа).
Восьмого августа в санаторий к Штейгеру пошло очередное письмо – в ответ на его весть о перенесенной операции, – и весь месяц Марина Ивановна писала ему почти каждый день; посылала открытки с видом старого Петербурга; заносила в тетрадь предназначавшиеся для Штейгера строки (ежедневные), составившие «непрерывное внутреннее письмо». Так уже было по крайней мере дважды в ее переписке: с Е. Ланном в далеком 1920 году, с А. Бахрахом в 1923-м. Как и прежние (включая переписку с А. Вишняком в 1922 году), так и этот очередной эпистолярный роман писался самою жизнью, – типично цветаевский одностороннийроман. Ответы Штейгера, кроме одного, не сохранились.
Письма к Штейгеру – энциклопедия любви, разумеется, на цветаевский лад, с ее абсолютом отношений, с ее собственничеством, с ее беспредельным по силе женским началом, и, главное, с кульминацией и развязкой. «Вы – мой захват и улов»; «Никогда никто к Вам так всем существом не шел, как я сейчас»; «Не удивляйтесь гигантскости моего шага к Вам; у меня нетдругого» – такие слова могли испугать, смутить. Но «шаг»-то был – не в жизни, а в мечте. Жизнь как бы разделилась. В тетрадях (ибо сначала письма писались туда) была своя, в реальности – иная. Из писем встает образ не столько их автора, сколько лирической героини. Ей необходимо со-чувствовать, со-страдать, со-болезновать своему партнеру – в первородном, непереосмысленном значении этих слов. Короче: быть им, быть до такой степени, что его вроде бы уже и нет. Она требует от несчастного, ожидающего операции, быть может роковой, подробного отчета: «что у Вас, в точности, с легкими… И что это была за опухоль?», а когда операция позади – настаивает на встрече, правда, с оговорками, что он – слаб, и приехать в Швейцарию должна будет она; а он, больной, неизвестно в каком состоянии находящийся человек, должен ответить ей сразу на множество вопросов, как осуществить эту поездку; потом она решает, что все же приехать нужно ему. (В точности повторяется история с тяжелобольным Рильке, которого она просила наладить их встречу.) Она жаждет увидеть Штейгера, хотя поначалу писала, что этого не нужно и что все покрывает сила ее мечты. Она пишет о любви – душе, любви – тоске и боли, – как некогда писала такому же молодому Бахраху, не усомнившись: поймет ли?
Самое, может быть, поразительное – молодостьэтих писем. Порой кажется, что их писала влюбленная молодая девушка, которая ни на секунду не расстается в мечтах со своим любимым и которая благодаря влюбленности излучает доброту и радость: «Вчера, к концу вечера, я заметила… что я стала бесконечно-ласкова, и как-то ровно-радостна – и заметила это по ласковости остальных – и поняла, что это – Ваше, к В ам, т. е. от В ас – идущее…»
Да, это – женские письма, но женщина-то – поэт, и в первую очередь это – письма поэта, который любит не в «жизни, как она есть», а в «просторе души своей». И эту мысль Цветаева старается внушить адресату: она пишет, что, пока в ней нуждается ее сын, она должна предпочитать его всему, «всем просторам души», «фактически и физически предпочитать», – и этим купить свою внутреннюю свободу, те самые просторы души. Не парадокс ли: писать об этом – тому, кого считает – своим сыном же? Впрочем, нет, не сыном. Чем-то более всеобъемлющим: не своим сыном, а, так сказать, вселенской сиротой. Сирота– имя адресата, и более точного слова придумать нельзя.
И полились «Стихи сироте» – в конце августа и в сентябре. Простые, ясные строки, исполненные самоотверженности и лишенные эгоцентризма, ощутимо звучащего в письмах. Радость жизни, вдохновленная любовью: «Я сегодня сосновый стан Обгоняла на всех дорогах. Я сегодня взяла тюльпан – Как ребенка за подбородок».
Это – первое стихотворение; следом идет другое – об извечном жестелюбви, вознесенном и возвеличенном до планетарного, космического объятия:
Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал…
…………………………
Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И – немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!
Это стихотворение сродни другому: «Раковина», тринадцать лет назад обращенному к Бахраху. И в еще большей мере тот же мотив: защиты, убережения от жизни – звучит в следующем стихотворении. Подзаголовок его – «Пещера»:
Могла бы – взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры…
………………..
Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки…
Уберечь, спрятать от всего – где найти самое надежное место? Ответ Матери – прост:
Но мало – пещеры,
И мало – трущобы!
Могла бы – взяла бы
В пещеру – утробы.
«Когда я вижу новорожденного – у меня всегда мелькает дикая мысль: несчастный, непоправимое уже случилось, ты уже никаким чудом не можешь туда, обратно, в материнское темное и теплое лоно, – хочешь не хочешь, а тебе надо будет жить, как всем другим» (Штейгер А. «Детство»).
Нужны ли еще какие-либо объяснения?
Любовь, как и дружба, есть действие. Действовать, делать – для того, кого любишь, – вот незыблемое убеждение Цветаевой, сокрытый очаг «тайного жара». «Убеди меня, что я тебе – нужна. (Господи, в этом все дело!), раз-навсегда убеди, т. е. сделай, чтобы я раз-навсегда поверила, и тогда всёбудет хорошо, потому что я тогда могу сделать чудо».
Первого сентября, Цветаева отправила Штейгеру письмо о его двух стихотворениях, урок гениального Мастера – Ученику. Не брать в кавычки, не делать условными насущные слова и понятия: жалость, труд, страдание, больничная палата, любовь, подвиг, – вот ее требование к автору, закомплексованному собственной бедой и словно стыдящемуся бед людских вообще. И завет: « Слейте. Берите из себя письменного (не из писем, а из того, кто – или верней: чтоих в Вас пишет). Отождествите поэта с человеком. Не заставляйте поэта говорить ни жестче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек».
Вот второе стихотворение Штейгера, впоследствии посвященное Цветаевой:
60-е годы
В сущности, это как странная повесть
«Шестидесятых годов дребедень»…
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.
Мысли о
младшем страдающем брате
,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.
И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)
…Второго сентября она все-таки съездила в Швейцарию, где не была более тридцати лет – с детства! – движимая романтической (девической) мечтой ступить на землю, на которой пребывает он. «Моя Женева» – так назвала она письмо от 3 сентября, где рассказала об этой однодневной автомобильной поездке; как в роскошном универмаге купила ему куртку, как желала сама стать этой курткой, чтобы согреть и уберечь… Как возвращалась лунною ночью обратно… Вернувшись из Женевы, 3 сентября надписала книгу «Ремесло», несколько лет пролежавшую у Тройского, которого в свое время просила переправить ее в Москву, но это не удалось: «Анатолию Штейгеру – с любовью и болью».
Письма сменялись стихами – почти исступленными, не знающими меры. Да разве знала меру душа поэта? «В коросте – желанный, С погоста – желанный: Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный!»
И наконец – шестое стихотворение – апофеоз, ликование, озарившее поэта счастье:
Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне…
………………..
Мне дождя, и радуги,
И руки – нужней
Человека надоба
Рук – в руке моей…
Это написано 11 сентября, – а через несколько дней всё рухнуло.
Пятнадцатого сентября Цветаева получила от Штейгера письмо; он, по-видимому, сообщал, что едет в Париж, и простодушно упоминал Адамовича, с которым намеревался общаться. «Может быть Вы – внутри больнее чем я думала и верила – хотела думать и верить? – жестоко отвечала Марина Ивановна. – Ибо ждать от Адамовича откровенияв третьем часу утра – кем же и чем же нужно быть? До чего – не быть!»
Матьотреклась от сироты…
Единственное сохранившееся письмо Штейгера (ответ на это цветаевское) от 18 сентября – печально и честно: «Я… в первом же моем письме на 16 страницах – постарался Вам сказать о себе все, ничем не приукрашиваясь, чтобы Вы сразу знали, с кем имеете дело, и чтобы Вас избавить от иллюзии и в будущем – от боли… Между моим этим письмом на 16 страницах и моим последним письмом нет никакой разницы… Но зато какая разница в Ваших ответах на эти письма… После первого Вы называли меня сыном, – после последнего Вы “оставляете меня в моем ничтожестве”».
«…в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать, – продолжает Штейгер, проявляя редкую проницательность. – Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, – Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, – потому что больше он на них не лежит».
Такая попытка объясниться ни к чему, конечно, не привела; Марина Ивановна «выясняла отношения» всегда единолично. Ее письмо к Штейгеру от 30 сентября исполнено боли и обиды – из-за того, что ее «дитя», ее «сын» предпочел ей – «нищего духом» Адамовича, что раз так – то он, Штейгер, просто «мертв». И в то же время обронила слова: «Я Вас из сердца не вырвала и не вырву никогда». Может быть, еще надеялась на лучшее.
Как бы там ни было, она «отрезвела» и вернулась к прерванной работе.
Главной была сверхзадача: переводы на французский Пушкина (в Савойе она успела перевести только «Бесов). «Получается у нее, поскольку могу судить, замечательно, – писал Сергей Яковлевич сестре. – Так, как верно написал бы сам Пушкин. Особенно хорошо переведено – «Прощай, свободная стихия…»
Предстоящая столетняя пушкинская годовщина была единственной маячившей впереди звездой. Марине Ивановне хотелось написать о Пушкине – свое, личное, но, как это ни покажется диким, она не была уверена, что сможет это напечатать. В ее тетради сохранился черновик письма от 25 октября: «…Мне, например, страшно хочется написать о Пушкине – Мой Пушкин(хрестоматийно) – но, поймите: буду работать месяц, ничего другого не делая – и главное не думая – а могут не взять, а у меня уже столько рукописей – не взятых. Дайте, например, совет редакции “Современных Записок” в виде пожелания: – Хорошо было бы, если бы Цветаева написала о Пушкине, – на них такие вещи (со стороны), а особенно – из другой страны, производят неотразимое впечатление».
Письмо адресовано Петру Балакшину, одному из редакторов журнала «Земля Колумба», выходившего в Сан-Франциско. Балакшин прислал в редакцию «Современных записок» письмо с восторженными словами о «Нездешнем вечере» и «Пленном духе». Марина Ивановна немедленно отозвалась и, воспользовавшись случаем, попросила своего далекого доброжелателя помочь ей: написать несколько положительных слов в «Современные записки». Рассказывала о жестоких сокращениях в прозе о Волошине и еще о том, что журнал не взял воспоминания о Блоке. «Ваш отзыв, как редактора, да еще из такого далека, – писала она, – будет мне большим подспорьем. Я очень одинока в своей работе…»
Что могло быть драматичнее этого письма, где поэт вынужден был поступать как проситель, как начинающий, безвестный литератор? Руднев и в самом деле сомневался, что Цветаева сможет сделать о Пушкине интересную статью, о чем и сообщил Балакшину в ответ на его письмо (тот выполнил просьбу Марины Ивановны).
Третьего ноября, прочтя в газете сообщение о возмутительном обыске на германской таможне И. А. Бунина, направлявшегося в Швейцарию, Цветаева написала горячее письмо Вере Николаевне, где признавалась, что буквально захлебнулась от негодования. В этот момент она осознала, что есть и другая Германия, помимо той, где вечный Рейн и златокудрая Лорелей ее юношеских стихов…
Конец года был посвящен французскому Пушкину, а также работе над очерком «Мой Пушкин». Настроение у Цветаевой, судя по всему, было неважное. 22 ноября состоялась наконец единственная ее встреча с Штейгером. Встреча была вполне «лояльной»; Цветаева, с уже остывшим, но справедливым сердцем предложила молодому поэту помощь: дала адрес Иваска, чтобы Штейгер послал ему свои книги стихов («он очень доброкачественен, несмотря на любовь к Поплавскому и дружбу с Адамовичем»). В письме к Иваску от 18 декабря она подвела такой итог этой своей дружбе:
«Дать можно только богатому и помочь можно только сильному – вот опыт всей моей жизни – и этого лета».
Близилась печальная дата: десятилетие со дня смерти Рильке. Марина Ивановна переписала посвященную ей элегию Рильке и послала Тесковой с просьбой никому не показывать… Навестила поправившегося после болезни Бальмонта. Писала очерк о Пушкине, ждала без особых надежд устройства пушкинских переводов. Превозмогала золу эмиграции, коей в будущем году должно было исполниться пятнадцать лет…
…И 30 декабря, не желая «переносить с собой этой язвы в Новый Год», написала Штейгеру прощальное, итоговое – и обвинительное письмо. О том, что была оскорблена его вежливым безразличием, которое он проявил во время их встречи (она так до конца и не поняла своего «приемного сына») – и в особенности его словами: «Меня в жизни никто никогда не любил». Письмо кончается словами:
«Друг, я Вас любила как лирический поэт и как мать. И еще как я: объяснить невозможно.
Даю Вам это черным по белому как вещественное доказательство, чтобы Вы в свой смертный час не могли бросить Богу: – Я пришел в твой мир и в нем меня никто не полюбил».
Да, лирическим поэтом она оставалась каждую минуту своей жизни.








