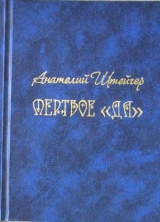
Текст книги "Мертвое «да»"
Автор книги: Анатолий Штейгер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Того, что предвещает страсть.
Но смесь заботы, грусти, лени…
Зарыть лицо в твои колени,
К твоим ногам навек припасть…
«Неужели сентябрь? Неужели начнется опять…»
Неужели сентябрь? Неужели начнется опять
Эта острая грусть, и дожди, и на улице слякоть…
Вечера без огня…Ведь нельзя постоянно читать.
Неужели опять, чуть стемнело,
ничком на кровать —
Чтобы больше не думать, не слышать
и вдруг не заплакать.
«Не поверю, чтоб в целой Праге…»
Не поверю, чтоб в целой Праге
Не нашелся за этот срок
Карандаш и листок бумаги.
Или требуют десять строк
Столько времени, сил, отваги?
«До вечера еще такой далекий срок…»
До вечера еще такой далекий срок,
Еще так много лжи, усталости и муки,
А ты уже совсем почти свалился с ног
И, двери заперев, тайком ломаешь руки.
Как будто бы помочь сумеет здесь засов,
Как будто жизнь пройти не может через щели.
Сдавайся по добру! И несколько часов
Старайся дотянуть хотя бы еле-еле…
«Бедность легко узнают по заплатке…»
Бедность легко узнают по заплатке.
Годы – по губ опустившейся складке.
Горе?
но здесь начинаются прятки —
Эта любимая взрослых игра.
– «Все, разумеется, в полном порядке».
У собеседника – с плеч гора.
60-е годы
М. Цветаевой
В сущности, это как старая повесть
«Шестидесятых годов дребедень»…
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.
Мысли о
младшем страдающем брате
,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.
И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)
Кладбище (Из agenda)
(записная книжка – лат.)
1
Жизнь груба. Чудовищно груба.
Выживает только толстокожий.
Он не выжил. Значит – не судьба.
Проходи, чего стоять, прохожий.
2
Этот скончался под чтенье отходной,
Этого в стужу нашли под мостом.
Похоронили обоих. Безродный
Спит без креста. А богач под крестом.
3
Как он, прощаясь, не сошел с ума.
Как он рыдал перед могилой свежей.
Но время шло. Он ходит много реже.
– Забудь, живи, – молила ты сама.
4
Возле могил для влюбленных скамейки,
Бегают дети и носят песок,
Воздух сегодня весенний, клейкий,
Купол небес, как в апреле, высок.
5
Склеп возвели для бедняжки княгини,
Белые розы в овальном щите.
Золотом вывели ей по-латыни
Текст о печали, любви и тщете.
6
В самом конце бесконечной аллеи,
Там, где сторожка, а дальше обрыв,
Черные долго толпятся евреи…
Плачут. Особый горчайший надрыв.
7
Преступленья, суета, болезни,
Здесь же мир, забвение и тишь.
Ветер шепчет: – Не живи, исчезни,
Отдохни, ведь ты едва стоишь.
8
Долго подняться она не могла.
Долго крестила могилу, шатаясь.
Быстро спускалась осенняя мгла,
Издали сторож звонил, надрываясь.
9
Речи. Надгробные страшные речи.
Третий болтун потрясает сердца.
Сжальтесь! Ведь этот худой, узкоплечий
Мальчик сегодня хоронит отца.
10
Имя. Фамилия. Точные даты.
Клятвы в любви. Бесконечной. Навек…
А со креста смотрит в землю Распятый
Самый забытый из всех Человек.
Афины, 1939 [2]
«Может быть, это лишь заколдованный круг…»
Может быть, это лишь заколдованный круг,
И он будет когда-нибудь вновь расколдован.
Ты проснешься… Как все изменилось вокруг!
Не больница, а свежий, некошеный луг,
Не эфир – а зефир… И не врач, а твой друг
Наклонился к тебе, почему-то взволнован.
Берн, 1936
РАСПИСАНИЕ
Надо составить опять расписание —
В восемь вставание, в 9 гуляние.
После прогулки – работа. Обед.
Надо отметить графу для прихода,
Надо оставить графу для расхода
И для погоды – какая погода.
За неименьем занятия лучшего,
Можно составить на двадцать лет.
Вечером – чтенье вечерних газет.
И не читать, разумеется, Тютчева.
Только газеты… И плакать – запрет.
Париж, 1937
«Если правда, что Там есть весы…»
Если правда, что Там есть весы,
То положат бессонницу нашу,
Эти горькие очень часы
В оправдание наше на чашу.
Стоит днем оторваться от книг
И опять (надо быть сумасшедшим)
Призадуматься – даже на миг,
Над – нелегкое слово – прошедшим,
Чтоб потом не уснуть до зари,
Сплошь да рядом уже с вероналом…
Гаснут в сером дыму фонари.
Подбодрись! Не борись. И гори
Под тяжелым своим одеялом.
Сараево, 1937
«Всегда платить за всё. За всё платить сполна…»
Всегда платить за всё. За всё платить сполна.
И в этот раз я опять заплачу, конечно,
За то, что шелестит для нас сейчас волна,
И берег далеко, и Путь сияет Млечный.
Душа в который раз как будто на весах:
Удастся или нет сравнять ей чашу с чашей?
Опомнись и пойми! Ведь о таких часах
Мечтали в детстве мы и в молодости нашей.
Чтоб так плечом к плечу, о борт облокотясь,
Неведомо зачем плыть в море ночью южной,
И чтоб на корабле все спали, кроме нас,
И мы могли молчать, и было лгать не нужно…
Облокотясь о борт, всю ночь, плечом к плечу,
Под блеск огромных звёзд и слабый шелест моря…
А долг я заплачу… Я ведь всегда плачу.
Не споря ни о чём… Любой ценой… Не споря.
Рагуза, 1938
«Как закричать, чтоб донеслось в тюрьму…»
Как закричать, чтоб донеслось в тюрьму
За этот вал и через стены эти,
Что изменили здесь не все ему,
Что не совсем покинут он на свете?
Я видел сон, что я к тебе проник,
Сел на постель и охватил за плечи.
(Ведь он давно, наверное, отвык
От нежности и тихой братской речи.)
Но дружба есть, на самом деле есть,
И нежность есть, стыдливая, мужская…
Не долг, а честь, особенная честь,
Напомнить это, глаз не опуская.
Брюссель, 1935
1. «Стало сердце осторожным…»
Стало сердце осторожным,
Утомилось, глуше бьется,
Счастья нет. Ну, что ж… С подложным,
Очевидно, жить придется.
В мире злобном и печальном
Трудно только музыкальным,
Часто очень трудно детям,
Где-то плачет вот ребенок.
Остальные терпят. Стерпим.
Слух у нас не так уж тонок.
2. «Но порою слышит спящий…»
Но порою слышит спящий
Будто пенье… Эти звуки
Мир не наш. Не настоящий.
Что тянуть к ним праздно руки?
Завтра в них никто не верит,
Ничего не слышат уши.
Ведь не музыкою мерит
Жизнь глухие наши души…
Белград, 1939
«Не верю, чтобы не было следа…»
Не верю, чтобы не было следа
Коль не в душе, так хоть в бумажном хламе,
От нежности (как мы клялись тогда!),
От чуда, совершившегося с нами.
Есть жест, который каждому знаком —
Когда спешишь скорей закрыть альбом,
Или хотя бы пропустить страницу…
Быть может также, что в столе твоем
Есть письма, адресованные в Ниццу.
И прежде, чем ты бросишь их в огонь,
И пламя схватит бисерные строки,
Коснется все же их твоя ладонь
И взгляд очей любимый и далекий.
Париж, 1934
«На прошлое давно поставлен крест…»
На прошлое давно поставлен крест,
(Такой, что годы, вот, не разогнуться),
Но проезжая мимо этих мест,
Он дал себе зарок: не оглянуться.
Широкий берег, пальмы, казино,
И сразу там… За этим поворотом.
Закрыть глаза. Закрыл… Но всё равно,
Раскрывши их, ошибся он расчетом.
И непонятно, как не грянул гром,
Не наступило окончанье света?
Стекло машины обожгло как льдом:
Обыкновенный провансальский дом,
Гараж и сад. Большой плакат «в наём».
Одно мгновенье в общем длилось это.
Ницца, 1937
«Неужели навеки врозь?..»
Неужели навеки врозь?
Сердце знает, что да, навеки.
Видит всё. До конца. Насквозь…
Но не каждый ведь скажет – «Брось,
Не надейся» – слепцу, калеке…
Париж, 1937
«Куда еще идти по бездорожью…»
Куда еще идти по бездорожью,
Какой еще довериться судьбе…
Всего не объяснить однако ложью.
И разве он хоть раз солгал себе?
Но эта вдруг внезапная усталость
И боль, непостижимая уму…
Хотя порой нужна такая малость…
Спокойно спи! Мир праху твоему.
Константинополь, 1939
«Это всем известно при прощанье…»
Это всем известно при прощанье:
Длинное тяжелое молчанье,
Хоть чего-то все ж недосказал…
Обещанья? Сколько обещаний
Мне давалось… Сколько я давал.
О, недаром сердце тайно копит
И от всех ревниво бережет
Самое мучительное – опыт…
Он один нам все-таки не лжет.
Главное: совсем не обольщаться.
Верить только в этот день и час.
Каждый раз как бы навек прощаться,
Как навек прощаться каждый раз…
Париж, 1936
«Перемена людей и мест…»
Перемена людей и мест
Не поможет. Напрасно бьешься.
Память – самый тяжелый крест…
Под кладбищенским разогнешься.
«Я выхожу из дома не спеша…»
К.Елита-Вильчковскому
Я выхожу из дома не спеша.
Мне некуда и не с чем торопиться.
Когда-то у меня была душа,
Но мы успели с ней наговориться.
Так, возвратясь с работы, старый муж
Сидит в углу над коркою ржаною,
Давно небрит, измучен, неуклюж,
И никогда не говорит с женою.
Да и она: измучена, стара…
А ведь была как будто бы пора…
Теперь совсем иная наступила.
И ни к чему была здесь игра…
И чтоб игра, нужна к тому же сила.
…бродить в полях, но только одному.
Не знать часов. Без цели, без дороги.
Пока в сентябрьском палевом дыму
Не сгинет лес. Покамест носят ноги
Пока внизу не заблестят огни,
Не запоет сирена на заводе…
Но разве в этом мире мы одни,
За городом в такие точно дни,
Искали что-то, только что? в природе.
Загреб, 1938
1. «…Только сердце – брошенная чурка…»
Памяти Ю. Коровина
…Только сердце – брошенная чурка —
Привыкает мучиться и лгать.
Но тебе об этом, милый Юрка,
Никогда, наверно, не узнать…
2. «Ничего“ на следующий день”…»
Ничего «на следующий день»,
Ничего «на завтра» – всё сейчас же.
Несмотря на утомленье, лень,
Или боль, физическую даже.
У меня был очень близкий друг,
Я никак не мог к нему собраться,
– Далеко… Погода… Недосуг.
Что теперь за голову хвататься?
Мор. Тшебова – Париж, 1926-40
«Года и на тебе оставили свой след…»
Года и на тебе оставили свой след,
Бороться против них никто, увы, не в силе.
Не бойся – не черты. Твои черты… О, нет,
Они сейчас еще прекраснее, чем были.
Но уж одно, что ты сейчас со мною здесь
И больше никого тебе еще не надо,
И что за целый день и, вот, за вечер весь,
Ни разу на часы ты не бросаешь взгляда…
И понемногу мной овладевает страх,
И в памяти встает старинное поверье:
Счастливый никогда не вспомнит о друзьях,
Счастливый никогда не постучится в двери.
Я ждал тебя пять лет. Но рад и десять лет,
И всю бы жизнь прождать в напрасной лихорадке,
Лишь только б знать, что нет, на самом деле нет
Ни капли истины в моей больной догадке…
Париж, 1938
«Всё об одном… На улице, в бюро…»
Всё об одном… На улице, в бюро,
За книгой, за беседой, на концерте.
И даже сны… И даже (как старо!)
Вот вензель чертит и сейчас перо.
И так – до смерти. Да и после смерти…
«Дошел и до него уже, увы, черед…»
Дошел и до него уже, увы, черед…
Совсем не тот задор, не очень крепко спится.
Он больше не дитя. Ему тридцатый год.
Давно уже пора настала протрезвиться.
Из-за него лилось уже немало слез.
На памяти о них не зажили ожоги.
В процессии ему не раз уж довелось
Понуро провожать кладбищенские дроги.
Он часто видит сны и, замирая весь,
В передрассветном сне, в особенности тонком,
Встречает снова тех, кто был когда-то здесь,
Тех, кто его любил, когда он был ребенком.
Во сне и наяву, с собой наедине,
Он долгий счет ведет ошибкам и потерям.
Да, я был виноват… Да, по моей вине…
Как мало любим мы! Как скупо нежность мерим.
БЕССАРАБИЯ
1. «Две барышни в высоком шарабане…»
Две барышни в высоком шарабане,
Верхом за ними двое панычей.
Всё как в наивно-бытовом романе,
Минувший век до самых мелочей.
И не найти удачней декораций:
Дворянский дом на склоне у реки,
Студент с начала самого «вакаций»,
Фруктовый сад, покосы, мужики.
Но в чём-то всё же скрытая подделка
И вечный страх, что двинется сейчас
По циферблату роковая стрелка…
Уж двадцать лет она щадила нас.
2. «Вечером выйдем гулять по меже…»
Вечером выйдем гулять по меже.
Сторож внезапно возникнет из мрака.
Спросит огня. Мы закурим. Уже
Осень вблизи дожидается знака.
Ночью иначе звучат голоса,
Глухо и даже немного тревожно.
Каждая пауза четверть часа…
Можно о многом сказать односложно.
Речь про дожди, урожай, молотьбу,
(Сдержанно, чинно, ответы – вопросы),
Речь про крестьянскую боль и судьбу…
Лиц не видать. Огонёк папиросы.
Красный, тревожный, ночной огонёк.
Запах полыни и мокрой овчины.
Терпкая грусть – очень русский порок.
Грусть без какой-либо ясной причины.
3. «Лес вдали стоит уже немой…»
Лес вдали стоит уже немой.
Легкий сумрак. Очень низко тучи.
Я не знаю, что опять со мной.
Быть беде… И скоро. Неминучей.
От костра идет широкий дым.
Пастушонок охватил колени.
Он молчит. Мы часто с ним сидим.
Тихий вечер в поле предосенний.
Мягкий профиль русского лица.
Пастушка зовут, как в сказке – Ваней,
Так сидеть бы с Ваней без конца.
Не забыть мне наших с ним молчаний.
Дома будут речи про войну,
Уберечь уже не может чудо…
На рассвете все же я засну.
Буду спать тревожно, чутко, худо.
4. «Не откроют на окнах ставней…»
Не откроют на окнах ставней,
Печи жарко не будут топиться.
И мечте нашей, очень давней,
Не судьба уж теперь воплотиться.
Первый раз Рождество в усадьбе.
Пантелей, наряжённый медведем.
И гаданья (о нашей свадьбе?),
На которую мы, вот, не едем…
И трещали б морозы грозно,
И метель завывала бы жутко…
Я об этом мечтал серьёзно…
Жизнь решила – нелепая шутка.
Непоротово, август 1939
«За 30 лет, прожитых в этом мире…»
За 30 лет, прожитых в этом мире,
Ты мог понять (и примириться мог),
Что счастья нет, что 2х2=4,
А остальное – трусость и подлог…
За ложь, что нам рассказывала нянька,
Не раз, не два мы разбивали лоб.
Но зашатавшись с горя, ванька-встанька
Опять встает, – и так по самый гроб.
Душа давным-давно окаменела,
Но ведь живут годами без души,
Пока еще не износилось тело
И легкие и сердце хороши.
«Слезы… Но едкие взрослые слезы…»
Слезы… Но едкие взрослые слезы.
Розы… Но в общем бывают ведь розы —
В Ницце и всюду есть множество роз.
Слезы и розы… Но только без позы,
Трезво, бесцельно и очень всерьез.
«Не до стихов… Здесь слишком много слез…»
Не до стихов… Здесь слишком много слез,
В безумном и несчастном мире этом.
Здесь круглый год стоградусный мороз:
Зимою, осенью, весною, летом.
Здесь должен прозой говорить всерьез
Тот, кто дерзнул назвать себя поэтом.
Синяя рубашка [3]
1. «Вряд ли это лишь воображенье…»
Вряд ли это лишь воображенье:
Сквозь бессонницу и темноту
Вспоминаю каждое движенье,
Каждый жест и каждую черту…
Папиросу вечную во рту…
2. «Глупо, смешно и тяжко…»
Глупо, смешно и тяжко
Помнить годами вздор:
Синюю эту рубашку,
Синий ее узор.
Ворот ее нараспашку.
Пояс. На поясе пряжку.
3. «Пусть теперь больничная постель…»
Пусть теперь больничная постель
Приковала скоро год на месте,
Пусть давно за тридевять земель
Ты теперь… И вот не шлешь известий…
В прошлом были эти шесть недель,
Что мы в Ницце проводили вместе.
«Здесь главное конечно не постель…»
Переживи, переживи
Тютчев
Здесь главное, конечно, не постель…
Порука: никогда не снится твое тело.
И, значит, не оно единственная цель…
Об этом говорить нельзя, но наболело.
Я бы не брал теперь твоей руки…
Упорно не искал твоих прикосновений.
Как будто невзначай – волос, плеча, щеки…
Не это для меня теперь всего бесценней.
Я стал давно грустнее и скромней.
С меня довольно знать, что ты живешь на свете.
А нежность и всё то, что в ней и что
над
ней
Привыкли ничего ждать за годы эти.
Так мало надо, в общем, для любви…
Чем больше отдает – тем глубже и сильнее.
Лишь об одном молюсь и день, и ночь: живи,
А где и для кого – тебе уже виднее…
«Можно пожать равнодушно плечом…»
Можно пожать равнодушно плечом,
Мимо пройти, не добравшись до связи.
Разум, увы, здесь не будет ключом.
Жизнь точно сон… Не понять в пересказе.
Что-то… О чем-то. Но только о чём?
(И не всегда о какой-нибудь грязи.)
Берн, 1939
СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ
«Здесь мы могли бродить с тобою вместе…»
Здесь мы могли бродить с тобою вместе,
Но я – один и, как слепой во тьме,
Закрыв глаза и вдруг застыв на месте,
Стою часы, – и лишь одно в уме…
Пока плечом толкнет в сердцах прохожий,
И я проснусь и, содрогаясь весь,
Увижу пред собой Палаццо Дожей,
И Марк мне скажет: – Почему ты здесь?..
«Русские записки». Париж-Шанхай. 1938, № 3.
«Все может быть… Быть может есть – не рай…»
Все может быть… Быть может есть – не рай,
Но что-нибудь, что отвечает раю:
Неведомый и непонятный край,
В котором… Только что я, в общем, знаю…
Но может быть… И если это есть,
То что нам делать в сущности на свете —
Ходить в кафе? работать? спать и есть?
Но мы не дети, мы, увы, не дети.
…переступить невидимую грань,
И все вдруг станет радостней и чище.
Отец и няня… Няня, няня, встань,
Зачем ушла из детской на кладбище.
Я без тебя так страшно одинок,
Я о тебе, тридцатилетний, плачу.
(Я даже схоронить ее не мог,
Припасть к руке. Увидеть дроги, клячу).
Еще хоть раз поговорить с отцом,
Там время может быть у нас найдется.
Не так как было пред его концом…
Но кто мог знать, что он уж не вернется.
Он уходил на час, а не на век
И, вот, упал у Городского Сада…
Усталый, важный, грустный человек,
Проживший жизнь (несладкую) как надо.
И этот друг… Хотя, какой он друг,
(Но он мог стать мне самым лучшим другом),
В большой палате окнами на юг,
Он на платок в крови глядел с испугом.
В начале мы не говорили с ним,
Потом минуту, (я ходил к другому),
Но много надо ли от нас больным…
В больнице все не так и по-иному.
Умней бы было ехать не простясь…
– Ты будешь жить. (Впервые «ты» как дети,
Сказали мы краснея и стыдясь.)
На третий день ты умер на рассвете.
…и несколько других еще имен
Наедине я часто повторяю…
А если смерть короткий только сон?
Но как узнать… Я ничего не знаю…
«Русские записки». Париж-Шанхай. 1937, № 2.
Баллада о гимназисте
На семнадцатый год
Показалось ему,
Что так жить – не идет,
Что так жить – ни к чему.
Оставался былым
Их торжественный дом.
«Стал он глупым и злым»,
Говорили о нем.
Хоть бы слово в ответ,
Молчаливый с утра.
«Может быть, он поэт», —
Насмехалась сестра.
«Может быть, он влюблен,
Или тайный порок».
Приближался сквозь сон
Им назначенный срок.
Он писал в дневнике:
«Чуда нет. Я умру.
Не в Твоей ли руке
Кончу эту игру?»
«Если можешь – подай,
Если нет – откажи.
Лучше ад, лучше рай
Ожиданья и лжи».
Из багрового сер
Стал огромный закат.
На столе револьвер
Оставлял его брат.
Звук был ясен и чист
На весь дом, на весь свет.
Был у нас гимназист,
А теперь его нет.
«Числа». Париж. 1934, № 10.
ПРОЗА
ЖИД. Рассказ
… «Кругом него шумел все тот же огромный и равнодушный город. По мосту с оглушительным треском и звоном летели трамваи и такси, прохожие шли сплошною стеною, усталые, озабоченные и хмурые. На правом берегу Сены, в небе ярко и назойливо горели рекламы универсальных магазинов. А над всем этим, над рекламами универсальных магазинов, в красноватом и беспокойном небе был Бог»…
Литературные собрания устраивались у всех членов Кружка по очереди, сегодняшнее собрание сходило происходило у Пассоверов, у Зинаиды Захаровны Пассовер, красивой и высокой шестнадцатилетней девочки, одетой в вечернее вырезанное платье.
В комнате царил полумрак, только около чтеца стояла лампа, защищенная матовым экраном. На столах стояли свежие цветы, на стенах висели знаменитые кошки Фужиты и хорошие репродукции Боттичелли. Гостей было человек пятнадцать. Это были все очень молодые люди и барышни, все курили, двое молодых людей сидели прямо на полу и перед ними на ковре стояли чашки с остывающим чаем.
…«Ну что же, сказал про себя Человек. Если Бог – так, и этот город, и люди, – то все остальное мне уже безразлично».
– Господа, – сказал вдруг, останавливаясь, Карнац, – я, может быть, перестану читать?
Заглушенные смех и шепот сразу оборвались. Председатель, хорошенький мальчик с живыми веселыми черными глазками, сидевший поодаль за отдельным столом, резко позвонил в колокольчик.
– Господа, прошу вас, – сказал он. – Так невозможно. Карнац, прошу вас, продолжайте читать, это все очень интересно.
Но рассказ уже подходил к концу.
…«Человек достал из портсигара папироску, закурил ее и бросил. Папироска описала в небе полукруг и упала в черную воду. Николай, – это был он, быстрым и ловким движением перенес свое тело на край парапета, задержался на одно мгновение и, прежде чем прохожие успели ахнуть, стремглав ринулся вниз.
Люди толпились на мосту и кричали. Но было уже поздно. Над тем местом, куда прыгнул Николаи, сошлась черная вода. В ней по-прежнему отражались фонари и красные рекламы. По-прежнему гремел и звенел огромный и равнодушный город. Ему не было дела до Человека, но и Человек уже не был больше в его власти. И только вечерние газеты отметили»…
* * *
– Господа, – снова сказал хорошенький председатель – Прошу высказаться. Кто хочет что-нибудь сказать?
Но все молчали и в смущении смотрели перед собою. Карнац сидел насторожившись и вертел в руках свою рукопись.
Ни у кого из присутствующих не было сомнения, что этот рассказ не годился никуда.
Еще в самом начале, услышав о Человеке, Городе и Судьбе, все поняли, что ни в одном из хороших эмигрантских журналов такой рассказ не может быть напечатан. Все присутствующие аккуратно ходили на собрания, на которых выступали настоящие писатели с именами, и прекрасно знали, что рассказ Карнаца был написан в устарелой манере, на которой теперь было принято смеяться.
– Разрешите мне слово, – равнодушным и ленивым голосом попросил Кирилл, который молчал весь вечер и не принимал участия в смешках и разговорах. При звуке его голоса все присутствующее радостно насторожились, потому, что в кружке у Кирилла была репутация злого остроумца.
– Ну, теперь держитесь, – шепнул сосед Карнацу. – Он камня на камне от вас не оставит.
Но при виде обращенных к нему злорадных лиц и бледного расстроенного лица Карнаца, Кирилл решил сказать совсем не то, что он предполагал сказать ранее.
– Конечно, – сказал он, – это Леонид Андреев чистейшей воды и так писать теперь решительно невозможно. Но это в рассказе – не самое главное. Такие места, как разговор с товарищами в университете, и потом, когда Николай сидит у себя один в мансарде, искупают почти всё. И не так сам Николай, как общий тон рассказа, – это есть и в стихах Карнаца, – какой-то благородный и верный тон, точно кто-то говорит с вами и говорит «приятным» голосом. Я не совсем точно это говорю и, повторяю, что конец рассказа прямо ужасен, – нельзя писать «Человек», «Город», так не пишут, нельзя брать такие мелодраматические темы: – одиночество, мрак, непонятая душа, против него весь мир, – но мое мнение, что, в общем, рассказ хороший. Он мне нравится.
После Кирилла говорил еще Гельферд, который нападал на рассказ с христианской точки зрения, оставив в стороне удачную или неудачную форму.
Кирилл думал, что его речь разочарует слушателей, но оказалось, что все ею были скорее довольны. После Гельферда никто слова уже не просил, и, расходясь, на улице и в метро о рассказе Карнаца больше не говорили.
* * *
– Мама, – сказал Кирилл, входя утром к матери. – Если можно, у меня будет обедать сегодня один еврей, это из кружка, Карнац.
– Хорошо, – сказала мать, – только отчего ты мне не сказал раньше, потому что ты знаешь, что отец сегодня обедает дома и было бы гораздо лучше в другой раз.
– Я уже пригласил, – сказал Кирилл. – Но мы можем и в ресторане…
– Хорошо, – сказала мать, – если ты уже пригласил. Досадно, что ты никогда не спрашиваешь. Я скажу отцу и распоряжусь, что надо.
– Благодарствуйте очень, – сказал Кирилл и от матери отправился к своему брату Алексею.
Алексей еще валялся в постели и курил папиросу. Он был на несколько лет старше Кирилла и успел повоевать в Крыму и на Кавказе. В комнате у него висели портреты белых генералов, а над кроватью крест, на кресте погоны и под ними георгиевский солдатский крестик.
– Ты что? – спросил Алексей, удивленный посещением брата, с которым они почти никогда не разговаривали.
– Видишь ли, – сказал Кирилл, – у нас сегодня обедает один мой приятель, еврей, так я бы просил тебя, чтобы ты хоть один раз не делал мне гадостей и воздержался за обедом. Разве это так трудно?
– А ты все с жидами, – сказал Алексей, потягиваясь. – Это что еще за новый жид? Откуда ты его выкопал?
– До этого тебе нет никакого дела. Это мой литературный приятель, и если он у нас в доме, ты должен себя вести прилично. Я у тебя немного прошу. По возможности не задевай еврейского вопроса и не говори слова жид.
– Я не понимаю, – говорил Алексей, – почему можно говорить об англичанах, немцах и турках, а о жидах говорить невозможно? Почему можно по-немецки говорить жид – ein Jude, jew, un juif, а по-русски надо что-то выдумывать? Слово жид самое русское, и еще Лев Толстой…
– Лев Толстой, – сказал Кирилл. – Разве это так трудно? Говори жид сколько тебе нравится в другое время, а сегодня, пока идет обед, – воздержись. Я тебя об этом очень прошу.
– «Мы смело в бой пойдем, – запел, вставая и начиная одеваться, Алексей, –
За Русь святую.
И всех жидов побьем,
Сволочь такую».
– А тебя печатают твои жиды, – спросил он Кирилла, – за то, что ты с ними возишься? Что твои новые произведения?
– Ну, хорошо, – сказал Кирилл. – Так ты, значит, не будешь хамить за обедом? Ты обещаешь?
– Я ничего не обещаю, – отвечал Алексей. – А когда он, твой жид, приедет? Ну, не буду, не буду, мне очень интересно посмотреть на него, какие жиды бывают. Я с Добровольческой Армии никаких жидов не видел, после того, как мы их в Мелитополе громили.
Но вечернее посещение Карнаца развеселило Алексея на весь день. И не только его одного. И он, и сестра Катя донимали весь день Кирилла расспросами о его еврейских знакомых, о том, какая наружность у Карнаца, оттопырены ли у него уши, крещеный он или нет, и есть ли у него акцент, и очень ли акцент сильный…
– В общем, я делаю подлость, – думал Кирилл, – что зову Карнаца к себе в гости.
Карнаца он позвал в гости, не подумав сначала, какие это последствия может иметь дома, но теперь настроение Кати и Алексея его заразило, и он, к собственному своему стыду, давал на их вопросы двусмысленные ответы, которые еще больше возбуждали общую веселость.
Около семи часов внизу раздался звонок и Настасья, девушка его матери, вывезенная еще из России, кому-то громко ответила, что это «один господин спрашивают Кирилла Александровича». Кирилл быстро спустился вниз и провел Карнаца прямо в свою комнату. По дороге он слышал, как за дверью гостиной шепчутся между собой и смеются, заглядывая в щель, Алексей и Катя.
– Как вы живете! – сказал Карнац, разглядывая картины, ковры и мебель.
– Эта вилла у нас была еще до революции, – точно извиняясь, сказал Кирилл; и сразу замечая поношенный костюм на Карнаце, его немодный воротничок и вязаный галстук.
– Обедать пожалуйте, – стучась, сказала Настасья.
* * *
– Нет, я этого ему не прощу, я этого так не оставлю. Я не знаю просто, как у вас просить прощения. Я не понимаю, как вы можете к этому так относиться? Господи, простите меня, вы не знаете, как это мне тяжело и неприятно.
Они шли, или, вернее, Кирилл шел, а Карнац бежал за ним, едва поспевая, по Медонскому лесу.
– Господи, умоляю вас, – говорил Карнац, – забудьте об этом, какие глупости, я право, уверяю вас…
– Нет, – говорил Кирилл. – Совсем не глупости. Это хамство, которому нет названия. Но самое отвратительное во всем этом то, что этот идиот, кажется, сказал это действительно нечаянно.
– Вот видите, вот видите, – говорил, захлебываясь, Карнац. – Он совсем не хотел меня обидеть, и это у него вырвалось так. Он очень веселый, ваш брат, – забавник, и право же, ему было потом ужасно неприятно. Очень прошу вас, не думайте так об этом, пожалуйста, не думайте, мне очень неприятно.
Эта унизительная минута была еще свежа в памяти Кирилла. Сначала все шло гладко, Алексей вел себя безукоризненно и со смехом рассказывал о своих встречах в метро, отец больше молчал, а мать, с привычной и равнодушной любезностью, говорила с Карнацем о погоде и изредка посматривала на Катю, которая сидела рядом с Карнацем и остерегалась встречаться глазами с Алексеем. Но после супа, когда заговорили о Марлене Дитрих и Грете Гарбо и разговор сразу стал общим, случилось то, что неизбежно должно было случиться.
– Вы видели Ремарка, «На западном фронте без перемен»? – не подумав, нечаянно спросил Кирилл, и тут Алексей завладел разговором и сказал, что он этот фильм смотреть не пойдет, потому что Ремарк пацифист и жид, – и осекся.
– Нет, нет, – говорил Кирилл бегущему за ним Карнацу. – Вы этого не понимаете. Это целая психология и за этим столько гадости, что в этом порою невозможно разобраться. Сил моих больше нет выносить всё это.
* * *
– Кружок, собрания, – говорил Кирилл, – это все, конечно, глупости. (Разговор уже давно перешел с несчастного случая за обедом на литературно-философские темы.) – Сегодня Юрочка восхищается евразийством, завтра Зинаида Захаровна читает свои пародии на Анну Ахматову. Или вот еще разговоры о христианстве, и нам всем приходится выслушивать богословские откровения Гельферда, который еще в прошлом году был марксист.
– Ах, нет, – говорил Карнац, – как вы можете так об этом говорить? Гельферду это все действительно открылось. Он очень, очень хороший человек, и он много об этом передумал. Посмотрите, был Христос, или не был Христос, а как хорошо, когда люди в него веруют и как все тогда меняется. Вся жизнь тогда меняется.
– Я этого не вижу, – сказал Кирилл. – Никому ни лучше, ни легче от того не живется, был ли Христос, или нет, но по-моему, жизнь так ужасна, что об этом не приходится даже думать.
– Ax, нет, – ответил Карнац. – Вы как бы слепец, который вокруг себя ничего не видит. Посмотрите на небо…
– На лес, на звезды, – подсказал Кирилл. – Сестра моя травка, это как у Франциска Ассизского, сказано, которого теперь все цитируют… А как же ваш рассказ, это скорее вода на мою мельницу?
– Послушайте, не смейтесь. Это совсем старый рассказ, я его написал осенью, и я теперь никогда бы не написал такого. Вы понимаете, иногда есть такие минуты, но теперь я совершенно иначе думаю – и как вы правы, это рассказ ужасающий, стыдно о нем вспоминать просто…
– А что вы думаете о любви? – чуть насмешливо спросил Кирилл. – Есть любовь, по-вашему, или нет? И о счастье. Существует ли так называемая счастливая любовь?
– А я всегда влюблен, – сказал Карнац. – То есть, я всегда о ком-нибудь думаю, я всегда должен о ком-то думать, куда-то ходить и ждать.
– Ваше счастье, в таком случае, – сказал Кирилл насмешливо.
– Но как же тогда жить? – спросил Карнац. – Ведь так, как вы живете, жить очень страшно
– Пока не надоело совсем, надо жить, – сказал Кирилл. – А если уж никакой надежды и никакого удовольствия, то выходов не искать, один даже в вашем рассказе описывается.
Они пожходили к вокзалу пригородной железной дороги. Вдали быстро приближался бесшумный озаренный поезд.
– Простите, мне ужасно, ужасно совестно, – сказал Карнац, волнуясь, – но я не знал, сколько стоит билет, и у меня нет денег на обратную дорогу, я не захватил дома, дайте мне два франка, я честное слово на следующем же собрании…








