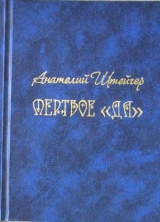
Текст книги "Мертвое «да»"
Автор книги: Анатолий Штейгер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
ИЗ ПИСЕМ М. ЦВЕТАЕВОЙ К А. ШТЕЙГЕРУ
9
Из непрерывности внутреннего письма (день за днем, дойдем и до 12-го).
Еще в Moret, значит доВашего Берна [131]:
– Почему Ваши письма настолько лучше Ваших стихов? Почему в письмах Вы богатый (сильный), а в стихах – бедный.
Точно Вы нарочно изгоняете из своих стихов всего себя, все свое своеобразие – хотя бы своей беды, чтобы дать вообще-беду, общую беду: бедность. Почему Вы изгоняете все богатство своей беды и даете беду – бедную, вызывающую жалость, а не – зависть. (Не думайте, что меня обольщает на-меня-направленность Ваших писем – это во мне никогда ничего не предрешало – и – все стихи всё равно на меня направлены.) – Вам в стихах еще надо дорасти до себя-живого, который и старше и глубже и ярче и жарче того. Вы (живой) из близнецов: Кастора и Поллукса – тот близнец, которому отец – Зевес [132].
<…>
МЦ
15
Письмо о стихах [133]
Chateaud’Arcine, 1-го сентября 1936 г., среда.
– Что я об этих стихах думаю?
Первое и резкое: убрать кавычки – отличные стихи [134].
Зачем и откуда – с Вашим чудесным сердцем – кавычки на таких чудесных, чудодейственных вещах, как жалость, труд, страдание, любовь, подвиг?
Что такое кавычки? Знак своей непричастности – данному слову или соединению слов, как знак его условности в наших устах. Подчеркнутая чуждость их простому употреблению и толкованию. Знак своего превосходства – над той простотой. Кавычки – ирония. То же самое, что «так называемая жалость». Так называемая, а мною так не называемая, мною не такназываемая, мною называемая – слабость (либо глупость).
Но, родной мой, вычеркнув из своего душевного обихода и словаря – слова (и понятия) – совесть, расплата, нищенство, больница, тюрьма, братство, любовь, труд – что тогда от мира и от сердца останется?
Вы скажете: – М<арина> И<вановна>, Вы передернули, Вы подменили пошлые (ставшие пошлыми) словесные соединения – именами существительными, пошлыми быть не могущими.
Но, мой друг: что пошлого – в больничной палате? Это не пошло, а – точно. То же и о нищенской суме (я, кроме этой нищенской сумы, в России, с 1917 г. по 1922 г. ничего не видала, но ее зато – непрерывно). И расплата за день – пошлость. М.б. немножко общё. Беря этислова в кавычки. Вы в кавычки берете не словесные трафареты, ибо этислова – не трафарет: слишком уж насущны, как слово «черный хлеб», как самчерный хлеб. Остаются другие: «равенстве, братстве, труде» (привожу из памяти) и «Мысли о меньшем страдающем брате» – да, этислова – трафарет, но зачем же Вы их берете? Зачем же Вы пользуетесь грошовым орудием чужого неумения – чтобы разбить бессмертныевещи?
Ведь два вывода: либо Вы, в этих стихах, сражаетесь с словесными трафаретами, а не вещами, тогда – стоит ли? Либо Вы наивно отождествляете бессмертные понятия с пошлыми наименованиями (из которых половина не пошла, а – до ужаса <не>выразительна). По чему Вы в этих стихах бьете? По громким фразам 60-тых годов? Но для них это не были фразы, они за них – умирали (вспомните последнее письмо Софии Перовской – матери – о «воротничках» [135], стоящее последнего: «Mon cher Papa» [ «Мой дорогой папа» – фр.] Шарлотты Кордэ [136]). По самим вещам (жалость, любовь, труд)? По себе – такому дураку, что в них – поверили и на них – оборвались?
Стихи эти я читаю – наоборот: без кавычек, и – честное слово – даже в «меньшем брате» никакого трафарета не чувствую. Простая болевая правдаих – уничтожает их некоторую общесть, слова эти здесь(должно быть от Вашей внутренней правды) звучат заново, совершенно не смешно, – в полный и смертный серьез. (Как я хотела бы – чтобы они так были написаны, и до чего они так – внутри – написаны!)
Конечно (и в этом сочувствую Вам – как пишущий) куда девать дребедень и ерунду (которым, кстати, Вы противопоставляете какую не– дребедень и не– ерунду?) Заметьте, что Вы здесь, в 8-ми строках израсходовали всё человеческое величие, что у Вас на противупоставление не остается ничего – кроме всей человеческой малости.
– Компромиссный совет: если Вы так уж держитесь за жестокие, неправедные определения жертвы – как ерунды и дребедени, всё же уберите кавычки, ибо помимо их оскорбительности и моей оскорбленности, за Вас – нехорошо в стихах – столько кавычек, это уже вроде статьи. Стихи должны писаться словами безусловными – не условными. Сам прием – дешев – не сердитесь, то же самое, как какой-нибудь пурист из «Последних новостей», за ленью, употребляет какой-нибудь советский ходки, якобы ненавистный ему, а по существу – необходимый – оборот. Если Вы эти вещи (жалость, любовь, труд) – ненавидите, разбивайте их по существу. (Ницше.) Если Вы эти словесные трафареты ненавидите – не употребляйте их. Нельзя отказываться от вещи полным ею же – ртом. Отречение прежде всего – изъятие себя из её, её из своегооборота.
…Тут двоестихов, неслитых и неслиянных. Вторые – 5 строк, законченных и замечательных. Это совсем отдельные стихи, с теми незнакомые, связанные только одинаковостью размера. Прочтите сами, забывначало:
Совсем, совсем хорошо.
Бедность легко узнают по заплатке,
Годы – по губ опустившейся складке,
Горе?
– Но здесь начинаются прятки.
Эта любимая, взрослых, игра.
– Всё, разумеется, в полном порядке.
(У собеседников с плеч гора)
[137]
.
Только, не у собеседников, а у собеседника [138]. Непременно. 1) Так мне запомнилось, а мне всегдазапоминается получшему. Так напр<имер> у Бальмонта – Морское дно – последние слова поэмы: – Два слова сказала мне дева со дна – Мне вам передать их дано.
– Я видела солнце, сказала она – Что дальше– не все ли равно. Так я, 14 лет, прочтя – запомнила. А у него оказалось: после [139]. Ведь насколько хуже – и по звуку (да-а-альше и после) и по ограниченности понятия «после» – временем ( дальше– и время, и пространство: даль годов и верст, просто – даль). Кроме того, с первой строки до последней мы видим у Вас не ряд лиц, а одно лицо, лицо одного человека – бедного, стареющего – работу жизни над одним, данным человеческим лицом. И (последнее, фактическое) нас всегда спрашивает (Как поживаете?) одинсобеседник, а не двое и не трое. Проведите стихи на единстве – показуемого и вопрошающего, тогда каждый в них себя узнает, ибо в этом назначение и победа стихов, чтобы каждый себя в них узнал, а не все. (Всех – нет, т. е. есть– я тогда нет никого.)
Вот, мой родной, по полной чести и совести, что я думаю об этих Ваших стихах. Пришлите еще, если есть. И – пишитееще, этогодыхания Вам ничто не сузит. Пусть стихи будут Вашим безграничным вздохом.
И опять возвращаюсь к письмам и стихам. Слейте. Берите из себя письменного (не из писем, а из того, кто – или верней: чтоих в Вас) пишет. Отождествите поэта с человеком. Не заставляйте поэта говорить ни жестче, ни презрительнее, ни горше, чем говорит человек (не когда с другими говорите, и м. б. даже – не когда со мною, а – с собою).
Ведь смотрите: Ваше письмо и Ваши стихи – на той же бумаге, тем же чернилом, тою же рукою, тем же присестом руки – и два разных существа. Человек (Вы) – несправедливо и неправедно – беззаботностью друзей и близких, пропустивших начало болезни – обреченный, 26 лет (?) [140]– не-жить, отсутствовать, смотретьна горы – вместо того чтобы их брать, да еще – поэт, т. е. самая уязвимая, и в полном здоровье непрерывно ранимая природа – этот человек, почти мальчик, находит в себе мужество сказать: «…и умирают от чахотки под мостом, тогда как я сейчас в отличных условиях» – тогда как в священном праве был бы прямой удар Богу: – Почему столько идиотов, моих сверстников, растрачивают свой избыток сил: мускулов, – дыхания – сердца – крови – по футбольным и иным площадкам, топчут его – на этих площадках – ногами – Твоедыхание – ногами топчут! – тогда как я, существо разумное и одушевленное, а м. б. и избранное – просто не могу дышать. Кто взял мои легкие? За что?
– Нет, Выдумаете о несчастнейших себя: о подмостных, о вконец недвижных – во всем Вашем вопле (чистого отчаяния) ни звука – упрека и справедливогобы негодования – никакого равнения по счастливейшим. Ваш вопль – чист.
А поэт – Вы – больничную палату берете в кавычки. И Вы думаете я ему – верю??
О Вашей болезни («так может длиться годами, десятилетиями…») я Вам напишу отдельно, я об этом непрерывно думаю – и тут нужно что-то решить раз-навсегда.
Но так как я Вам каждыйдень обещала – радость(а письмо невольно вышло серьезное) – вот стихи, единственное достоинство которых – тождество с бывшим (и сущим во мне каждый день и час моей жизни).
До завтра!
М.
Снеговая тиара гор —
Только бренному лику – рамка.
Я сегодня плющу – пробор
Провела на граните замка.
Я сегодня сосновый стан
Догоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.
МЦ
16-го – 17-го августа 1936 г. Савойя.
20
ST. PIERRE-DE-RUMILLY – HAUTE SAVOIE – CHATEAU D'ARCINE, 7-ГО СЕНТЯБРЯ 1936 Г., ПОНЕДЕЛЬНИК.
Родной! Нашла. Как по озарению, т. е. всем напряжением необходимости Вас выручить – во всем – всегда – следовательно – (прежде всего) – сейчас [141]:
В сущности, это – как старая повесть,
(«Шестидесятых годов дребедень»):
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.
Мысли о младшем страдающем брате,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме,
И о почившем за дело Свободы,
Равенства, Братства, Любви и Труда.
Шестидесятые… годы.
(«Сантаментальная ерунда.»)
( Приписка на полях:)
NB! Скобками при кавычках Вы себя окончательно отмежевываете. Скобки + кавычки здесь дают чью-то пошлейшую скороговорку, физическидают.
Только – так. Но опускаю вседоказательства, ибо если сам види смыслстихов не убедит – все мои слова – бессильны. Но, вместо всехдоводов – один (живой) голос:
я, обеспокоенная за Вас в этих стихах с первой минуты их прочтения (не за Вашу бессмертную душу, в которой несомневаюсь, но за Ваше доброе имя) сразу дала прочесть Ваш листок (не говоря – кто) – своему здешнему пишущему другу [142].
– Что скажете? Не думайте, не думайте! Самое, самое первое!
– Aigreur [горечь – фр.], – досада, что во всё это – поверил, всему этому – служил, и в конце концов – оказался в дураках. Такой же дурак был – как ты. (Пауза.) Тяжелое впечатление.
И это, мой друг, лучшеетолкование Ваших стихов: Вы, морально, в лучшемслучае. И я, и этот Миша – абсолютные читатели (читатели умыслов!) – и это всё, что мы по прочтении стихов в их первой транскрипции, можем сказать в Ваше оправдание, т. е. помнить, что: «– и я, и если дурость —так общая».
Когда же, только что, сгоряча моей огромной радости, я в огороде достала Мишу и доставила его к себе на чердак – листок с даннойтранскрипцией в руки – читайте! – он, просияв: – замечательно! То, что нужно. Так – это для других: – сантиментальная ерунда и дребедень, а для него– святая святых. Под этимистихами – подпишусь.
Вот Вам – читатель. ( Я не сказала – ни слова.) Да и не только – он. И ребенок не ошибется. (Проверю на Муре.)
Теперь, на Ваше усмотрение:
Шестидесятые чистые годы
либо:
Шестидесятые вечные годы. [143]
Чистые – люблю и слово и вещь, и чудесное противопоставление сантиментальной ерунде клеймление – чистотой – всей той грязи (NB! не той, а – этой!)
Второе – в противувес шестидесятности: временности их – ВЕЧНЫЕ. ВЕЧНЫЕ, т. е. которые никогдане кончатся.
Выбирайте – что ближе и дороже, ибо – равноценны. Острее – чистые, глубже – вечные. Товарищеский совет: подчеркните (либо чистые, либо вечные) чтобы еще, ещ eе ударить – и пометку: прошу подчеркнутое слово – в разрядку. Чтобы не набрали жирным шрифтом, который нечто вроде физического воздействия, тогда как в разрядку – воздействие нравственное: молчаливая остановка внимания.
Тогда физически вид будет таков:
Шестидесятые ч и с т ы е годы
– смотрите, как хорошо.
А – русские – они всё равно – русские, не-русских (таких) не было, и если русские – не выходит противовеса ерунде. Говорю Вам как себе, собственности на слова нет, и – равно как в вопросе нашей встречи – не будем считаться копейками, которые (копейки или слова) нам все равно не принадлежат (вот – зажигалка моя мне принадлежала – верней: я – ей – когда меня прожигала), не будем этими малостями мешать возникновению вещи– встречи или стихотворения, – но третьего, которое больше нас.
Возвращаясь к первой транскрипции:
Ваша (да еще нарочитая) confusion [путаница – фр.] – словесных штампов – и простых обиходных выражений – и бессмертных понятий – больше, чем неудачная – невозможная. Вы хотите быть понятым вопреки себе, вопреки знакам, и смыслу слов, – a rebours [наоборот, навыворот – фр.]. Это можно только в любви, в дружбе – нельзя. Не можете же Вы рассчитывать на точь-в-точь такого же как Вы (чего и в любви не бывает), даже не на близнеца: на двойника. Лучший читатель – только абсолютный друг, а абсолютный читатель – только любящий, т. е. все равно – другой, непременно – другой: для того и другой – чтобы любить. (Себя не любят.)
Если яусумнилась, то что же будет – с любым, с первым встречным?
– Яне для него пишу. – Нет, здесь – для негои о нем, ибо кто же лежит в больнице, сидит в тюрьме и т. д., как не Ваш первый встречный читатель – и подзащитный? Но – егозащищая и о нем вопия – делайте это так, чтобы он первый Вас понял, чтобы он, по крайней мере, Вас – понял: ведь это – тожепомощь! (Память.) (Как одна меня безумно любившая молодая женщина – смертельно-больная и совершенно-нищая – мне – из своих далёких: со своих высоких – Пиренеи: – Марина! Я не могу вернуть Вам чешского иждивения, я не могу послать Вам ни франка, но я изо всех сил – из моих последних сил, Марина, – не-престанно, день и ночь о Вас думаю. [144])
Что же Вы, со своим безымянным подзащитным, своими кавычками – делаете?
Простойумирающий (русский шофёр в госпитале – а сколько их – госпиталей и шофёров!) Ваши стихи примет как последний плевок на голову (с бельведера Вашего поэтического величия). – Стоило жить!
Нет, друг, оставьте темноты – для любви. Для защиты – нужна прямая речь. Да – да, нет – нет, а что больше – есть от лукавого.
Вы приводите строки Г. Иванова: Хорошо, что нет Царя – Хорошо, что нет России [145]. – Если стихи (я их не помню) сводятся к тому, что хорошо, что нет ничего– они сразу – понятны, – первому встречному понятны, ибо имеют только один смысл: о т ч а я н и я.
Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться
И никогда не видать зоркого солнца лучей.
Если ж родился – скорее сокрыться под своды Аида
И под покровом лежать тяжко-огромной земли
[146]
.
Эти стихи какого-то древнейшего греческого поэта – мы всеписали.
Нет, друг, защита, как нападение, должна быть прямая, это из мужских чувств, это не чувство – а acte[действие – фр.]. (И Ваши эти стихи – acte), а acte не может иметь двух смыслов – иначе Вы сами не обрадуетесь – какие у Вас окажутся единомышленники, и иначе сама Cause и Chose [причина и вещь – фр.] от Вас отвернется: своего защитника неузнает.
Тут умственные – словесные – и даже самые кровоточащие игры – неуместны. Направляя нож в себя. Вы сквозь себя – проскакиваете – и попадаете в То, за что… (готовы умереть). Нельзя.
<…>
23
Chateaud’Arcine, 12-го сентября 1936 г., суббота (мой любимый день – и день моего рождения: с субботы на воскресенье в полночь.Мать выбрала субботу, т. е. назад).
<…>
О роде Вашего поэтического дара – в другой раз. Пока же – скажу: у Вас аскетическийдар. Служебный. Затворнический.
Бог Вам дал дари – к нему – затвор.
<…>
26
<…>
Chateaud’Arcine, 15-го сентября 1936 г. – вторник – чердак – под шум потока
О Вашем Париже – жалею. Там – сгорите. Париж, после Праги, худший город по туберкулезу – в нем заболевают и здоровые – а больные в нем умирают – Вы это знаете.
Ницца для туберкулеза – после гор – вредна. Жара – вредна. Раньше, леча ею – убивали. Так убили и мою мать, но может быть она счастливее, что тогда – умерла.
Может быть Вы – внутри, – больнее чем я думала и верила – хотела видеть и верить? Ибо ждать от Адамовича откровенияв третьем часу утра – кемже и чемже нужно быть? До чего – не быть!
Если Вы – поэтический Монпарнас – зачем я Вам? От видения Вас среди – да все равно среди кого – я – отвращаюсь. Но и это – ничего: чем меньше нужна Вам буду – я (а я не нужна – когда нужно такое: Монпарнас меня исключает) тем меньше нужны мне будете – Вы, у меня иначе не бывает и не может быть: даже с собственными детьми: так случилось с Алей – и невозвратно. Она без меня блистательно обошлась – и этим выбрала – и выбыла. И только жалость осталась (на всякий случай) – и помощь (во всяком) – и добрые пожелания.
Без меня – не значит без присутствия, значит – без присутствия меня – в себе. А я – это прежде всего уединение. Человек от себя бегущий – от менябежит. Ко мне же идущий – к себеидет: за собой, как за кладом: внутрь себя: внутрь себя – земли, и себя – моря, и себя – крови, и себя – души.
Поскольку я умиляюсь и распинаюсь перед физической немощью – постольку пренебрегаю – духовной. «Нищие духом» не для меня. («А разве Вас не трогает, что человек говорит одно, а делает другое, что презирает даже дантовскую любовь к Беатриче, а сам влюбляется в первую встречную, – разве Вам от этого не тепло?» – мне – когда-то – в берлинском кафе– Эренбург. И я, холоднее звезды: – НЕТ.) [147]
И Вам – нет. На все, что в Вас немощь – нет. Руку помощи – да, созерцать Вас в ничтожестве – нет [148]. Я этого просто не сумею: ноги сами вынесут – как всегда выносили из всех ложных – не моих – положений:
Und dort bin ich gelogen – wo ich gebogen bin.
[Ибо где я согнут – я солган…(Пер. с нем. М. Цветаевой)].
Я не идолопоклонник, я только визионер [149].
МЦ.
Спасибо за Raron [150]. Спасибо за целое лето. Спасибо за правду.
Behut Dich Gott! – es war zu schon gewesen —
Behut Dich Gott – es hat nicht sollen sein.
[Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно!
Храни тебя Бог, этому не суждено было быть. (Пер. с нем. М. Цветаевой.]
27
<СЕНТЯБРЬ 1936 ГОДА, ВАНВ>
[ПИСЬМО ОТПРАВЛЕНО НЕ БЫЛО.]
<…> Мне для дружбы, или, что то же, – службы – нужен здоровый корень. Дружба и снисхождение, толькожаление – унижение. Я не Бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший или по крайней мере равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно – равенство усилия. Мне совершенно все равно, сколько Вы можете поднять, мне важно – сколько Вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если в Вас этого хотения нет, нам нечего с Вами делать.
Я всю жизнь нянчилась с немощными, с нехотящими мочь, и если меня от этого не убыло, то толькопотому, что меня, должно быть, вообще убыть не может; если меня от этого не убыло, темот меня – не прибыло. С мертвым грузом нехотения мне делать нечего, ибо это единственный, которого мне не поднять.
Если бы Вы ехали в Париж – в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне [151]– я бы поняла; ехали бы туда самосжигаться на том, творческом. Вашем костре – я бы приветствовала. Если бы Вы ехали в Париж – за собственным одиночеством, как 23-летний Рильке, оставивший о Париже бессмертные слова: «Я всегда слышал, что это – город, где живут, по-моему – это город, где умирают» [152]– ехали в свое одиночество, я бы протянула Вам обе руки, которые тут же бы опустила: будь один!
Но Вы едете к Адамовичу и К°, к ничтожествам, в ничтожество, просто – в ничто, в богему, которая пустота больш ая, чем ничто; сгорать ни за что – ни во чью славу, ни для чьего даже тепла – как Вы можете, Вы, поэт!
От богемы меня тошнит – любой, от Мюргера [153]до наших дней; назвать Вам разницу? Тогда, у тех, был надрыв с гитарой, теперь – с «напитками» и наркотиками, а это для меня – помойная яма, свалочное место, – и смерть Поплавского, случайноперенюхавшего героина (!!! NB! всё, что осталось от «героя») – для меня не трагедия, а пожатие плеч. Не жаль, убей меня Бог, – не жаль. И умри Вы завтра от того же – не жаль будет.
Да, недаром Вы – друг своих друзей, чего я совершенно не учла и не хотела учитывать, ибо свое отношение к Вам (к Вашему дару) – построила на обратном.
Бедное «дитя города»! Вы хотите за такое – жизнь отдавать? Да такое ее и не примет.
Этой зимой я их (вас!) слышала, – слушала целый вечер в Salle Trocadero – «смотр поэтов» [154]. И самой выразительной строкой было:
И человек идет домой
С пустою головой…
Честное слово, этим человеком я себя почувствовала – после этого вечера.
Когда человек говорит: я – мертв, что же: попробуем воскресить! ( И воскрешала!) Но когда человек говорит: я – мертв и НЕ хочу воскреснуть, – милый друг, что же мне делать с трупом???
Мертвое тело с живой душой – одно, а вот живое тело с мертвой душой…
Я могу взять на себя судьбу – всю. Но не могу и не хочу брать на себя случайности(тей). Лень и прихоть– самые меня отвращающие вещи, слабость – третья <…>
28
30-ГО СЕНТЯБРЯ 1936 Г., ЧЕТВЕРГ. VANVES (SEINE) 65, RUE J. В. POTIN
– Между первым моим письмом и последним нет никакой разницы… [155]
– Да, но между Вашим первым письмом и последним была вся я к Вам – Вы скажете: два месяца! – но ведь это не людских два месяца, а моих, каждочасных, каждоминутных, со всем весом каждой минуты – и вообще не месяцы и не годы – а вся я. Вы же остались «мертвым» и – нехотящим воскреснуть. Это-то меня и убило. В другом письме, неотосланном, я писала Вам о мертвом грузе нехотения, который, один из всех, не могу поднять.
Я обещала никогда Вам не сделать больно, но разве может быть больноот того, что человек не можеттебя видеть в ничтожестве, что он для тебя хочет – самого большого и трудного, что он в тебя верит – вопреки очевидности, что он требует с тебя – как с себя. Поверьте, что если бы я Вас только жалела – Вы бы правды от меня неуслышали: чем бы дитя не тешилось, лишь бы…
Но я приняла Вас за своёдитя, которое лучше пусть – плачет, только не тешится. Только не тешится. В моем последнем письме была вся настойчивость моей веры в Вас, оно, единственное из всех, было не любимому, а – равному (и только потому – суровое) – и может быть в немя Вас больше всего – любила. И об этомстих моих – тогда – 26-ти лет:
Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной Вечности – глуше.
Только порою, в предутренний час
С темного неба – таинственный глас:
—
Женщина! Вспомни бессмертную душу
!
[156]
В этом письме я с Вас хотела – как с себя.
Поймите меня: я Вам предлагала всю полноту родства, во всей ответственности этого слова. И получаю в ответ, что Вы – мертвый, и что единственное, что Вам нужно – дурман. Это был – удар в грудь (в которой были – Вы) и, если я неупала – то только потому что никакой человеческойсиле меня уже не свалить, что этоголюдям надо мной уже не дано, что я умру – стоя.
Друг, я совершенно лишена самолюбия, но есть вещи, которые я не могуперенести, например – физически, на строке – себя и Адамовича вместе [157]. Мой первый ответ: там, где нужен Адамович – не нужна я, упразднена я, возможен Адамович – невозможна я, – не потому что мы поэты разной силы, я Встану и становлюсь рядом с самым бедным, а перед некрасовским: Внимая ужасам войны [158]– как встала на оба колена – так и осталась – но Адамович (и все ему подобные) – не бедный, и даже не нищий духом, а – немощныйдухом – и не хотящий мочь, и не верящий что можно мочь – и не хотящий в это поверить – это уже не нeмощь, а нeхоть, т. е. самое безнадежное и неизлечимое, ибо не с чего начать, – и в такихруках видеть мое чудо– и знать, что из этих рук (даже не держащих! уже заведомо – выронивших!) не вырвать – потому что другому в этих руках ( которых – нет) – хорошо – бесполезное – и унизительное – и развращающее страдание. Тут только одно – отойти.
…Конечно, есть больше. Есть материнское – через всё и вопреки всему. Есть старая французская баллада – сердце матери, которое сын несет любимой, и которое, по дороге, споткнувшись – роняет, я которое:
– Et voila que le coeur lui dit:
– T’es-tu fait mal, mon petit?
[– А сердце ему сказало:
– Не ушибся ли ты, малыш? (фр.).]
Но – идете ли Вы на это, хотите ли Вы так быть любимым: жаленным? Ибо, если Вы этогохотите от меня, этого от меня – хотите, оно – будет, т. е. я в вашем отношении окончательно перестану быть, сразу сниму все требования (и первое из них – равенство), приму заранее и заведомо – всё: Бог с тобой – только живи…
Но не будучи в состоянии Вам дать – ничего, кроме материнского зализывания ран, звериного тепла души, – связанная по рукам и по ногам Вашим нежеланием другого себя, невмещением, невынесением другой (всей) меня – смогу ли я Вам быть радостью? – С зашитым – отказом – ртом.
Думайте.
ЯВас хотела (мечтала) большим, свободным, сильным, родным – так – чтобы на улице узнавали, шагающим в шаг.
Не можете – что же, буду стоять над Вами, клониться, когда холодно – греть, когда скучно и страшно – петь.
Я хотела – оба ( ишагать, игреть). Вы хотите – одного, пусть будет так, пусть будет как Вам нужно, всё, что Вам нужно, то, что Вамнужно, так много – так мало – как Вам нужно. Во весь рост я живу в стихах, в людях – не дано, и меньше всего (как ни странно) дано в любимых – нам – быть и жить. Друзьям от нас не больно, мы можем им говорить всюправду, не страшась – живого мяса. Я хотела Вас не только сыном, не только любимым, а еще – другом: равным. Но пора понять, что для себя мы ничего не должны хотеть, даже нашей радости чужому росту, что и это – себялюбие («другому – как себе» – нет: другому – как ему) пора принять, что любовь – окончательное и единственное нам на земле данное небытие: не будь, иначе ты другого заставляешь быть– «не даешь ему жить» (небыть).
И – возвращаясь к Вашей боли: – мой друг, после Вашего письма о 3-м часе утра за 10-й чашкой кофе – у меня и мысли не могло быть, что что-нибудь – от меня Вам может сделать больно. Это письмо меня так предельноупраздняло. Я написала Вам – для очистки совести, воззвала – с последней и малой надеждой быть услышанной, сказала – потому что не могла не сказать. Вы мне в этом письме сказали, что Вы – после двух месяцев дружбы со мной и со всем будущим этой дружбы – мертвый, и я, как всегда, поверила, а мертвому больно быть неможет, потому что ему уже былобольно, так было – больно – что и стал мертвый. Гарантия. Думать о том, что я могу Вам сделать больно – после такогоВашего заявления – было бы самомнением, а если б Вы знали – как я от него далека!
Мой друг – совершенно уже по-иному – без той радости – но может быть еще глубже и мо ее—
Я Вас из сердца не вырвала и не вырву никогда.
Вы – моя боль, это был мой первый ответ на тоВаше письмо, я сразу поняла: – беда! И с тех пор – почти непрерывная боль: сначала Вы сам, потом операция и страх за жизнь – потом известие об ухудшении – потом известие о почти– приезде в Сен-Пьер – потом разминовение с моей Швейцарией – потом конечный удар – последнее письмо: перспектива Вашего Монпарнаса и расписка в смерти… Потом – молчание на стихи, которого я не могла принять иначе, как оскорбления, в моем лице, всех поэтов… И, наконец, последняя боль – что невольно, невинно– только тем, что встала во весь рост – на секунду распрямила наклон своей нежности – и сказала во весь голос – на секунду вышла из того вполголоса нежности – Вам сделала больно: только тем, что на секунду была – всейсобой.
Родной, неужели Вы думали, что это так просто: очаровалась – разочаровалась, померещилось – разглядела, неужели Вы правдаповерили – в такую дешевку?
Конечно, не напиши Вы мне, я бы Вам не написала – никогда (я себя знаю) ибо в Вашем молчании было оскорблено большее меня, то – за что жизнь отдам, – в моем лице(я – последняя моя забота!) – все так оскорбленные до меня: от Франца Шуберта, чья любовь непонадобилась [159]– до le petit Marcel… в этом молчании было оскорблено всёмною на земле любимое – обычнымоскорблением – незаслуженного презрения. И такое прощение было бы предательством.
Но, если бы Вы мне даже никогдане написали, и этим лишили меня возможности когда-либо окликнуть Вас – у меня навсегда, всюду, даже с очередной горячей головой на груди, в этой груди осталась бы трещина.
Не надо – другой головы. Ибо – верьте мне – я человек такой сердцевинной, рожденной верности, такого единства, что – вовсе не уверенная, что это другому нужно или хотя бы – радостно – одна, для себя, из-за себя, сама с собой, сама перед собой, в силу своей природы немогу раздвоить своего существа иначе чем та река в моих стихах: чтобы остров создать – и обнять [160]. (Как я счастлива, что это точнейшее подобие мне дали – Вы! И как я Вам за него благодарна.)
Я ухожу от человека только когда воочию убедилась, что я (такая как я есть) ему не нужна – просто по бессмысленности положения. Но доэтого – много еще воды утечет – и беды притечет!
Итак —
М.
29
VANVES (SEINE) 30-ГО ДЕКАБРЯ 1936 Г., СРЕДА
Я не хотела писать Вам сгоряча того оскорбления, хотела дать ему – себе – остыть, и тогда уже – из того, что останется… (Осталось – всё.)
Но нынче этому письму – последний срок [161], я не хочу переносить с собой этой язвы в Новый Год, но по старой памяти бережения Вас не хочу также начинать им Вашего нового, нет, получите его в последний день старого, в последний день нашего с вамигода, а дальше уж – у каждого свой: год – и век.
Начну с того, что так оскорблена как Вами я никогда в жизни не была, а жизнь у меня длинная, и вся она – непрерывное оскорбление. (Не оскорбляли меня только поэты, ни один поэт – никогда – ни словом ни делом ни помышлением (Вы – первый), но с поэтами я маложила, больше – с людьми.)
Но если Вы, самим фактом оскорбления меня, попадаете в закон моей судьбы, то содержанием его Вы из него выступаете.
Если бы между темВами непрерывных зовов к себе – и тем – «большого путешествия по Швейцарии» без оставления адреса была бы наша живая встреча – я бы, пожав плечами, поняла: Вы могли ждать меня не такою. Вас например могли испугать мои седые волосы [162](говорят, в юности это очень страшно) – хотя, по мне, матери взрослого сына и не полагается молодости, – могло удивить, что я на 6 лет старше, чем на своем последнем вечере [163], могли не понравиться мои пролетарские руки, которых Вы на моих вечерах могли не разглядеть и никак уже не могли разглядеть в моих письмах – Вы просто могли меня (ту, в письмах) не узнать – бывает —
– и я бы вчуже, по слухам (такого «бывания») – поняла.
Но между Вами, непрерывно звавшим меня к себе сейчас, именно – сейчас, сейчас, а не потом – и т. д. – и Вами «большого путешествия по Швейцарии» и «разрешите мне заехать к Вам Вас поблагодарить» – нашей встречи не было, нашей очной ставки не было, ничего не было, кроме все той же моей любви к Вам. Я Вам разнадобилась довстречи, до которой Вы недотянули, и ко мне в Ванв Вы пришличужой, а не от меня – чужим – вышли.








