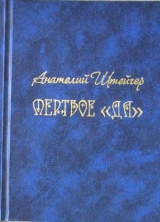
Текст книги "Мертвое «да»"
Автор книги: Анатолий Штейгер
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Я опять без памяти влюблен.
«Снова воздух стоит на меже…»
Снова воздух стоит на меже,
Снова полдень не двинется в небе,
Темно-синие звезды уже
В золотистом рассыпались хлебе.
Мой любимый цветок – василек.
Я люблю только небо да поле.
Снова камень от сердца отлег,
Хоть оно, как и прежде, – в неволе.
Так часами лежать и лежать
Под широким парчовым отлогом,
Скоро месяц опустится жать
Васильки загоревшимся рогом.
Ибо в небе услышали весть,
Что небесных волшебней и краше
На земле звезда синие есть,
Деревенские, скромные, – наши.
«Есть тишина, которой не смутить…»
Есть тишина, которой не смутить,
И есть слова, которых мы не в силе
Произнести и повторить
Ни в этой жизни, ни в могиле.
Душа безмолвна и чиста,
Ей нелегко живется в свете,
Она давно уж не в ответе
За то, что говорят уста.
Не то, не то! Но так пройдут года,
И мы не скажем правды никогда.
1928
Свадьба
1. «Все в этом мире случается…»
Все в этом мире случается,
Все непонятно для нас.
Пышною свадьбой кончается
Каждый хороший рассказ.
Вот понесли за невестою
Шлейф, и вуаль, и цветы.
Перед дорогою крестною
Стала прекраснее ты.
Узкие кольца меняются,
Сказано мертвое «да».
Повесть на этом кончается.
Падает с неба звезда
И на куски разбивается.
2. «Священник ведет новобрачных…»
Священник ведет новобрачных.
Растерянный взгляда жениха.
Как облаком, тканью прозрачной
Невеста одета, тиха.
Все тленно. Конечно, изменит
Она ему через год.
Но чем этот мальчик заменит
Все то, что он нынче не ценит.
Все то, что он ей отдает?
Давос, 1929
ГАБСБУРГ
На портрете он бледен и худ,
Плечи сдвинуты детски-сутуло.
За таких, как на праздник, идут
Под холодное вражее дуло.
Цвет волос – золотистее ржи,
Взгляд очей его – девичьи зыбкий.
Сколько нежности, горя и лжи
В незаметной надменной улыбке.
Только больше молчали уста —
Возле губ две короткие складки.
Для коня: мановенье хлыста,
Для людей – мановенье перчатки.
У него было мало друзей,
Были только влюбленные слуги.
Я хожу теперь часто в музей
Проводить перед ним все досуги.
Этот взгляд – как густое вино,
В драгоценном налитое кубке.
Тяжело Золотое Руно,
Если плечи так узки и хрупки.
Сердце, сердце, что сделал с тобой
Этот призрак Эрцгерцога зыбкий?
Значит, могут быть нашей судьбой
Мертвецов неживые улыбки?
«Только след утихающей боли…»
Только след утихающей боли…
С каждым валом – слабей валы.
Легкий сумрак. В осеннем поле
Тянут медленный плуг волы.
Между небом и между нами
Заполняется мглой провал.
Мы во всем виноваты сами,
Ты у нас ничего не брал.
Тишина… Тишина такая,
Тишина на земле и в нас,
Словно в мире совсем иная
И хорошая жизнь велась.
Словно осенью мы не те же,
А серьезнее и грустней, —
О себе вспоминаем реже,
Вспоминаем Тебя ясней…
«Уходила земля, голубела вода…»
Уходила земля, голубела вода,
Розоватая пена вздымалась…
Вместо сердца – кусочек холодного льда,
Сердце дома, наверно, осталось.
Время шло, но последний томительный год
Был особенно скучен и долог.
Горечь все наплывала, копилась, и вот
Оживать стал прозрачный осколок.
И забился, как сердце, но только больней,
Угловатые стенки кололи.
Так прибавились к боли привычной моей
Капли новой томительной боли.
Книга жизни
1. «Не нами писанные главы…»
Не нами писанные главы,
Но нам по этой книге жить,
Терять надежду и тужить,
Искать и подвига, и славы,
И вдруг понять, что не дано
Нам изменить хотя бы строчки,
Что в Книге Жизни ставит точки
Лишь Провидение одно…
2. «Каждый ждет долгожданного чуда…»
Каждый ждет долгожданного чуда,
Каждый верит – настанет черед!
Безразлично, когда и откуда
Наше бедное счастье придет.
Только сердце устанет. А миги
Не летят, а ползут, как века.
Перелистывать скучные книги
Не торопится Божья рука.
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ(Париж, 1936)
a J.-N. Journel
«Мы верим книгам, музыке, стихам…»
Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову… (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся…)
Marseille, 1933
«Никто, как в детстве, нас не ждет внизу…»
Подумай, на руках у матерей
Все это были розовые дети.
И.Анненский
Никто, как в детстве, нас не ждет внизу.
Не переводит нас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит. Не учит верить Богу.
До нас теперь нет дела никому —
У всех довольно собственного дела.
И надо жить, как все, но самому…
(Беспомощно, нечестно, неумело).
«…Наутро сад уже тонул в снегу…»
Е.Н.Демидовой
…Наутро сад уже тонул в снегу.
Откроем окна – надо выйти дыму.
Зима, зима. Без грусти не могу
Я видеть снег, сугробы, галок, зиму.
Какая власть, чудовищная власть
Дана над нами каждому предмету —
Термометру лишь стоит в ночь упасть,
Улечься ветру, позже встать рассвету…
Как беззащитен, в общем, человек,
И как себя он, не считая, тратит…
– На мой не хватит, или хватит век, —
Гадает он. Хоть знает, что не хватит.
Berne, 1935
«Как нам от громких отучиться слов…»
Как нам от громких отучиться слов —
Что значит «самолюбье», «униженье»
(Когда прекрасно знаешь, что готов
На первый знак ответить, первый зов,
На первое малейшее движенье)…
«Мимолетные встречи – всегда на виду…»
Мимолетные встречи – всегда на виду.
Торопливые речи – всегда на ходу.
– «Если будет возможно, конечно, приду».
Не придет…
На моем двадцать пятом году
Я себя как дурак, как мальчишка веду.
«Слабый треск опускаемых штор…»
Слабый треск опускаемых штор,
Чтобы дача казалась незрячей,
И потом, точно выстрел в упор —
Рев мотора в саду перед дачей.
(…И еще провожающих взор
Безнадежный, тоскливый, собачий.)
«Время искусный врач…»
Время искусный врач,
Лечит от всех неудач,
Лечит от всех забот.
Скоро и глупый плач
Ночью (во сне) пройдёт.
ДРУЖБА
1. «Где-то теперь мой друг?..»
Где-то теперь мой друг?
Как-то ему живется?
Сердце, не верь, что вдруг
В двери раздастся стук:
Он никогда не вернется.
Мне ли, себе на зло?
(Или ему повезло).
2. «Одна мечта осталась – о покое…»
Одна мечта осталась – о покое.
Не надо дружбы, все слова пусты,
И это слово – самое пустое.
(Для дружбы надо, чтобы было двое,
Одним был я, другим был воздух: ты.)
Ницца, 1934
«Попрыгунья стрекоза…»
«Попрыгунья стрекоза
Лето красное все пела».
…Опускаются глаза.
Тихо катится слеза
По щеке, по загорелой.
Сердце попусту боролось —
Наступил последний срок.
Ждать, чтоб все перемололось,
Не по силам. Сорван голос,
Ты забывчив и далек.
Осень стала у ворот,
Листья мертвые в подоле.
Кое-кто ей подает…
(Никогда он не поймет
Этой нежности и боли).
Видно песенка допета
Вся до самого конца.
Не вернется больше лето…
Неумыта-неодета
Осень стала у крыльца.
СЕНТЯБРЬ
Ты знаешь, у меня чахотка,
И я давно ее лечу
Рюрик Ивнев
Первый чуть пожелтевший лист
(Еле желтый – не позолота),
Равнодушен и неречист,
Тихо входит Сентябрь в ворота.
И к далекой идет скамье…
Нежен шелест его походки.
Самый грустный во всей семье.
В безнадежности и в чахотке.
Этот к вечеру легкий жар,
Кашель ровный и суховатый…
Зажигаются, как пожар,
И сгорают вдали закаты.
Сырость. Сумрак. Последний тлен
И последняя в сердце жалость…
– Трудно книгу поднять с колен,
Чтобы уйти, такова усталость.
«Ты осудишь. Мы не виноваты…»
Ты осудишь. Мы не виноваты.
Мы боролись и не шли к греху.
Запах поля, запах дикой мяты
У Тебя не слышен наверху.
Все у нас печально и убого:
В переулке низкие дома,
Меж полей размытая дорога,
За плечами нищая сума.
Так стоишь часами за деревней,
День прошел – как не бывало дня…
Этот мир, заброшенный и древний,
Веселее не был до меня.
Да и завтра веселее тоже
Он стоять не будет у дверей.
Мы несчастны. Очень. Боже, Боже,
Отчего Ты с нами не добрей…
Le Vesinet, 1932
1. «Будь, что будет, теперь до конца…»
Будь, что будет, теперь до конца —
Всё поднимут покорно плечи.
Ни одной клеветы на Творца
После этой не будет встречи.
…это был лишь короткий миг,
Но он был невозможней, краше,
Чем все то, что мы знали из книг,
Чем все сны, все надежды наши.
2. «Ведь это было, было наяву…»
Ведь это было, было наяву —
Совсем не сон, совсем не наважденье.
(И я лишь лгу теперь, что я живу
И всех ввожу напрасно в заблужденье.)
…но стоит только отойти, присесть,
Закрыть глаза, – чтоб начало казаться,
Что дальше невозможно спать и есть,
Ходить в кафе… Как все, за жизнь хвататься.
1932-5
«Четыре часа утра…»
Четыре часа утра.
На небе бледнеет звезда.
Упрямая линия рта,
Пробора прямая черта.
– А всё же любовь одна,
Я верю любви до конца.
Шампанское. «Пей до дна».
На нём уже нет лица.
Любовь, опустись, припади,
Крылом своим лёгким задень…
…Но пятна на белой груди,
Но чёрный цилиндр набекрень.
Зови не зови – не придёт.
Упрямее линия рта.
Так каждую ночь напролёт,
Так каждую ночь – до утра.
ВЕСНА
1
Снова в Париже весна начинается
Очень застенчива, очень слаба.
Что-то как будто бы даже меняется…
Уж не судьба ли? едва ли судьба…
2
Все-таки нас это тоже касается:
Ландыши, что продают на мосту;
Лица прохожих (их взгляд, что встречается);
Облако; день, что за днем удлиняется;
Русская служба (вечерня в Посту)…
3
Жизнь, – в этой жизни всегда невесело,
Мир оказался серьезней, умней…
Сердце давно все измерило, взвесило,
Даже весну – и тоску, что в ней…
«Не получая писем, сколько раз…»
Не получая писем, сколько раз
Мы сочиняли (в самоутешенье?..)
Наивно-драматический рассказ
Про револьвер, болезнь или крушенье…
Отлично зная – просто не до нас
(Но уж не в силах обойтись без фальши,
Поверить правде до конца страшась,
Не смея думать, что же будет дальше)…
Heiligen Schwendi, 1935
«Так от века уже повелось…»
Так от века уже повелось,
Чтоб одни притворялись и лгали,
А другие им лгать помогали,
(Беспощадно все видя насквозь) —
И все вместе любовью звалось…
Rome, 1934
1. «Задребезжит на лестнице звонок…»
Задребезжит на лестнице звонок.
Она войдет. Присядет. Что-то скажет.
За нею следом принесут венок.
На стол с постели кто-то переляжет.
Три долгих дня пройдут до похорон.
Три дня его не вынесут из дому.
Но ничего уж не исправит он…
И как ему исправить, неживому?
2. «Его проводят. Кто-нибудь придет…»
Его проводят. Кто-нибудь придет
К нему, быть может, и назавтра в гости.
Но очень скоро, мертвый, он поймет,
Что он, на самом деле, на погосте.
И что, пока не запоет труба,
Он обречен сносить воспоминанье,
Как поцелуй его коснулся лба,
Но возвратить уже не мог дыханья…
«Нам в этом мире все давно чужи…»
Нам в этом мире все давно чужи.
Мы чьи-то жмем бессмысленные руки,
Мы говорим, смеемся. Сколько лжи
И сколько в этом настоящей муки.
Но если раз, единый только раз
Мы наяву Тебя случайно встретим —
Толпа сомкнется и разделит нас…
Давно пора бы примириться с этим.
Лондон, 1932
«Уже не страх, скорее безразличье…»
Уже не страх, скорее безразличье —
Что им до нас, спокойных и серьезных?
Есть что-то очень детское и птичье
В словах, делах и снах туберкулезных.
Особый мир беспомощных фантазий
И глазомера, ясного до жути,
Всей этой грусти, нежности и грязи,
Что отмечает в трубке столбик ртути.
Прага, 1935
1. «Первая дружба – навеки…»
В. Волкову
Первая дружба – навеки,
Детские клятвы – до гроба…
Где ты теперь, мой друг?
Взрослыми стали оба,
Грустными стали оба,
Фронты, моря и реки
Нас разделили вдруг.
2. «Стоило ночи скакать на коне…»
Стоило ночи скакать на коне,
Дни проводить в пулеметном огне
(С Белыми, Красными) и на войне
Между Россией и Польшей…
Чтобы, домой, наконец, возвратясь,
Вдруг на себя бы рука поднялась!..
Так и не свиделись больше.
«Настанет срок…»
Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увы, настанет этот час, —
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас
И жизнь – какой она на самом деле…
Berlin, 1935
«Неужели ты снова здесь?..»
Неужели ты снова здесь?
Те же волосы, рост, улыбка…
Неужели…
И снова смесь
Пустоты и тоски – ошибка.
Как-то сразу согнёшься весь.
Nice, 1934
«У нас не спросят: вы грешили?..»
У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… как ещё любили!..
«Не эпилог, но все идет к концу…»
Не эпилог, но все идет к концу.
Мы встретимся, я очень побледнею.
По твоему надменному лицу
Мелькнет досада на мою «затею».
На мой приезд – бессмысленный приезд,
На то, что жить, как люди, не умею,
– Что за охота к перемене мест?
(…а если вариант: с ума сводящий жест —
Объятье грубоватое за шею?)
Prague, 1935
«Мы отучились даже ревновать…»
Мы отучились даже ревновать —
От ревности любовь не возвратится…
Все отдано, что можно отдавать,
«Но никогда не надо унывать».
(Придя домой, скорей ничком в кровать,
И пусть уж только ничего не снится.)
«До того как в зелёный дым…»
кн. Н.П. Волконской
До того как в зелёный дым
Солнце канет, и сумрак ляжет,
Мы о лете ещё твердим.
Только скоро нам правду скажет
Осень голосом ледяным…
«Не обычная наша лень…»
Не обычная наша лень —
Это хуже привычной скуки.
Ни к чему уж который день
Непригодными стали руки.
Равнодушье («ведь не вернёшь»),
Безучастие, безнадежность.
Нежность, нежность! но ты живёшь,
Ты жива ещё в сердце, нежность?
«Мы, уходя, большой костер разложим…»
Мы, уходя, большой костер разложим
Из писем, фотографий, дневника.
Пускай горят…
Пусть станет сад похожим
На крематориум издалека.
«Ночь давно обернулась днем…»
Ночь давно обернулась днем.
Не закрылись глаза за сутки.
Что-то было, наверное, в том
Звуке голоса, смехе, шутке.
…это трудно в слова облечь,
Чтоб увидели, чтоб любили…
Это надо в себе беречь,
Чтобы вспомнить потом в могиле.
2 х 2=4 (NewYork. 1982)
Юрий Иваск. Предисловие
В поэзии Анатолия Штейгера нет ничего стихийного, песенного. Никак нельзя назвать его певцом. Он не позволял себе чем бы то ни было увлекаться, упиваться. Аскетически избегал ярких метафор, хитроумных неологизмов и «бросающейся в уши» звукописи. Никогда не экспериментировал, довольствовался традиционными метрами, рифмами и общепринятой грамматикой.
Штейгер лучше других эмигрантских поэтов 30-х гг. выражал парижскую нотусвоего учителя и близкого друга Г. В. Адамовича, который постоянно повторял: пишите проще, скромнее, и всегда о самом главном, в особенности об одиночестве, страдании, смерти. Он рекомендовал поэтам т. н. младшего поколения эмиграции (родившимся между 1900–1910 гг.) отказаться от всех «громких слов», от риторики, декламации и всякой ухищренности: незачем им ораторствовать и не к лицу им модничать. Адамович утверждал: на чужбине, в нищете, мы лишились всех политических и поэтических иллюзий, но, может быть, лучше, чем сытый и с жиру бесящийся Запад, поймем последнюю правду о человеке. Пусть мы неудачники, но на поверку каждый человек тоже неудачник – одинок, несчастлив, смертен…
К поэтам Адамович был более требователен, чем к прозаикам. В своей книге «Комментарии» он писал: нужно, чтобы в поэзии «все было понятно и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный холодок… Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой». Если это невозможно, то можно обойтись без поэзии. «Виньетки и картинки? пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны».
Эти цитаты оправданы тем, что и сам Адамович считал: Анатолий Штейгер (наряду с Лидией Червинской и, позднее, Игорем Чинновым) лучше других его понял, и стихи Штейгера наиболее приближаются к установленному им «канону» или «идеалу» поэзии. Многие современные стихотворцы и стихолюбы с Адамовичем не согласятся, и штейгеровские стихи покажутся им бедными, бледными. Нет в них оркестровки Блока и более близких нам поэтов – Мандельштама, Цветаевой, Пастернака, Ахматовой, говоривших во весь голос и игравших на многих инструментах, но, может быть, читатели услышат и тихую флейту Штейгера. Слабые звуки в музыке и поэзии не заглушаются громкими…
Анатолий Штейгер – мастер коротких, даже кратчайших стихотворений. Лучшие из них легко заучиваются наизусть. Вот только пять строк:
Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову… (даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся…).
Первые два с половиной стиха – поэтические, мелодические, а следующие за ними (той же длины) подрывают романтику горькой иронией, взятой в скобки – это очень характерный для Штейгера прием. Ведь и Адамович, мечтавший о невозможном чуде в поэзии, едко высмеивал всякое поэтическое легковерие, чрезмерный энтузиазм, мнимый экстаз.
Восьмистишие с эпиграфом из Иннокентия Анненского, любимого поэта и Адамовича, и Штейгера. Там вздох о детстве – когда нас берегли, рассказывали нам басни, «учили верить в Бога». А теперь мы взрослые:
И надо жить, как все, но самому
(Беспомощно, нечестно, неумело).
Опять ироническая скобка, где выделяется наречие нечестно. Нечестность – порок, но в сопоставлении с беспомощностью, неумелостью, вызывает жалость к слабому человеку.
Штейгер мог бы повторить слова Розанова в последней записи Уединенного: «Никакой человек не достоин похвалы. Каждый человек достоин жалости».
Мы живем в жестокий век, и жалость выходит из оборота в палаческом жаргоне современных власть имущих извергов: они не только владычествуют, но и воспитывают целые народы: приучают к безжалостности и лжи. Жалость выпадает и из словаря некоторых новых «метафизических» поэтов, которые иногда прославляют Бога с чертами тирана-самодура, как и многие кальвинисты, и при этом забывают: суровый ветхозаветный Иегова не только мучил, но иногда и жалел избранный Им народ.
У Штейгера острая, хотя и бессильная жалость без опоры в вере, да еще с иронией – пусть и горестной иронией, но и его тихий укор обличает жестоких политиков и жестоких «метафизиков».
Жалость укоренена в совести и, за немногими печальными исключениями, одушевляла русскую литературу. Даже Маяковский, воспевший чекиста Феликса Дзержинского, жалел хотя бы лошадей.
Не было у слабого Штейгера пророческого негодования и пророческих упований. Он мал и не удал, но есть у него свое небольшое, незаметное, но заслуженное место в русской поэзии.
Любовь: великое, но искалеченное слово… Французы говорят: любовь можно делать, и известно, что это значит.
О любви Штейгер писал не меньше, чем о жалости. Вот еще одно его легко запоминающееся пятистишие:
У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: – Да, увы,
Любили… как ещё любили!..
И здесь ирония: если бы мы по-настоящему любили, незачем было бы опускать голову и горько сетовать. Слишком часто и притворство «любовью звалось». Какая же любовь истинная: без лжи и похоти? Ответ хотя бы в этом стихотворении о любви:
Здесь главное, конечно, не постель…
Порука: никогда не снится твое тело,
И значит, не оно единственная цель…
Об этом говорить нельзя, но наболело.
Истинная любовь – нежная, жалеющая, самоотверженная. Она –
Чем больше отдает – тем глубже и сильнее.
Это подытоживающее стихотворение – очень уж рассудительное… Но Штейгер рассудочным не был. Знал он и страстные увлечения, хотя бы какой-то «синей рубашкой». Ему было что в себе преодолевать. Куда значительней этой декларации его элегические (батюшковские) александрийские строфы о братской любви, но и с оттенком влюбленности:
Чтоб так, плечом к плечу, о борт облокотясь,
Неведомо зачем плыть в море ночью южной,
И чтоб на корабле все спали кроме нас,
И мы могли молчать, и было лгать не нужно.
Облокотясь о борт, всю ночь плечом к плечу,
Под блеск огромных звезд и слабый шелест моря…
А долг я заплачу… Я ведь всегда плачу.
Не споря ни о чем… Любой ценой… Не споря.
Какая это уплата долга? Не значит ли это, что мы расплачиваемся не только за зло, но и за добро: ведь то и другое карается неизбежными страданиями и окончательной смертью. Здесь напомним: Штейгер медленно сгорал от чахотки и ему всё было вредно – и за какое-нибудь резкое движение ему приходилось платить кровью (кровохарканьем).
Пессимизм Штейгера… Но по самой своей природе поэзия «не может быть полным отрицанием (…) Она – как свет по отношению к тьме», писал Адамович в предисловии к антологии «Якорь». Не значит ли это: есть в поэзии – скажем по-старинному – красота, которая зла и смерти не отменяет, но исключает их из своего мира. И в стихах «пессимиста» Штейгера – пусть и слабо, сияет свет, и слышится тихий напев флейты.
Нельзя говорить об Анатолии Штейгере, не упомянув о Марине Цветаевой.
В 1936 г. Марина Ивановна проводила лето в Савойских Альпах и к ней обратился с письмом Штейгер, лечившийся в швейцарском санатории.
Он «просил ее дружбы и поддержки “на всю оставшуюся жизнь” и говорил о преследующем его страхе смерти» (Марина Цветаева. Избр. произведения. М., 1965, стр. 761).
Марина Ивановна сразу откликнулась. Завязалась переписка. Ей хотелось ободрить Анатолия. Но что-то Штейгера отпугнуло: стихия женственности была ему чужда, и (как Адамович) не отзывался он на цветаевскую героическую поэзию высоких страстей, на все ее громы и молнии. Правда, ему льстило внимание большого поэта, и он, следуя ее советам, внес некоторые поправки в свои стихи. Позднее, при встрече в Париже, Цветаева была разочарована и писала мне: «с ним (Штейгером) трудно потому, что он ничего не любит, и ни в чем не нуждается. Всё мое – лишнее… Дать можно только богатому и помочь можно только сильному – вот опыт всей моей жизни – и этого лета» (18 дек. 1936 г.). Но тем савойским летом Цветаева поняла в Штейгере главное: он несчастен, болен, и вот, по-матерински его жалея, но и влюбленно лелея, она посвятила ему «Стихи сироте»:
Всей Савойей и всем Пиемонтом
И – немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!
Какой здесь поток поэзии, льющейся вширь и ввысь!
Штейгер в санатории нуждался в материнской ласке, но не во влюбленной нежности. Его могло испугать в этих стихах грандиозное географическое объятие. Да, жалеет, прославляет, но вдруг сомкнет руки, и от меня мокрого места не останется… Не знаю: так ли было, но так могло бы быть.
За год до этого Цветаева посвятила стихи-гимны рано погибшему (на станции парижского метро) поэту Николаю Гронскому (1909–1934), дружившему с ней и близкому – в поэзии. Так она его посмертно благодарила:
За то, что некогда, юн и смел,
Не дал мне заживо сгнить меж тел
Бездушных – замертво пасть меж стен —
Не дам тебе – умереть совсем!
Гронского Цветаева влюблено усыновила. Видела в нем смелого верного рыцаря, одаренного ученика в поэзии и прославила органными стихами, но, вопреки своему опыту («помочь можно только сильному»), все-таки помогла жалостью слабому штейгеру, о котором писала мне: он «обратное Гронскому». И свое лирическое «верхнее до» взяла в стихах о Сироте – Штейгере – с его столь чуждой ей парижской нотой. Не потому ли, что она была уже не нужна смелому, но мертвому Гронскому, а у умирающего и еще живого штейгера была «смертельная надоба» в ней.
Тем горше было разочарование, когда на поверку оказалось, что она ему больше ненадобна. А летом 1936 г. они были нужны друг другу, и эта дружба останется в поэзии.
Созданный Цветаевой миф о Сироте имеет что-то общее с другим ее мифом в поэме «Царь-Девица», с которой она себя несомненно отождествляла – и там эта монументальная героиня жалеет и отпускает на волю не давшегося ей в руки слабого Царевича. Цветаеву часто привлекали отвергающие ее слабые герои.
Вопреки всем недоразумениям в плане житейском, Цветаева вознесла Штейгера в какие-то высшие сферы, и оба они нераздельны в цветаевском сказании: сверчок, знающий свой шесток, и орлица, распростершая над ним крылья.
Можно скептически относиться ко всякой мифологии, но многие мифы, от эллинских и до Цветаевских, куда осмысленнее, реальнее нашей жизни и – шире, глубже вдохновляемого ими искусства. Но с этим никогда не согласятся лишенные воображения и не доросшие до понимания поэзии – позитивно мыслящие литературные скопцы – критики или академики.
Штейгер посвятил Цветаевой только одно стихотворение о 60-х гг. (включенное в этот сборник). Оно перекликается с цветаевским благодарственным гимном «Отцам». Отцы:
Поколение без почвы…
Они интеллигенты-идеалисты, и это может показаться странным. Не в обычном значении, а по более точному определению Г. П. Федотова – русская интеллигенция отличалась идейностьюи беспочвенностью. Поэтому ни Цветаеву, ни Штейгера нельзя назвать интеллигентами. Не было у них общественно-политической идейности, а их почва– предреволюционная культура т. н. Серебряного века. Но вот что подчеркнуто обоими: честность, прямодушие, жертвенность старых интеллигентов-отцов. Здесь Штейгер совпадает с Цветаевой, хотя он прославляет не идеалистов, а интеллигентов 60-х гг. и, при этом, забывает об их пренебрежении и даже презрении к разным стишкам (за исключением некрасовских). Или же – Штейгер имел здесь в виду не нигилистические 60-е года, а скорее всего народнические 70-е и 80-е… Это –
Мысли о
младшем страдающем брате
,
Мысли о нищего жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.
И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы…
(«Сентиментальная ерунда»?)
Опять эти штейгеровские скобки… Не потому ли, что это стихотворение показалось ему слишком программно нравоучительным, да еще с «громкими словами» – лозунгами. А цветаевские стихи, посвященные идеалистическим «отцам», одушевлены лирикой сердца. Но, несомненно, штейгер, как и Цветаева, всегда жалел и слушал голос совести.
Многие современные поэты увлекаются Цветаевой и находятся под сильным воздействием ее поэзии, но не замечают унаследованной ею отцовской совести, и самое это слово, как и жалость, исключают из своего обихода и словаря. Модны всякие декадентские гротески и давно уже увядшие цветы зла, похищенные у немецких экспрессионистов или французских сюрреалистов, а также – путаные поверхностные вешания едва ли во что-либо верующих «метафизиков» – поэтов и художников. А о Штейгере они, вероятно, даже не слышали. (Между тем, в Москве его стихи читают…)
Штейгер никаких героев не воспевал. Цветаева была смолоду героична. В юности паче меры возлюбила Наполеона, а он был «хищный тип», как и многие другие герои будь, то Тезей или Зигфрид.
Правда, их хищности она не замечала, и ей ближе всего были их трагические концы. Но вот пожалела больного Сироту – Штейгера или свою московскую подругу актрису Сонечку Голидей (в Повестии стихах, ей посвященных).
Жалость – тихое чувство, а жалеющая Цветаева гремела в поэзии, но не было никакой фальши в ее лирических «громких словах», пугавших Адамовича и Штейгера, которые не могли ее понять в поэзии, как и она их.
Цветаева утверждала: она будет спасена на вымышленном ею Страшном суде слова, но не была уверена в спасении на Судилище Христовом. А цветаевская и штейгеровская жалость, совестливость, не так уж типичны для русских интеллигентов: это, прежде всего, евангельская жалость (что понимали Короленко или Надсон).
Оба жалели: но у обоих не было веры в торжество деятельной любви, и в Воскресение Христово. Это, конечно, говорится не в укор: могут быть спасены и неверующие в спасение – и в Бога. У Творца своя мера: более суровая в Ветхом Завете и щедро милующая в Новом Завете. Одно очевидно: Марина Цветаева и Анатолий Штейгер знали: нет ничего выше жалости и любви, под которой иногда подразумевается не любовь, а нечто, ничего общего с ней не имеющее. Цветаева (не Штейгер) знала соблазны искусства, но, в основном, громкая цветаевская поэзия, как и тихая штейгеровская – есть поэзия добра и света.
Я знаю Анатолия Штейгера по многим изустным отзывам о нем Г. В. Адамовича и других парижан или по воспоминаниям З. А. Шаховской. Мы с ним не встречались, но переписывались в 30-40-х гг., и его письма сохраняются в архивах Йельского университета. Штейгер писал мне на небольших картонах с выгравированным на них баронским гербом. Были у него черты снобизма и дендизма, а его монархические симпатии – преимущественно эстетические. Некоторым декадентством отзывается его юношеское стихотворение, обращенное к прекрасному и надменному Габсбургу:
У него было мало друзей,
Были только влюбленные слуги.
Я хожу теперь часто в музей
Проводить перед ним все досуги.
Есть здесь та красивость, которую он позднее, и не без влияния Адамовича, вытравил из своих стихов.
Штейгер в жизни и Штейгер в поэзии – не совпадают. Но здесь нет двойственности, двуличности. Отдавая дань всему житейскому, он всё лучшее в себе вкладывал в стихи (Одна из лучших статей, посвященных Анатолию Штейгеру, написана Г. В. Адамовичем. Она включена в его книгу Одиночество и свобода. Н. Й., Изд-во им. Чехова, 1953, стр. 286–290. Прим. Ю. И.).
«Бывает чудо, но бывает раз…»
Бывает чудо, но бывает раз,
И тот из нас, кому оно дается,
Потом ночами не смыкает глаз,
Не говорит и больше не смеется.
Он ест и пьет – но как безвкусен хлеб…
Вино совсем не утоляет жажды.
Он глух и слеп. Но не настолько слеп,
Чтоб ожидать, что чудо будет дважды.
Венеция, 1937
«Нет в этой жизни тягостней минут…»
Нет в этой жизни тягостней минут,
Чем эта грань – не сон и не сознанье.
Ты уж не
там
, но ты еще не
тут
,
Еще не жизнь, уже существованье.
Но вот последний наступает миг,
Еще страшнее
этих
– пробужденье.
Лишь силой воли подавляешь крик,
Который раз дозволен: при рожденье.
Пора вставать и позабыть о снах,
Пора понять, что это будет вечно.
Но детский страх и наши боль и страх
Одно и то же, в сущности, конечно.
«Опять Сентябрь. Короткий промежуток…»
Опять Сентябрь. Короткий промежуток
Меж двух дождей. Как тихо в Сентябре.
В такие дни, не опасаясь шуток,
Мы все грустим о счастье и добре.
В такие дни все равно одиноки:
Кто без семьи, и кто еще в семье.
Высокий мальчик в школе на уроке
Впервые так согнулся на скамье.
Старик острее помнит о прошедшем.
О, если б можно сызнова начать
И объяснить, что он был сумасшедшим…
Но лучше скомкать всё и замолчать.
А в поле сырость, сумерки, безмолвье,
Следы колес, покинутый шалаш.
Убогим хлеба, хворому здоровье
И миру мир Ты никогда не дашь.
Корфу, 1938
2-IX-1932
У нас теперь особый календарь
И тайное свое летосчисленье:
В тот день совсем не 1-й был Январь,
Не Рождество, не Пасха, не Крещенье.
Не видно было праздничных одежд,
Ни суеты на улице воскресной.
И не было особенных надежд…
Был день как день. Был будний день безвестный.
И он совсем уж подходил к концу,
Как вдруг случилось то, что вдруг случилось…
О чем года и день и ночь Творцу
Молилось сердце. Как оно молилось…
Ницца
«Конечно, счастье только в малом…»
Конечно, счастье только в малом…
«Нам нужен мир». Не нужен. Ложь.
Когда движением усталым
Ты руки на плечи кладешь…
И на лице твоем ни тени








