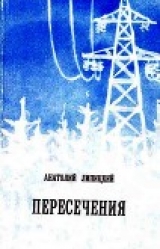
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Сломанная кисть
Маэстро знал, что главное свое произведение он еще не создал, хотя молодость миновала и приходили мучительные сомнения, успеет ли он вообще оставить память о себе. Он знал: за многие годы работы из-под его рук не вышло произведения, достойного стать в ряд с работами его именитых учителей, а коль ты художник и не сумел подняться выше своих предшественников, – нет бессмертия твоему имени.
Последняя законченная работа – надгробие в Сан-Лоренцо – не удовлетворяла его. Сначала он предался работе с упоением, и ему нравились даже решетки со строгим узором, да и весь ансамбль, суровый и величественный, как и подобало гробнице грозного Медичи, но равнодушие наступило раньше, чем были окончены последние отливки. Не то, сказал он себе, совсем не то опять!
Маэстро мечтал о совершенстве линий, о легкости и невесомости, присущей лучшим работам древних, секреты мастерства которых давно утеряны.
Главное – успеть, торопиться. Он глядел на безрассудную молодежь и с досадой вспоминал свои юные годы. Сколько растрачено впустую! Да-да, он знает, что брюзжат старики, что осуждают свое прошлое неудачники. Но ему известно и то, что довольны собой в основном бездарные лентяи.
Маэстро прохаживался по каменному полу новой церкви в Сан-Сальви. Сюда привез он восемь лучших учеников, привез к неоконченной своей картине, чтобы видели они и постигали ремесло живописца.
Разные обликом, одеждами, манерами, ученики для маэстро были похожи одним – непостоянством. Даже самый талантливый из них, юный сын нотариуса Пьетро, никогда не станет большим мастером. Ему некогда. Кроме искусства он забавляется далекими от живописи фантазиями. И нередко на его картоне остаются россыпи цифр и знаков, силуэты химер и чертежи странных механизмов.
Вот и сейчас, когда мальчику нужно подчеркнуть на портрете сходство с оригиналом – ведь было предложено сделать копию, – он рисует своего Иоанна. Конечно, можно и так, в повороте головы открыть для света шею, но это наводит на мысль, что за всякую красоту приходится расплачиваться. Не только уродством старости, но иногда – собственной головой. Может, так и надо, только не в картине для церкви. Художник рассердился.
– Сеньоры! – обратился он к ученикам, и голос его, мягкий и приятный, зазвучал гулко под церковным куполом. Губы учителя на полном добром лице искривились. – Живопись, как и всякий труд, не терпит пустых фантазий. Все должно подчиняться одной цели, одному идеалу. Этот идеал высок и прекрасен, как честь любимой. Имя ему – правда. Чему вы там улыбаетесь? Вам это давным-давно известно? – маэстро обвел всех взглядом. – В таком случае вы просто лентяи, сеньоры.
Ученики зашептались.
– Тише! – поднял руку учитель. – Кто не согласен со мной? Конечно, и ты? – он встретил взгляд сына нотариуса, который дерзко поднял голову, откинув со лба пышный локон. – А ты знаешь, что слова – это мусор, шелуха? Доказательство для художника – его работа. Сегодня я уезжаю. Мне нужно встретиться с настоятелем Валломброзы. Изобрази одного из ангелов на этой картине. Вот здесь, я говорил вам. И чтобы видно было – это не нищий, не воин, не сын купца, понимаешь? Ну, марш все отдыхать! Завтра с вами будет Сандро.
Ученики, перешептываясь, выходили следом за учителем. Кто-то сочувственно похлопал мальчика по плечу, кто-то дернул за локон.
Церковь окружали высокие деревья. В узкие стрельчатые окна заглядывали каштаны и лавры, а в голубом просторе над вершинами гор нависли снежные груды облаков. Теплый ветер слабо шумел в душистой листве, прилетая сюда с далеких вершин. У горных подножий, в одной из долин, среди садов и виноградников находилась небольшая деревня с древним названием, – родина юного ученика маэстро. Когда мальчик впервые приехал в шумную Флоренцию, ему казалось, что успех ожидает его на каждом шагу. Время идет, а где он, успех? Учитель забыл о восхищении первыми его работами. А если теперь с ангелом ничего не получится, значит, маэстро прав: есть мастера и есть копиисты.
Мальчик подошел к картине и стал – который раз,! – рассматривать ее. Больно кольнула мысль о натурщике. Где взять модель для изображения ангела? Одно за другим мелькали перед внутренним взором лица друзей, знакомых. Что же делать? Вот она, кисть маэстро. Бери, краски уже растерты, грунтовка прочна. «Не сын купца, не нищий, не воин – ангел!»
Тишину церкви нарушили шаркающие звуки. Мальчик оглянулся. Опираясь на черную суковатую палку, по плитам ковылял церковный сторож.
Некоторое время они молчали – мальчик и страж, – глядя друг на друга. Затем, запинаясь, юный художник стад объяснять, кто он и почему не ушел со всеми.
Слова, обращенные к старику, взлетали к далекому куполу и, затихая, уходили к небу за окнами, а старик все молчал и смотрел на Иоанна и Христа выцветшими глазами, то ли думал, то ли дремал. Наконец он задвигал сухими губами и спросил:
– Что ж ты медлишь? Время уходит.
– Я не умею так… Я должен видеть перед собою лицо, – мальчику стало обидно. Как же так, не подумал об этом сразу! Конечно, можно и без натурщиков, но это будет не работа, а мука, беспрерывное исправление, ловля призраков. Он подумал, что маэстро решил подшутить над ним.
– Он знал, понимаешь? Знал, что я не найду так просто лицо для ангела. Ведь он сам давно ищет. Теперь станет смеяться.
Старик подвигал губами, посмотрел в глаза подростка и улыбнулся, отчего его лицо стало еще морщинистей.
– Сейчас, – сказал старик очень тихо, – я сейчас вернусь.
Стук палки умолк за открытой дверью. Было слышно лишь, как шуршит листва на деревьях за окнами.
Старик возвратился, сжимая негнущимися пальцами осколки стекла.
– Я подобрал их, давно подобрал. Напротив собора. Там разбилась карета какого-то сеньора. Лошади понесли. Да. – Старик умолк, вспоминая ушедшее. Мальчик терпеливо дожидался, и старик заговорил опять. – Это зеркало. Да. Конечно, никакой ты не ангел. Когда-то дети были лучше. Да. Но если у тебя нет никого на примете, гляди на свое лицо. Только, знаешь, у ангела всегда глаза голубые. Да, – старик запыхался от длинного разговора, – не сердись на сеньора, он добрый. Он разговаривал со мной. Да. Со мной когда-то разговаривал сеньор Донателло.
Мальчик глядел на осколки зеркала, хмуря тонкие брови, нерешительно переступая с ноги на ногу. Старик молчал, потряхивая головой, и было непонятно, ободряет ли он юного живописца, вспоминает ли давние случайные встречи или просто не может удержать голову от старости.
Усадив старика на скамью у стены, мальчик стал растирать краски. Сомнения мучили его, и когда он наконец коснулся кистью картины, лицо его в зеркале выглядело растерянным и озабоченным. Разве такими бывают ангелы? Левая рука с кистью дрогнула. Разве так можно писать – заглядывая в зеркало?
Много-много лет спустя, работая над автопортретом и всматриваясь в морщины, изрубившие его лицо, он вспомнит как призрачный сон пустую церковь в Сан-Сальви, весну за окнами, осколок зеркала в правой руке и своего неожиданного помощника, с укоризной сказавшего ему:
– Что-то сдается мне, будто ты и впрямь не очень работящий…
Услышав эти слова, мальчик уронил кисть. На полу осталась клякса небесной голубизны.
Вытирая капельки пота со лба, юный художник вспомнил благословение матери. Мягкая щека ее, вся в еле видимом золотистом пушке, издавала слабый запах розы. Так пахли все мамины вещи… «Ты станешь хорошим художником, – говорила мама. – Как бы тебе ни приходилось трудно и плохо, мой мальчик, помни – я верю в тебя».
Он поднял кисть, оглянулся. Старик сидел, прислонясь к стене. Луч солнца, проникнув в окно, скользнул по глубоким морщинам хранителя церковных ключей, запутался в седой бороде. Старик дремал.
У мальчика пропало всякое желание работать. До сих пор ему все давалось легко и просто, было б настроение. Сейчас нужно было приступать к работе, кажущейся невыполнимой. Мальчик смотрел на полотно, и сердце его сжимала грусть. Он еще не знал, что в жизни придется не раз бросать любимое дело и дорогих людей, бежать на чужбину, скитаться вдали от отчизны. Он не догадывался, что десятки своих работ напишет по заказу. Он впервые в жизни почувствовал, что живопись – труд, а не только радость и каприз.
Мальчик вздохнул и стал смешивать краски, изредка поглядывая в зеркало и уже настраиваясь на то, что ангела надо, надо написать.
Спустя два дня маэстро пришел в церковь, настроенный благодушно: ему удалось договориться со старой лисой в сутане о картине для монастыря.
Входя из солнечного дня в тихие церковные сумерки, маэстро громко сказал ученикам, работающим над своими картонами:
– После Мазаччо никто не может передать в портрете душу человека, будь то радость или печаль, гнев или страдание. Мазаччо был великим, великим! Но! – маэстро поднял палец вверх. – Законы искусства требуют, чтобы после великих приходили великолепные и потрясающие. Или, – маэстро обвел всех взглядом сверкающих молодых глаз, – или не приходил никто!
Ученики молчали. Они всегда внимательно слушали маэстро, ценя его талант, уважая старшего, друга. Но на сей раз учитель ощутил, что его не слушают и даже смотрят не на него, а на неоконченную его картину. Он вспомнил о смешном разговоре с мальчиком, виновато опустившем голову в первом ряду, и пожалел, что был строг с юным задирой. Бедный мальчишка! Талант не позволил ему рисовать плохо, а самолюбие – отказаться от работы. Да и отсутствие модели – какая это беда! Бедный мальчишка! Курточка и брюки забрызганы воском: он рисовал ночью, дня не хватало. Боится, что испортил работу. Невелика беда, перегрунтуем.
Решив не вспоминать об уговоре, маэстро взял свою любимую кисть, обернулся к картине и замер. Когда он входил в церковь, его глаза, полные солнца, не видели того, что открылось перед ними теперь. На том месте, где должно быть по замыслу ангелу, появилось лицо, мальчишеское лицо. Узкие брови, голубые выразительные глаза, легкий поворот головы. Все выписано безукоризненно, с удивительной простотой шедевра.
– Что это? – прошептал, бледнея, учитель. Ведь об этом выражении голубых внимательных глаз он мечтал сам, да не решался: ангел ведь!
Маэстро беспомощно оглянулся и прямо перед собой, в пяти шагах, среди своих учеников увидел лицо с картины, лицо, в котором были ожидание и испуг.
Видя растерянность учителя, не понимая, на что маэстро может сердиться, мальчик робко проговорил:
– Вы же… разрешили, сеньор.
– Ну конечно же он разрешил тебе! – дрожащим голосом проговорил из серого угла сторож.
– Ты? – маэстро ошеломленно смотрел на мальчика. – Ты написал этого… себя? – Он посмотрел на кисть в своей руке и, переломив ее пополам, швырнул обломки на пол. – Я – жалкий пачкун, а не художник! Если мальчишки начинают рисовать так, – он указал на ангела, – стоит ли заниматься живописью зрелым мужам? Вся Флоренция скоро станет называть меня учеником ученика!
Он внезапно успокоился и подошел к мальчику, возле которого стоял сердитый сторож, положив сухую руку на мальчишеское плечо.
– Где кисть, которой ты писал? – спросил маэстро.
– Вы сломали ее, сеньор.
– Не сердись, – заговорил учитель с грустной сентиментальностью. – Дорогой мой мальчик, ты – будущая гордость Флоренции. В твоих руках спрятана такая сила, что ты не сможешь ей не подчиниться. Твое имя скоро прогремит по всей Италии. Я стану стар и беспомощен, но ко мне придут люди, чтобы я рассказал им о тебе. Может, я так и не напишу, не создам ничего великого. Но я сохраню эти обломки, эту кисть, которой ты написал свою первую настоящую работу, написал на моей картине. Ты превзойдешь великих мастеров, дорогой мой, это говорю тебе я, Андреа Вероккьо!
Это было пятьсот лет назад, голубой весной 1467 года.
Андреа Вероккьо ошибся: юный талантливый ученик его стал гордостью не только прекрасной Флоренции и всей знойной Италии. Он стал Леонардо да Винчи.
Повести

Признание
«Прекрати психовать, – сказал Евсеев самому себе, снимая трубку. – Прекрати, ты же не пацан». Краем глаза он видел из будки телефона-автомата свой зеленый «Жигуль», у бордюра, видел притеревшийся к его машине «Пазик».
Сердце у Евсеева колотилось так сильно, что он не выдержал и нервно хихикнул в трубку, в которой уже звучали сигналы вызова. Кто бы мог подумать, что ты способен так волноваться, командир! Ты еще начни заикаться и мычать.
– Слушаю…
Голос был ее, впрочем… Последний раз, шесть лет назад, они разговаривали по телефону минуты три, а до этого не виделись десять лет.
– Здравствуй, это я, – сказал он решительно и, кажется, слишком громко.
– Здравствуй, Коля. Ты живой?
Ему словно залепили пощечину. Бог мой, до чего же коротка наша жизнь! Семнадцать лет назад, когда он еще служил в армии, пришло, после того как он уже приказал себе не мечтать о ней, письмо. Николай не вскрывал конверт, носил целый день в кармане, гадал, что может быть в письме. Уезжала куда-то. Болела. Вышла замуж… В конце концов он прочел аккуратные строчки, выписанные ее ровным круглым почерком. Письмо было ни о чем. Просто так. Единственный вопрос в том письме звучал невыносимо обидно. «Ты еще живой, солдат? – спрашивало письмо. – Мне легко и весело, я отдыхаю после весенней сессии, рядом со мною хорошие девочки и мальчики. Если ты живой, то знай, что мне хорошо. На всякий случай отзовись, солдат. Не потому, что ты еще дорог мне, совсем нет. Просто так, отзовись, солдат. Не потому, что жизнь тускнеет без тебя и никаких просветов впереди нет. Я случайно вспомнила о тебе, каприз такой. Может, я слишком долго молчала, но какое это имеет значение теперь, ведь я написала тебе».
Так он воспринял тогда ее письмо. Таким оно осталось в его памяти, хотя в действительности вряд ли было столь безжалостным – он наверняка напридумывал ослепленный обидой. А ответил записочкой, лихой и горделивой, чтобы не догадалась Антонина, как ему больно. На его послание ответ не последовал, сам он больше не стал писать. Так и прекратилась их затяжная многолетняя переписка, которая началась еще до призыва Николая в армию, когда он уехал учиться в техникум в продутый морскими ветрами, чистый южный город. В той переписке были и нежность, и вера, и тоска, и надежда – много писем написали они друг другу, прежде чем отправили последние, завершающие. Вернувшись из армии, Николай сжег и все старые письма Антонины, хранившиеся на чердаке в чемодане – устроил костер. А затем прошло десять лет и еще шесть…
Он понял, что молчит, и сейчас Антонина просто положит трубку, и неизвестно, сколько им еще жить, не видя друг друга.
– Я живой! – сказал он резко, пытаясь и ту, древнюю свою обиду высказать заодно. Да поймет ли Антонина, может, вообще позабыла, полжизни уже прошло. – Я живой. И хочу тебя видеть.
– Тебе не кажется, что наши встречи происходят слишком часто?
– Мне дают отпуск один раз, в три года.
– Ты говорил – в шесть.
Ему стало грустно. Да, в ту, предыдущую встречу он сказал, что хоть раз в шесть лет они имеют право встречаться. Бог с ними, с заботами и важными делами. Плохого от их встреч не будет никому. Неужели они не смогут из шести лет выкроить для себя час-другой?
– Ты думаешь, это слишком часто – раз в три года? (Она хмыкнула.) – Послушай, если ты можешь, если тебе ничто не мешает сейчас… Подойди к аптеке, за углом здесь, в переулке, я буду в машине, зеленые «Жигули».
Она молчала. Он видел, что вместо «Пазика» рядом с его машиной пристроился фургон «Книги».
– Просто посидим. Можно проехаться по городу или в степь. Как захочешь. Лишь бы тебя увидеть. Если не можешь сейчас, скажи когда.
– Через десять минут, – она тотчас же положила трубку.
Он прошел к своей машине, сел за руль, тихонько выдвинулся из ряда стоящих автомобилей и поехал к перекрестку, справа от которого в переулке виднелась аптека. Переулок был узкий, пришлось въехать правыми колесами на тротуар. В зеркальце заднего вида он мог просматривать перекресток и тот угол, из-за которого Антонина должна была выйти.
Подстриженные акации и клены едва прикрывали от солнца асфальт тротуара и машину, в салоне было жарко, немыслимо жарко и душно, воздух, казалось, обжигал легкие. Евсеев зашел в аптеку, увидел на полке минеральную воду и купил две бутылки. В салоне своей машины он выпил из горлышка почти целую бутылку соленой и отдающей йодом «Миргородской», надеясь, что непрестанная жажда, мучающая его в этой жаре, пройдет. Он никак не мог привыкнуть к такому теплу: всего лишь семь дней назад он сажал свой вертолет на заснеженном перевале между Певеком и Комсомольским, и бортмеханик, заботливый старательный Михаил Петрович, прыгал с металлическим щупом пробовать, пот ли там, под снегом, ямы или валуна, и брел по снежным пушистым сугробам, проваливаясь почти по пояс.
Здесь асфальт плавился от жары, даже в тени размягчился. А ведь Евсеев был рад, что ему дали отпуск в августе, надеясь, что основная жара прошла.
Прежде чем позвонить Антонине, Евсеев долго колебался. Даже мать, обычно не докучавшая расспросами, заволновалась, обратив внимание на угнетенное настроение сына:
– Ты не заболел?
– Мне жарко, мама, – сказал он полуправду. Даже при той духовной близости, которая сохранилась у них с матерью, он не мог ничего объяснить. Не о чем было говорить. Просто так, тоска по детству. У всех бывает. Пройдет.
Он спрашивал сам себя: зачем звонить? Что даст этот разговор Топе и мне? Она живет в своем мире, я – в своем. Миры эти, как две галактики, объединиться могут лишь в уничтожающей катастрофе, когда все гибнет и рождается новый мир. Галактики эти есть и будут сами по себе, и оба мы уже не сможем принадлежать чему-то новому. Встречи не нужны. Ну и что? Ну и пусть идет все, как есть, причем здесь новые миры и катастрофы? Просто я хочу ее увидеть, я хочу ее увидеть… И никого в мире так легко не убедить, как самого себя.
Он глядел на перекресток через узкую полоску зеркала, и кто-то ему мешал, кто-то глядел на него, он даже не понял сначала, что это сам он, отражаясь в зеркале, закрывает себе заднее стекло. Его седая шевелюра, его брови кустиками, его морщинки на лбу, у глаз и у рта – светлые черточки по загорелой коже, – он имел возможность убедиться в том, что мать права: он действительно резко сдал за последние три года.
Когда он начал седеть? После той посадки с остановившимся двигателем на своем Ми-4, когда ему удалось спланировать на песчаную косу в устье Анюя? Сколько длилось это падение – секунд десять, двадцать? Они отделались шишками и синяками, хотя у вертолета сломалось шасси. И Михаил Петрович в наступившей тишине произнес первым: «Высший класс, командир! Спасибо». Кажется, после того полета однажды вечером, когда он сидел в удобном кресле и смотрел футбольный матч по телевизору в своей певекской квартире, жена легонько потрогала рукой висок и задумчиво сказала:
– Мужаешь, Евсеев. Благородная седина появилась.
– Что за мужчина, у которого нет седины на висках?
Нина с сожалением заметила его седину, а он даже не огорчился. Главное – живой, спас своих летунов, у их детей отцы есть, да и Нина не вдова. Впрочем, вряд ли она сильно горевала бы и холостячкой не осталась бы. Одиночество не для нее. Евсеев был неважным партнером: компаний не любил и все больше молчал, а она тосковала без общества. Иной раз Евсееву становилось ее просто жаль, и тогда они отправлялись на вечеринку к кому-нибудь из приятелей, и Нина хохотала и громко рассказывала анекдоты и плясала под «роки», изгибаясь и приседая, и улыбка сияла на ее оживленном лице. А Николай сидел где-нибудь в уголке, неприлично трезвый, покорно улыбался и ежился от вольных манер жены, громкого ее смеха, стыдился оголяющихся выше колен ее полных ног. Иной раз Нина или кто-нибудь из ее подруг силком вытаскивали Евсеева из его угла, тормоша, забавляясь, вынуждали танцевать вместе с ними, и он проделывал все, что от него требовали. В конце концов, говорил он себе, в жизни приходится сплошь и рядом делать совсем не то, что хочется, и нечего раздувать трагедию из того, что ты здесь дергаешься, как паралитик, и прикидываешься донельзя довольным. Хорошо уж то, что твоя жена и ее друзья довольны. Улыбайся и шевелись, вертись и подпрыгивай, ты слишком много времени в своей жизни просиживаешь в кресле.
Однажды он обнаружил в томике Бунина письмо от тещи. Они с Ниной не прятались друг от друга, так он всегда считал. Поэтому письмо прочел. Теща писала о Грише, первом муже Нины: «…я с ним разговаривала, встретила случайно, пригласила к нам. Он расспрашивал о тебе, жаловался на судьбу. Такой представительный, важный. Захотел увидеться с Жанночкой, и я, конечно, их познакомила. Наплакалась сама, и Феденька плакал, и Гриша не удержался. Они целый вечер разговаривали, очень хорошо все получилось. Жанна его узнала по фотографии, я ведь давно ей все рассказала. Да и без фотографии они так похожи, просто ужас. Он дал Жанне 500 р. на обзаведение хозяйством. Просил передать тебе привет. Он так и не женился. По-моему, он все еще любит тебя. Ведет себя скромно, не пьет давно. Должность хорошая у него. Я всегда тебе говорила, что ты поторопилась с разводом, и он тоже так считает. Не говори только ничего Евсееву, он тебя запилит».
А он-то представлял, что ему еще предстоит когда-нибудь рассказать Жанне о событиях почти двадцатилетней давности, когда удочерил он трехлетнюю кроху и увез ее с матерью подальше от тех краев, где не удалась семейная жизнь у Нины. Не удалась? А может, это была простая размолвка?
Он был потрясен таким поворотом событий и той ложью, которая легла между ним и женой. Не из-за Жанны. С приемной дочерью у них давно без нежностей и иллюзий. Почти каждое лето девочка проводила на Украине, у родителей Нины. Возвращалась она на Чукотку не только с южным загаром и витаминной сытостью, но и с зарядом равнодушия и безразличия к настойчивым попыткам Евсеева прививать ей свои взгляды на жизнь и взаимоотношения между людьми. Ничего не получилось у Евсеева, не воспитал он в той, которую называл дочерью, ни честности, ни дружелюбия, ни искренности. То ли не сумел подобрать педагогический ключик, то ли уж слишком примитивно и эпизодически учил «быть хорошей», то ли упорства и мужества не проявил. Как бы там ни было, Евсеев потерпел поражение, ибо выросла Жанна человеком черствого сердца, жестокой и ленивой. Любила хорошо поесть и много поспать. Уже старшеклассницей она могла прискакать с улицы прямо на кухню и залезть пальцами в кастрюлю с супом, выискивая мясо. Евсееву, на беду свою, довелось увидеть однажды эту картину, и ему хотелось от стыда сквозь землю провалиться, а Жанна – хоть бы что, вытерла пальцы о подол юбки и басовито сказала: «Ну, что ты так смотришь? Подумаешь! Я есть хочу».
Нина отчаянно поругалась тогда с дочерью, обозвала ее грязнулей, вылила ей суп под ноги, Евсеев глядел на этот балаган с чувством стыда и горечи. Поздно было что-то менять и ломать. Слишком долго Нина прикрывала дочь, жалела сиротку свою.
– Что ты добро разливаешь? – спокойно заметила Жанна. – Отец ведь варил, не ты.
– Как ты разговариваешь с матерью? – Нина была на грани истерики.
– А что я такого сказала, подумаешь! Я тоже терпеть не могу у плиты стоять. По наследству.
– Я тебя всю жизнь обслуживаю, убираю за тобой и стираю…
– Я же ваша единственная дочь, мама. О ком еще беспокоиться?
…Дочь. Он понимал, что, назвав когда-то малютку своей дочерью, взял на себя обязанность не только одевать ее, кормить и поить. Сделать из нее человека – это была главная обязанность, с шторой, выходит, он не справился. Может, если бы в доме были еще дети… Только в чем же его вина? Ведь Нина не пожелала родить ему ребенка, считая, что это может неблагополучно отразиться на Жанне: та почувствует неладное, отношение к ней может измениться. Зачем девочке знать, что она без отца? Вот потом, когда подрастет, когда-нибудь.
Оказалось, Жанна давно узнала и спокойно прореагировала на то, что Евсеев отчим. И Нина согласилась на встречи Жанны с родным отцом. А ему, неродному, слепому болвану, ничего не рассказала и продолжала свою игру, обещая родить ребенка, обманывая надеждой на какое-то туманное будущее.
Не Жаннина встреча с отцом, а ложь жены подействовала на Евсеева угнетающе. Он всегда; верил Нине, когда она утверждала, что первое замужество – кошмар. И вот это письмо, и Гриша – представительный и важный – плачет, одинокий, отогревает сердце возле дочери и сетует на поспешность Нины. Может, с Гришей у нее переписка и встречи – ведь в отпуск она всегда уезжает одна. Выходило так, что рядом не преданный и верный друг, а затаившийся враг, выжидающий удобного момента. Они уже понимали, что зашли в тупик. Нужно было подвести черту и жить врозь или продолжать делать вид, что все хорошо, что им друг с другом – лучше быть не может. Легче всего оказалась эта ложь. Может, Жанна и ожесточилась потому, что разгадала всю лживость их отношений? После восьмого класса она уехала на каникулы и поступила в техникум. А на последнем курсе, не советуясь с родителями, вышла замуж. С первых же дней у нее не заладилось, но она ничего не писала на Чукотку, все замкнулось на бабушке, верном друге и советчике, и уже та информировала Нину. Конечно, на удалении в девять тысяч километров выяснить все сложности молодой семьи было просто немыслимо, но Нина сразу же окрестила зятя извергом, и вот сначала робко, а затем все настойчивей стали звучать дома, в певекской квартире Евсеевых, разговоры о том, что надо забрать дочь.
Вот тогда Евсеев взбунтовался, впервые с той поры, как женился. «Если ты привезешь со сюда, я уволюсь и уеду в тот же день, – сказал он. – Ни дня не стану находиться с нею под одной крышей. Свою семью каждый строит сам, так всегда было и должно быть. Если ты собираешься за ручку вести свою дочь в ее семейной жизни, – делай это без меня. Хватит, не желаю больше. Был бы еще у нас с тобой ребенок, которому бы я был нужен не за мои деньги и квартиру, а потому, что я отец, – другой разговор. А становиться лакеем лентяйки и бездельницы не желаю».
– А ты сам роди! Выноси и роди. Потрясись над ним девять месяцев, отдай по капле свою кровь, свои нервы, свою жизнь. Умри с ним сто раз, когда он вдруг замирает в тебе, воскресни с ним и останься жить.
– Ну что ты мелешь?! – он тоже взбесился. – Можно подумать, что ты одна рожала.
– Ну и ищи себе. С меня хватит. У меня ребенок есть.
– А что же ты думала, все обещаниями кормила?
Нина не стала отвечать, ушла на кухню. Он пошел за ней, договаривая все, не надеясь на другой раз:
– Ты считала, что я смирюсь? А я не желаю смиряться, не желаю врать и слушать враки. Ты изолгалась уже.
Скандал получился тяжелым. Но оба они испугались последних слов и разрыва. Его нежелание сочувствовать в беде с дочерью настроило Нину на откровенную враждебность, на резкость в разговорах, на вспышки грубости. Вместо того чтобы как-то смягчить атмосферу, поговорить с женой дружески и ласково, Евсеев тоже замкнулся, заледенел. Оба считали себя правыми и обиженными, виноватых не оказалось.
Что их удерживало от развода? Жалость, наверное. И привычка, рабская привычка. Хотя оба они благополучно обходились друг без друга по неделям. Спали в разных комнатах: Евсеев с годами стал во сне храпеть, мешал чутко спящей жене, и она просто переселила его, постелив ему на диване. В отпуск ездили по очереди: Нина – ежегодно, во время школьных каникул, Евсеев – раз в три года, чаще не отпускали.
После длительной разлуки несколько дней в семье Евсеевых царил иллюзорный мир, но былые обиды росли, затем снова ссора, и семейная нервотрепка превращалась в привычное состояние. Так и катилась телега их семейного сосуществования; со стороны все нормально и хорошо, не пьют, не дерутся, помогают друг другу. Иногда Евсеев приготавливал обеды, зная неприязнь жены ко всем кухонным делам, хотя чаще оба они питались по столовым да кафе, иногда вместе шли в «Арктику» – центральный певекский ресторан на берегу Ледовитого океана. Белье сдавали в прачечную, уборку в квартире делали в молчаливом согласии по субботам или воскресеньям вдвоем, когда Евсеев был свободен от полетов. Другие и шляются, и получку пропивают, и сбегают из дому, а у них все как у людей. Правда, Евсеев стал замечать, что одно его присутствие вызывает глухое раздражение, и понимал, что их совместная жизнь уродлива и аморальна, что надо в конце концов решиться и уходить. А что дальше?
Очередной отпуск у Нины закончился 25 июля. Она возвратилась в Певек к своей работе, в августе предстояли педагогические конференции и подготовка к новому учебному году. Возвратилась Нина с материка странно тихой, угнетенной. Не стала созывать традиционную вечеринку, молчала больше. Евсеев испугался:
– Ты заболела? Ты плохо чувствуешь себя?
– Не радуйся, не скоро еще сдохну.
– При чем здесь мои радости?
– Ты и твоя мамочка неделю праздновать будете мою смерть.
– Ну хорошо, это будет потом. Сейчас что? Ты же как после тифа.
– А ты и рад. Избавиться от меня решил?
– Не кривляйся, тошно. Ты лучше иди лечись.
– Пройдет.
Но не проходило, и Евсеев настоял, чтобы жена сходила в поликлинику, к знакомому терапевту. Тот послал «больную» на обследования и анализы, сам очень добросовестно все просмотрел, прослушал, поглядел снимки и заявил, что Нина здорова, как спортсменка. Действительно ничто не болело у нее, но что-то в ней сломалось. Она стала другой: боязливой и не такой равнодушной, как в последний год. Пыталась быть с Евсеевым ласковой, но боялась показать свою слабость. В конце июля в Певеке выпал снег, стало холодно в квартирах, Нина мерзла по ночам, приходила к Евсееву; «Согрей меня». Накануне его отъезда в отпуск поздно ночью тихонько пришла к нему, не зажигая света, присела на диван, прошептала:
– Как ты думаешь, я еще смогу… с маленьким?
Он мгновенно проснулся, по лежал неподвижно и молчал. Он не знал, что отвечать ей, не мог просто так перешагнуть через всю ту гору шлака, накопившегося в сердце за последние годы. О каком маленьком она говорила? О внуке? Нина посидела минутку, вздохнула и ушла.
Евсеев улетал в отпуск с тяжелым сердцем. Ему казалось, что он оставляет жену в беде. Конечно, баба здоровая, но что-то случилось у нее с тем, что называют душой. И искала она опору, стержень. Что ей надо?
Из Москвы, с центрального телеграфа, он позвонил на Чукотку. В Москве стоял теплый звездный вечер, а в Певеке звонок застал Нину еще в постели: она только проснулась, там уже утро. И хоть снег в Певеке растаял, но было там пакостно, сыро, холодно и неуютно.
– Как твои дела? – спросил Евсеев.
Нина помолчала, шмыгнула носом, сказала глухо:








