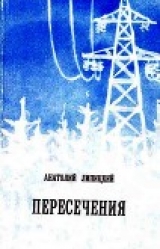
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

Анатолий Липицкий
Пересечения
Рассказы

Девушка и танки
В подмосковную клинику его привезли и сдали в сорок четвертом году. В единственном документе – сопроводительной, написанной химическим карандашом по печатному немецкому тексту и подшитой затем к истории болезни, – говорилось, что больной доставлен неопознанным; партизаны освободили его из лагеря под Остром вместе с другими военнопленными, над которыми фашисты проводили медицинские опыты. Он был травмирован психически, не разговаривал и временами не понимал, что ему говорят.
В клинике он, человек без имени, пробыл много месяцев и вышел оттуда уже после войны, так и не вспомнив роду-племени своего. Имя ему дал лечащий врач, доктор Забельский. Предложил и фамилию – Седой, потому что голова у человека была совсем белой от седины, но больной отказался, пожелал взять фамилию своего «крестного отца» – доктора. Отчество ему записали Иванович, потому что был он с виду самый что ни на есть русский. И стал седой человек зваться Виктором Ивановичем Забельским. Выдали ему на это имя паспорт и удостоверение инвалида первой группы.
Иногда он все-таки вспоминал свое прошлое, а в этом прошлом видел всегда только две картины. Либо навстречу ему бегущую девушку, смеющуюся, прекрасную и – он это знал наверняка – очень близкую ему, хоть он и не мог ничего такого вспомнить о ней. Либо танки! Танки с желтыми обводьями вокруг черных крестов, танки, идущие из-за леса, ломающие деревья, выползающие один за другим на низенький деревянный мост, танки, которые нужно во что бы то ни стало остановить…
Воспоминания о танках, ползущих через мостик, вызывали у Забельского острые приступы головных болей с галлюцинациями: он отчетливо видел черные отверстия орудий, мелькание траков, стеклянный блеск смотровых щелей. Он видел взлетающие над танками комья земли, грязь, черную копоть выхлопов. Он трогал какие-то колесики и рукоятки, пытался крутить их, но пальцы хватали воздух. Он ничего не мог сделать, он был один перед дулами пулеметов и пушек, перед грохотом гусениц, перед упрямым качанием надвигающихся бронированных тварей. Жажда жизни сметала в его сознании остатки здравого смысла, бросала его на землю, заставляла куда-то ползти, бежать, укрываться. Он мчался сквозь реальную жизнь, мимо невидимых людей по улицам, подъездам, тротуарам, сбивая встречных, падая, чудом не попадая под колеса автомобилей, слетая по лестничным маршам… Его останавливали, держали, вызывали «Скорую», и он попадал в психиатрическую лечебницу. Обычно болезнь отпускала его через несколько часов, оставалась лишь слабость, но всякий раз, если это случалось в другом городе, проходили месяцы, прежде чем почта приносила из подмосковной клиники подтверждение его военной травмы, и неумолимые доктора соглашались выпустить его из больницы. Ведь никто за него не поручался, никто не обещал за ним присматривать, а то, что он считал себя здоровым и не желал находиться в обществе душевнобольных, для вралей отнюдь не было решающим.
Он приобщился к самому простому физическому труду, ибо ничего другого ему не позволялось. Он мог бы и не работать вовсе, но понимал, что лишь в общении с людьми сможет найти себя.
Грузчик, носильщик, землекоп. Койка в общежитии, койка в лечебнице. Читать поменьше, в кино пореже. Случайные осторожные и недоверчивые к нему, «психу», друзья, случайные, безразличные женщины. Выходя из лечебницы, он уже не возвращался в последнее свое общежитие. Чаще всего на работу его принимали без сложных формальностей, поденно. Паспорт при нем, в кармане. Инвалидную книжку можно и не показывать. Страна – огромная, дорог – по исходить. Где пешком, где на попутных. От села к селу, от города к городу. От моря к морю.
Тоска по неведомому, жгучая вера гнали его, не позволяли задерживаться на одном место. Полотер в домах отдыха, сборщик роз и фруктов, уборщик мусора, грузчик на железнодорожных станциях, на складах, в зернохранилищах, рабочий в гастрономах, подсобный в артелях каменщиков, в бригадах авральных работ – на жизнь ему хватало с избытком, со временем он даже стал откладывать на сберкнижку. Потихоньку стал читать, а когда почувствовал, что вреда это не приносит, пристрастился к книгам все с той же надеждой прочитать о чем-то, что заставит его уснувшую – он не хотел думать, что сгоревшую, – память воскреснуть. Одевался он аккуратно, не курил и в рот не брал спиртного, убедившись, что табак и алкоголь помогали попадать в больницу.
Так прошло четырнадцать лет. И наступило избавление от тяжкого недуга, то ли благодаря, то ли вопреки лекарствам и лечениям. Однажды посреди улицы Виктор Забельский увидел рычащий танк с черно-желтым крестом на приплюснутой башне и не потерял контроль над собой, не впал в беспамятство, а сказал себе, что это – нормально, что у каждого человека бывают вспышки ярких и зримых воспоминаний. Приступа не последовало, и Забельский впервые стал подумывать, что действительно здоров, – затем это с большим изумлением подтвердили и психиатры.
Прошло еще два года, и Виктор поверил окончательно в свое возвращение к нормальной жизни, хоть ему и оставили третью группу инвалидности.
И наконец Забельский решил, что пришло время активных поисков. Теперь, если он найдет родных или близких, им не придется пугаться его болезни, не нужно будет его отхаживать, навещать по лечебницам, носить ему передачи, забирать, как ребенка, домой. Теперь он обыкновенный человек, как все.
Он ходил по улицам Чернигова, куда приехал искать свое прошлое. В плоскостях витрин на фоне снежных сугробов мельтешили отражения прохожих, и он искоса ловил на стекле качающийся свой силуэт. Останавливался, всматривался в неподвижное свое отражение. «Кто ты? – хотелось спросить. – Как же ты совсем ничего не помнишь?»
Виктор – победитель. Победитель тьмы, смерти. Так сказал доктор Забельский, считая сам факт его возвращения к жизни великим и необъяснимым чудом. «Не старайся вспоминать. Это лишь будет угнетать тебя. Вспомнишь внезапно, со временем. Нужен какой-нибудь толчок, сигнал из прошлого. А может, ничего не вспомнишь, чаще бывает именно так».
Шестнадцать лет прошло, а ничто не восстановилось, никто сам не пришел из былого.
«Почаще показывайтесь врачам, – советовали ему на последней ВТЭК. – Особенно если почувствуете что-то неладное». Нет уж! Теперь он сам себе врач. Нужно верить в себя, не бояться, не прислушиваться: вот оно, сейчас начнется. Нужно быть уверенным: смогу противостоять, ничего не случится, это все – от страха, только от страха. А чего теперь-то бояться?
В Черниговском краеведческом музее ему посоветовали съездить на место бывшего лагеря военнопленных, в Старую Гуту.
Дома Старой Гуты лепились друг к другу на высоком берегу Десны. С обрыва широкая река, укрытая сугробами, казалась большой дорогой к теплому морю. Зябко поеживаясь и сутулясь в своем демисезонном пальто, Виктор Забельский стоял над обрывом, тщетно пытаясь вызвать в памяти воспоминания, связанные с этими местами.
По укатанной снежной дороге ехала к нему автомашина. Виктор поднял руку: до Чернигова можно было добраться только на попутной.
Шофер попался молчаливый, ни о чем не спрашивал, только покуривал едкий «Беломор». Забельский смотрел вперед, чувствуя приятное тепло от двигателя, За стеклами кабины высились огромные заснеженные деревья; машина вошла в лес. Пригревшись в тепле кабины, Виктор вспоминал в полудреме свой разговор со старым колхозником, у которого останавливался в селе.
– Отчего ты такой седой, сынок? – спросил хозяин, угощая пришлого человека горячим чаем с какой-то лесной ягодой.
– Война, отец. Не я один.
– Да, холера ей. А что думаешь, не будет больше войны-то, а?
– Трудно сказать, отец. Слишком много пороху скопили в мире. Достаточно окурок бросить не туда и – крышка. – Забельский помолчал и спросил: – А ты не помнишь, батя, когда партизаны к вам вошли, в сорок третьем, здесь был лагерь военнопленных, больница у немца была. Что за люди были в лагере, кого там освободили? Ты кого-нибудь из них знал, видел?
– Ясно дело, видел. Замордовали там много хлопцев. Седые были, как ты сейчас. Кто остался жив, еле выходили из бараков. А тех, кто лежал за бараками в траншеях, было много, не сосчитать. Живых мало осталось. Неизвестно, откуда были те хлопцы, большая наша страна и вся на немца встала. Из живых тоже никого не знал. Та кто ж тогда спрашивал об этом? Свои имена забывали. А что, шукаешь кого из родных?
– Шукаю, отец. Давно шукаю…
Лишь побывав на Черниговщине, понял Виктор, какой иллюзорной была его надежда узнать что-либо о своем прошлом. Почти два десятка лет – целая жизнь! И – такая война! И – ничего, за что бы можно было ухватиться памятью. Девушка и танки. Невозможно! Никогда не думал он раньше, что это так невозможно. Все ждал, что выздоровеет и станет искать. Не хотел быть обузой близким людям. Считал – придет в адресный стол, в газету, а ему сразу же скажут: давно вас ждем, что же вы так долго не приходили? Оказалось, что никто его не искал, никто не помнил, слишком многие потеряли друг друга, даже помня приметы, имена, адреса – и тоже не могут найти. А он ничего не помнил.
Деловито ездил по смотровому стеклу кабины «дворник», сметая снежок, падающий с деревьев. Белая укатанная дорога бежала под колеса машины, и стояли по сторонам дороги молчаливые сосны; храня многие тайны огневых партизанских лет. Стояли, как бессменные стражи, как почетный караул.
Виктор устроился носильщиком на Симферопольском вокзале. Он не смог полюбить беспокойную привокзальную площадь, автобусные и троллейбусные остановки, перрон, залы ожидания – всю эту временную, мелькающую жизнь. Но здесь все люди казались друг другу знакомыми. Не умирала надежда встретить в толпе тех, кто знал его прежним, довоенным, юношей, ребенком. Ради этого он мирился с работой, которая не приносила радости, с товарищами, многие из которых уже с утра ходили навеселе и клянчили у пассажиров лишний гривенник на похмелье.
А время шло, никто не узнавал в нем того парнишку, и Виктор уже подумывал о том, чтобы уходить отсюда. Давно его приглашал в рыбацкую артель под Балаклаву приятель.
Мысленно он перебирал в памяти тысячи вариантов встречи с людьми, которые его знали. Мужчины и женщины, молодые и старые, радостные или испуганные, – он придумывал их всякими, варьировал разговор с ними, угадывал, куда поедет, провожая их, а может, будучи приглашенным.
Встреча была не похожа ни на один из вариантов.
Когда подошла эта женщина, Виктор по привычке стал вспоминать, где он видел продолговатое ее лицо, тонкие упрямые губы, серьезные глаза. С годами у него развилась отличная зрительная память.
– Миша? – полувопросом обратилась к нему подошедшая.
– Слушаю вас, – он привык ко всяким обращениям. – А, понимаю. Вы потеряли сумочку с документами? – Вот откуда он помнит ее лицо. Там была фотография, он передал сумочку дежурному по вокзалу.
– Нет, я не теряла… – женщина замялась. – Я прошу, помогите, пожалуйста, донести вещи к вагону. Вон женщина с девушкой стоят.
– Я думал – сумочка, – растерянно повторил он, и взгляд его упал на тех двоих, женщину и девушку.
Он глянул на них и отвел глаза, ибо не было сил видеть лицо из той, прежней жизни, от которой почти ничего не осталось в памяти. Подойдя ближе, он снова посмотрел на «своих» пассажирок, потрясенный, видя, что это – мать и дочь, что, если у матери убрать из глаз печаль и смахнуть с лица морщины, а с поникших плеч – усталость, она станет двойником молодой своей дочери.
Никогда еще не было так трудно Виктору пройти эти несколько шагов, наклониться над вещами, спросить, который вагон? Вопрос прозвучал громким шепотом, а стук собственного сердца отдавался в висках.
«Нужно говорить, – твердил он себе, – нужно что-то говорить!» Минута, две – и все кончится, и останется все неразгаданным, возможно – навеки. Он шестнадцать лет шел к этой встрече. Отчего же такая тяжесть в сердце? Почему никто не узнает его? Неужели он ошибается и эти женщины его не знают? Тогда почему они такие притихшие и растерянные? Нужно говорить, спрашивать!
– Скажите, – тихо произнесла девушка, шагая рядом и заглядывая носильщику в глаза, – вы были на войне?
– Был, – с трудом разлепил он губы, радуясь и ужасаясь разговору.
– Вам не пришлось – я понимаю, что это почти немыслимо, – не пришлось встретить там, на войне, человека по фамилии Стебловский?
– Нет, не пришлось, – сказал Виктор.
Он ощутил, как где-то в глубинах мозга возникает тупая боль. Чемоданы еле держались в ватных пальцах, бесчувственных, безжизненных. В глазах странно потемнело, черные тени наплыли с висков, ограничивая поле зрения. Успеть бы донести чемоданы, вагон был рядом, а теперь где-то далеко.
Сзади, пропустив вперед носильщика и девушку, шли две женщины, и обрывки их взволнованного тихого разговора долетали до Виктора сквозь гам вокзала, сквозь вату в ушах, появившуюся вместе с головной болью.
– …ошибаемся, не первый раз…
– …Зина догадывается давно…
– …так и дальше. Ты молчи…
Пропустив вперед женщин и девушку, Виктор вошел в купе, поставил на дорожку чемоданы, не решаясь взглянуть в лица владелиц вещей. Почему женщины так растеряны? Что это за вопрос девушки о войне?
Он загадал: если ему не станут платить, хоть на секунду дадут понять, что он для них не просто носильщик, он останется в вагоне, расспросит и все объяснит.
Сумочку с деньгами раскрыла та, что позвала его к вещам. Девушка испуганно глядела, как он брал измятый рубль дрожащими пальцами, уронил и не стал поднимать.
Ошибся. Все. Цветные точки продолжали плавать перед глазами и мешали видеть, а острая головная боль затормозила движения и речь. Так раньше начинались приступы. Нужно уходить с вокзала. В то тихое рыбацкое село над морем, где не будет этих бессмысленных встреч. Виктор молча повернулся к выходу.
– До свиданья! – девушка протянула ему руку.
Он вздрогнул, пристально посмотрел ей в лицо, бережно принял маленькую прохладную ладонь в свои большие натруженные руки. Ему показалось, что это уже было – прикосновение ласковой руки.
– Провожающих прошу поторопиться, – по вагону прошла проводница. – Сейчас отправляемся.
Не выпуская из рук девичью ладонь, словно черпая в этом прикосновении силу, Виктор спросил, обращаясь к отвернувшимся женщинам:
– Извините, я вижу, вы не желаете говорить со мной. Но мне нужно, очень нужно… Вы что-нибудь знаете обо мне? Вы меня встречали когда-нибудь раньше?
Девушка выдернула ладонь, но придвинулась к носильщику и повернулась вполоборота к матери, словно тоже требуя ответа.
– Я был ранен на фронте, попал в плен и потерял память. Все забыл о себе. Сейчас мне кажется, что я вас знаю. Не сердитесь, поймите меня. Я ведь ничего от вас не требую. Скажите только, кто я, где родился, кем был.
Он уже понял, что не обознался. Это было ужасно. Он видел, что ему ничего не хотят сказать, и не мог понять, отчего.
Повернув к носильщику каменное лицо, мать девушки проговорила:
– Нет, нет! Не знаю я ничего, ничего! Уходите, ради бога! Уходите!
Она отвернулась к окну.
И тогда заговорила девушка. Ей было жалко мать, хотелось оградить ее от потрясений, но жажда узнать правду, которую от нее скрывали, пока она была маленькой, и потом, когда выросла, – желание это оказалось сильнее.
– Мама! И ты, тетя Наташа! Если вы сейчас не скажете все, что знаете, я останусь в Симферополе. Разве вы не видите, что он говорит правду?!
– Зина, – прошептала мать.
– Я тоже ничего не знаю. Догадываюсь, – губы у девушки задрожали, и она крепко ухватилась за большую мужскую ладонь с буграми мозолей. – Но ведь вы знаете, что мы здесь все не чужие. Почему вы молчите?
– Зина! – строго и осуждающе сказала вторая женщина. – Ты не имеешь права так, Зина!
– Ну что – Зина? Ты ведь наверное знаешь. Ну скажи, скажи!
Виктор молчал. Он чувствовал, что погружается в бред. Все замедлилось, все стали маленькими, отодвинулись, как в перевернутом бинокле. Он знал всех в этом куне, потому что он – не Забельский, а другой, тот, кто встречался с этими женщинами давно-давно. Ему показалось, что сейчас он потеряет сознание.
– Идемте! – Зина потянула его к выходу, словно почувствовав, как ему плохо.
– Зина, это несерьезно, – тетка смотрела на нее растерянно. – Ты не в детском саду. – И уже со злостью обратилась к носильщику: – Куда вы ее ведете? Двадцать лет она вам была не нужна, а теперь красивые сказки ей говорить…
– Замолчи! – слезы стояли в глазах у девушки. – Как ты смеешь! Что ты знаешь!
Виктор заставил себя разлепить губы:
– Довольно, не ссорьтесь. Я уйду сейчас. Нет, нет, девочка моя, не надо, я сам. Не огорчай мать, не надо. Если ты сможешь написать мне, если ты сможешь…
Зина, оторвав клочок газеты на столике, быстро написала несколько слов, протянула носильщику, снова ухватила его за руку:
– Я напишу. Симферополь, главпочтамт, до востребования. Кому?
– Забельскому Виктору Ивановичу. Так меня назвали.
– Зина! – в последний раз попыталась удержать ее тетка.
– Я напишу. Все-все. Наш адрес я дала. Наша фамилия Бобровы. Я напишу вам. Вы только верьте, хорошо?
Поезд «Симферополь – Киев» уходил на север. Человек смотрел на открытое окно вагона. Девушка подняла к плечу раскрытую ладонь, шевельнула пальцами, улыбнулась.
– Какую фамилию ты называла? С кем я мог встретиться на войне? – держась рукой за вагон, человек шел рядом, ожидая ответа, уже зная, что сейчас произнесет девушка.
– Стебловский, Стебловский, Стебловский, – повторяла Зина, не замечая, что плачет.
Поезд пошел быстрей. Виктор опустил руку и, чтобы не терять из виду лицо девушки, двинулся к середине перрона.
«Стебловский!» – стучало в висках. «Стебловский!» – сжимало горло.
Он не ошибся. Девушка и танки – они были из того прошлого, которое принадлежало и ему. Девушка не бежала навстречу, держа в руке цветы, нет. Она уезжала, а навстречу ему из лесочка выползали танки и торопились к деревянному мосту, нависали над головой сторожевые вышки и колючая проволока, бежали под ноги лесные тропы, а за спиной ревело: «Хальт!» И толстый палач замахивался пистолетом, и тележка с трупами была невероятно тяжелой, и тени расстрелянных ложились между Виктором Забельским и Михаилом Стебловским, который пропал без вести на войне.
Но главное – остановить танки. Он всегда помнил об этом. А сейчас ясно видел, что танки остановились. Сначала первый и последний, чтобы ни вперед, ни назад: по бокам было болото. Танки горели, чадя, крутились в клубах дыма и копоти, из них выскакивали черные фигурки танкистов и падали на землю. Он ясно видел это. Он слышал рев двигателей, взрывы. Окуляром панорамы при отдаче ему рассекло бровь, он торопливо вытирал кровь и снова стрелял, поджигая одну за другой беспомощные, застопоренные ревущие черепахи.
Когда медленные стрелки часов на обожженной порохом руке Стебловского дошли до контрольного времени, он зашвырнул затвор пушки в болото и стал уходить в глубь леса. Но на него уже охотились целым взводом. Они прижали его автоматными очередями к земле, как незадолго перед этим он сам прижимал их огнем своей сорокапятки, и он понял, что не сможет уйти. У него оставалась одна граната, и он ждал, когда подойдут поближе зеленые фигуры, чтобы взорвать их вместе с собой, побольше, побольше. Он так и не успел подорваться. Судя по ранам, его задела очередь из автомата.
Он медленно шел по перрону, и многие оглядывались на седого носильщика.
А он думал о главном.
Дочь… Ты не водил ее за ручку в детский сад, не помогал надевать туфли, решать задачки и учить стихи. Она выросла, наверное, с другим отцом, и, возможно, с неплохим человеком, – вряд ли у тебя теперь есть право называть ее дочерью. Вряд ли.
Жена… Бывшая жена. Новая семья, новая жизнь, в которой тебе нет места, живому. Сколько раз, наверное, хоронила она тебя, пропавшего без вести, сколько раз встречала, да так и не встретила.
Будем считать, что и сегодня не встретила. Ошиблась.
Лейтенант Стебловский. Пропавший без вести. В бараках концлагерей, на плацах для экзекуций, в неудачных побегах, в «экспериментальном медицинском блоке» – там исчез ты, чтобы сегодня сделать попытку возвратиться. А нужно ли?
Он уходил от вокзала усталой походкой старого, нездорового человека. Все новые и новые воспоминания прорывались сквозь заслон небытия, вставали перед его внутренним взором, и он пугался их множеству и беспорядочности. Предстояло объять все прошлое, привыкнуть к нему. Он давно готовил себя к этому, но, даже готовясь, не знал, что это так грандиозно и утомительно – вспоминать. Может, потому еще, что надо смириться с ушедшим. С тем, что жизнь-то прожита.
А потом он подумал, что все-таки главное от него не ушло. Ибо этим главным в его жизни было – остановить танки. Ради солнца и света, ради вон того малыша, который идет, косолапя, по аллее сквера.








