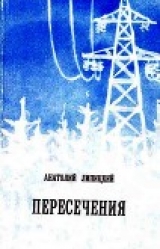
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Уезжая в отпуск на пять месяцев за три проработанных года, Рогачев получил в кассе бухгалтерии своей электростанции три с половиной тысячи рублей – отпускные и оплату проезда. Это были большие деньги. Заработанные нелегким трудом в условиях почти предельных.
В бумажнике молодого южного красавца, только что расплатившегося за что-то с администратором, туго упакованные зеленые полусотенные и коричневые сотни презрительно брызнули в глаза северянину. Насмешливые глаза парня скользнули по мешковатой фигуре завоевателя Арктики, и бумажник захлопнулся и скрылся в кармане куртки. Обняв свою подругу, южанин повел ее к выходу.
– Я с ребенком, мне на одну только ночь, – сказал администраторше Рогачев, снова запуская руку в карман пиджака и вынимая свой паспорт с чукотской пропиской и отпускным удостоверением, со скромными деньгами, которые не имело смысла здесь показывать.
Юная распорядительница оторвала от закрывшейся за джигитами двери мечтательный взгляд, в котором были пальмы, пляжи, мандарины и деньги, сказала сухо:
– Мы работаем с интуристами.
Рогачев почувствовал, как негодование и горечь поднимаются к горлу;
– Кавказ – это разве заграница?
– Не хулиганьте, гражданин! – голос у администраторши стал властным и не терпящим возражений. – Не мешайте работать…
Рогачев вышел из гостиницы под вечернее московское небо, и ощущение щемящей досады и обиды не покинуло его. Что же делается, спрашивал он себя. Что же это делается? Неужели так сложно, неужели так трудно навести порядок в этом? Что же это делается по всей стране с гостиницами? Два с половиной рубля за койку берут с отдыхающего частники в Крыму и на Кавказе. Худо-бедно – месячный доход семьи, сдающей койки десятку дикарей, поселившихся в комнатах двухэтажного замка, достигает семьсот пятьдесят рублей. Сезон на юге – полгода, следовательно, ясак от орды, желающей дышать воздухом Черноморья и обгорать под живительным солнцем, жевать зелень и пить бодрящую влагу с виноградных плантаций, равен всей сумме отпускных, заработанных за три года вкалывания на Севере. Арифметика простая: доход некого южанина в «надцать» раз выше дохода северянина. Причем цена этому доходу на юге ничтожная, а на севере за него нужно отдавать нервы, здоровье, молодость, жизнь.
Что же делается с гостиницами, говорил сам себе Рогачев, если ни в одном городе нельзя быть уверенным в том, что ты, заплатив свои трудовые, горбом твоим заработанные рубли, получишь кровать и тумбочку хотя бы в многоместном номере, прокуренном и пропитанном ароматом немытых тел, недопитых бутылок и невыстиранных носков? Что же это делается в нашей хваленой сфере обслуживания? Кого она обслуживает, эта сфера? Интуриста?
Пятиэтажный блочный дом при современной строительной технике, от нуля и до сдачи, можно отгрохать за два месяца. И поселить в нем полтыщи народу. И брать с них по два с половиной целковых ежедневно. Значит, через полгода дом начнет давать прибыль. И будет давать ее ежегодно пятьдесят лет.
Что в этой арифметике не так? Что в ней не подходит для сферы обслуживания, для работников Госплана? Почему болгары и румыны сумели сложить два плюс два и настроить на черноморских пустырях сотни домов-гостиниц, получив новую статью дохода в государственном бюджете, а мы отдаем частнику, грабителю, бездельнику миллионы рублей?
На два месяца притормозить финансирование убыточных строек, не осваивающих средства, отдать эти деньги на сооружение гостиниц по всем городам Союза – конечно, в первую очередь там, где они дадут хорошую прибыль. Повысить плату за гостиничный номер, чтобы меньше шатались бездельники. И решить проблему. Это же у нас, в плановом хозяйстве. Почему же мы этого не делаем?
– Ну что? – Светлана спрашивала просто так, ибо ответ был ясен.
Рогачев проводил взглядом рванувшуюся с места «Волгу», битком набитую усатыми и загорелыми молодыми людьми, и сказал:
– Поехали в «Южную».
Четкое тиканье счетчика утонуло в урчании двигателя. Машина выкатилась на проезжую часть Ленинского проспекта, пристроилась в среднем ряду и легко пошла в гору, преодолевая затяжной подъем к пересечению с Университетским проспектом.
Ночь наступила быстро, еще по-летнему. Горели оконные квадраты в домах, ветки деревьев мелькали черными переплетениями на фоне квадратных глазниц. Фонари уличного освещения струили на асфальт проезжей части неживой, нереальный свет. Потоки машин шли с зажженными подфарниками, краснели круглыми, квадратными и овальными габаритными огнями, а перед пешеходными переходами и перекрестками ярко вспыхивали сигналами торможения.
Качаясь, проплыл справа атом мира на крыше магазина «Изотопы», трамваи и машины стояли на широкой полосе проспекта, дожидаясь разрешающего сигнала.
Такси подъехало к развороту, вышло в первый ряд обратного потока и подкатило к флагштокам перед гостиницей «Южная».
– Папа, я с тобой, – жалобно попросил Димка.
– Я быстро, сынок.
– Возьми меня, ну, пожалуйста, на!
– Возьми ребенка! – выстрелила Светлана.
Владимир Борисович помог сыну выбраться из машины, поправил воротник демисезонного пальто на нем, взял за руку и повел к подъезду. Димка споткнулся о что-то в темноте и свалился на асфальт. Кряхтя, поднялся, не хныча.
Рогачев взял мальчика на руки и вошел, толкая плечом одну за другой стеклянные двери, в тесный, душный вестибюль.
Два круглых журнальных столика в вестибюле были окружены стульчиками, на которых сидели в неудобных позах, с высоко торчащими коленями, обреченные на ожидание приезжие, а рядом, на бордовом паласе, стояли их чемоданы и портфели, сумки и авоськи. Барьер без стекла и перегородок отделял администратора от вестибюля.
Рогачев подошел к барьеру и произнес словно заклинание:
– Нам переночевать, с ребенком. Завтра самолет улетает…
Он полез рукой во внутренний карман пиджака, и Димка, почувствовав, что держат его неуверенно, одной рукой, уцепился за шею отца, мешая ему достать паспорт.
Настороженные взгляды ожидающих мужнин мешали, но еще больше мешал сын. Не своим крепким объятием, а своим присутствием, ибо при нем дать деньги, быть разоблаченным, опозоренным, представлялось катастрофой.
Рогачев не стал подавать паспорт администратору, пожилому интеллигентному мужчине с бобриком седых волос на крупной голове. Он лишь повторил свою просьбу:
– На одну ночь, с ребенком…
Администратор повернул к барьеру лицо, худощавое, с резкими складками у рта, с усталыми глазами, под которыми висели темные мешки, и сказал негромко:
– Нет у нас мест. Мы принимаем в основном интуристов. И по направлениям. Ничем не могу вам помочь.
Владимир Борисович, не спуская сына с рук, медленно пошел к выходу.
– Мы здесь не остановимся, на? – Димка прилег на плечо отцу, устало вздыхая.
– Нет, сынок. Здесь нет для нас места.
– Нет места, – согласился Димка послушно.
А где для нас есть место? – спросил Рогачев сам себя. Наши корни оторвались от родной почвы, а на Севере нам не прижиться. Все мы там временные, кто на три-пять, кто на пятнадцать-двадцать лет. Мы в конце концов все равно уезжаем оттуда, потому что пенсионерам там делать нечего. А здесь нам тоже не прижиться. Где же для нас место? В тесных ревущих лайнерах мы переносимся за полсуток на другую сторону земли, и для нас это – будни. Мы работаем там, где каждый прожитый день оказывается отвоеванным у судьбы. Мы ждем отпуска два с половиной года, отказывая себе и своим детям в солнце и овощах, фруктах и доброкачественной пище. В общении с дорогими и близкими людьми, которые там, на далекой родине нашей, старятся и без нас уходят навсегда. Что же мы получаем один раз в три года, кроме отпускных денег? Нервотрепку очередей, бесчисленных очередей – за билетами на самолет, за бутылкой кефира или пива в аэродромных буфетах, за право на посадку, за возможность выйти из самолета. За всякой мелочью и за всем крупным и необходимым во время отпуска. За билетами на обратную дорогу. За место в такси. За право поселиться в гостинице. Очередь и надежду.
И все-таки иногда ты испытываешь высшее наслаждение от встречи с настоящим добром, настоящими людьми, сказал себе Рогачев. Что же ты хнычешь! Все-таки ведь бывает такое. И ты помнишь, хорошо и долго, как это происходило…
Они должны были улетать из Залива Креста через Анадырь на Москву. Непривычно беспомощная и бестолковая Светлана, потерявшая самообладание, реальное представление о происходящем и веру; он сам, молодой папаша, пытающийся быть главным, ведущим в этой трагикомической ситуации; и настоящий, главный, истинный лидер – основная сила, вектор, за которым послушно двигались по жизни они сами, – их СЫН, который появился на свет в родильном отделении районной больницы месяц назад.
Самолет прилетел с Мыса Шмидта, зашел на посадку со стороны Озерного, не делая никаких кругов, и поэтому, несмотря на долгое ожидание, оказался неожиданным, внезапным. Они прошли ритуал регистрации, взвешивания великого множества чемоданов и сумок, с которыми улетали, не зная, вернутся ли еще на Чукотку, и двинулись к самолету. Светлана несла на руках сверток с Димкой, поминутно заглядывая внутрь, проверяя, не украли, не подменили ли ей сына. Рогачев тащил кучу вещей – в руках, под мышками, через плечи и на спине, и еще сердобольные шмидтовцы из прилетевшего самолета тащили несколько чемоданов.
Они расселись наконец в потертых креслах, оставив чемодан в хвосте самолета, и оказались в разных концах салона: рейс шел со Шмидта почти полный, свободными оказались только места для них с ребенком.
Ил-14 выкатился в начало взлетной полосы, развернулся и остановился, пробуя поочередно свои моторы на разных оборотах. Летчики договаривались с диспетчером о взлете, слышны были сквозь приоткрытую дверь пилотской кабины какие-то вопросы, неразличимые ответы по радио. Машина задрожала раз, другой, отзываясь на утробный рев мощных двигателей каждым миллиметром своих креплений. И тут взгляд Рогачева не обнаружил одной из дорожных сумок, главной из всего, что везли они, после Димки конечно. В эту сумку Светлана собрала все, что нужно было младенцу в дорогу: соски, бутылочки с водой и соком, салфетки, присыпки, пережженное растительное масло, а главное – два пузырька с молоком, выпрошенным у второй на весь поселок кормящей мамы. Димка материнскую грудь брать не пожелал, а путь предстоял ему неизвестный.
Нынче младенцу в роддоме в первые дни жизни не позволяют принимать материнское молоко. Тысячелетиями материнская грудь была живительным родником, источником силы, здоровья, жизни, и вот сейчас оказалась нежелательной. Может, действительно новорожденному не следует почему-то есть, но у Димки это закончилось драмой. Он так орал в первые сутки, что Светлана стала тоже рыдать, умоляя медсестру накормить сына. В родильном отделении было всего лишь трое новорожденных, и голос своего Светлана безошибочно опознала в первом же его концерте.
Медсестра потерпела немного, а затем сунула орущему Димке бутылочку с соской, в которой отверстие было проделано в расчете на свободное поступление молока в желудок. Димка, захлебываясь, задыхаясь, кашляя и покрикивая, проглотил часть содержимого первой бутылочки и стал орать еще громче. От того, что половина молока вылилась ему в нос, уши и на шею. От того, что еда оказалась невкусной, холодной и не очень свежей. И еще от чего-то, не известного никому. Здорово орал Димка, бунтовала Светлана, и раздосадованные сестры ткнули Димке еще бутылочку с чьим-то молоком. А через три дня, когда Светлане разрешили по-научному кормить своего басовитого изголодавшегося сына, он ухватил грудь, потянул из нее пару раз, выплюнул и поднял скандал. Оказывается, чтобы молоко попадало в рот, нужно было работать, стараться, а до этого, всю предыдущую жизнь, целых три дня, еда лилась рекой без всяких усилий с его стороны, стоило лишь крепко пошуметь. И для обоих – для младенца и для его неопытной матери – наступили мучительные дни и ночи. Димка наверняка считал, что его бессовестно предали, вынуждая трудиться, к тому же во рту появились пузырьки молочной болезни. А Светлана считала, что ей просто не жить на белом свете от всего этого. Молоко у Светланы прибывало слабо, она замучила свои груди, выдавливая из них руками капли пищи для сына, а ему было мало того, что могла сцедить несчастная мать, он плакал и негодовал, у него было плохо с желудком, он стал сразу же болеть. Наверное, надо было подкармливать его парным молоком, благо на электростанции была такая возможность: два десятка коров подсобного хозяйства уж как-нибудь снабдили бы одного человеческого детеныша. Светлана испугалась диатеза, а Димка все равно заполучил его на всю жизнь.
И Светлана, растерянная, замученная недосыпаниями и все растущими опасениями, вымолила право на ежедневный стакан молока у второй в поселке кормящей матери, у которой дочери было уже три месяца.
Димка стал наедаться, но болел, что, впрочем, было естественным: молоко чужой женщины ему не подходило по возрасту. Он не поправлялся, плохо спал. В квартире у Рогачевых установился круглосуточный бедлам, слезы, страхи, уныние.
И они решили срочно улететь на материк, к молочным кухням, к детским консультациям, к родителям. На Запад, на родную Украину.
В дорожную сумку было спрятано все необходимое в дороге и еще пузырьки со спасительным молоком, чтобы Димка не зачах в пути.
И вот на взлетной полосе аэропорта Залив Креста, ощущая предполетное волнение и щемящую тоску перед огромным воздушным броском на другую сторону планеты, Рогачевы обнаружили пропажу главного своего багажа.
Не задумываясь, Владимир Борисович бросился по проходу между рядами кресел, цепляясь за локти и плечи пассажиров, стремясь добраться к пилотской кабине, открыл ее и стал кричать сквозь рев двигателей:
– Сумка осталась… Младенец у нас… Не долетим без молока… Искусственник…
Наверное, только на Севере возможно такое. Только там оказалось выполнимым то, что сделал командир рейсового самолета, получившего право на взлет. Как он все понял и оценил из сбивчивых фраз Рогачева – неизвестно. Он сказал что-то в ларингофон, протянул руку к панели с приборами, рукоятками, кнопками, лампочками и что-то там сделал. Двигатели стали затихать, самолет успокоился и присмирел.
– Идите, – сказал командир, поворачивая молодое полное лицо к ворвавшемуся в кабину пассажиру.
Остальные члены экипажа смотрели на происходящее тоже совершенно спокойно, понимая и подчиняясь.
Рогачев рванулся в хвост самолета, спустился на присыпанную снегом землю по металлическому трапу, уже выброшенному бортмехаником, и помчался по снежному аэродрому к далеким домикам аэропорта, прыгая и скользя, как заяц. Выехавший навстречу бензовоз подхватил незадачливого папашу, повез к зданию нового аэровокзала. «А если сумки нет? А если мы оставили ее дома? А если она где-то под креслом в самолете?» Рогачев терзал себя мыслями все долгие секунды езды. Выскочив из кабины автомобиля, он побежал в входу в вокзал, распахнул дверь, окинул взглядом почти пустое помещение. Посередине зала сиротливо и одиноко стояла их сумка, не заметить которую, забыть, не взять было просто невозможно…
Через пять минут Ил-14 взлетел над скованным льдами заливом Креста, набирая высоту, чтобы пересечь обветренную горную гряду с остроконечными вершинами, и морской залив, несмотря на апрель, все еще замороженный, и еще горы и ущелья по пути в Анадырь. А там Рогачевым предстояло отчаянно воевать за место в московском Ил-18, наверняка уже укомплектованном, улетающем только два раза в неделю, воевать, потому что до следующего рейса держать Димку в холодном и голодном для младенца аэропорту было немыслимо.
Они попали-таки в Ил-18, пройдя истерическую процедуру объяснений с начальником отдела перевозок аэропорта, и через пятнадцать часов полета над снежным и морозным арктическим побережьем страны, после нескольких посадок, после смены десяти часовых поясов оказались на весенней московской земле, пахнущей молодыми травами и надеждами.
Они подъехали на такси к роскошной гостинице в центре столицы, и Рогачев, не обращая внимания на реплики таксиста, пошел через весь вестибюль к администраторам и произнес как молитву:
– Можно на одну ночь, с младенцем, мы с Чукотки, в отпуск, завтра уезжаем…
На него оглянулись солидные мужчины, ожидавшие у стойки, улыбаясь на слово «Чукотка» и на одежды экзотического посетителя: он был в шапке, в торбасах, в шубе. А молодая женщина за барьером тоже приветливо улыбнулась и спросила:
– Отпускное удостоверение у вас есть?
– Конечно, – Рогачев и верил и не верил в удачу.
– Оформляйте бланки. На одну ночь, – женщина пододвинула по барьеру бумаги…
Годы прошли с того дня. Вырос Димка, появился опыт многочисленных перелетов, особенно у Владимира Борисовича, вынужденного по долгу службы бороздить небесные трассы Севера, но тот путь на Запад с месячным голодающим младенцем на руках, с отключившейся от всего мира во имя новорожденного Светланой, с нереальными посадками-пересадками, с туманом в голове от недосыпания и переживаний – путь тот с годами казался Владимиру Борисовичу все фантастичней и невероятней. Немыслимым везением, стечением благоприятных обстоятельств, серий чудесных встреч с хорошими людьми, имена которых в большинстве своем остались неизвестными Рогачевым.
Только память, благодарная память хранит те весенние апрельские дни, с крепким еще морозцем на Чукотке и на побережье Ледовитого океана, с невероятной теплынью и яркой зеленью распускающихся деревьев в Москве, тот самолет, красногрудый, краснокрылый трудяга Ил-14 в конце взлетной полосы аэропорта Залив Креста на фоне снежных сопок за Озерным, того командира корабля, внимательные его глаза, понимающие и сочувствующие, того начальника отдела перевозок в переполненном Анадыре, оглушенного навалившейся на него задачей отправки первоочередных пассажиров в единственном на ближайшие три дня самолете, ту симпатичную молодую женщину-администратора гостиницы «Москва», что увидела в глазах отчаявшегося северянина сумасшедшую искорку надежды на удачу и не дала ей погаснуть…
Остались память и сам Димка, четырехлетний бутуз, усталый, но крепкий, основательный, упрямый, как его отец, и любопытный, как мать, – порука тому, что все было не напрасно.
– Выгнали? – спросила Светлана, когда муж и сын от подъезда гостиницы «Южная» дошагали к такси. Рогачев подал Димку на заднее сиденье и проворчал, усаживая его возле матери:
– Не выгнали, а извинились.
– Ты еще поноси ребенка по номерам и по этажам – может, кто смилостивится.
Светлана была взвинчена до предела, это было ясно. И все же Владимир Борисович назвал адрес очередной гостиницы, не сдаваясь и не признавая себя побежденным.
Все повторилось. Равнодушное: «Мест нет». Безразличное: «А мое какое дело?» Нелепое подсовывание паспорта с отпускным удостоверением и двадцатью пятью рублями, и снова мелькание за стеклами такси вечерней столицы, встречных и попутных потоков машин, светофоров, указателей.
Водитель молча везла своих пассажиров по улицам огромного города, в котором не было возможности устроить на одну ночь супружескую чету с ребенком, и уже ничего не пыталась советовать, объяснять.
И когда Рогачев все с тем же успехом нанес визит в «Ленинградскую», вознесшую свой шпиль над тремя вокзалами, и после садился в машину, чтобы ехать еще куда-то, Светлана тоном, не позволяющим возразить, скомандовала:
– Ленинградский проспект, двадцать один.
Рогачев ничего не сказал. Он капитулировал.
…Они выбрались из машины и первым долгом отыскали взглядами светящиеся окна, убеждаясь, что хозяева дома. Димка совсем уже засыпал, клевал носом и цеплялся носками ботинок за ровный асфальт. Светлана, поеживаясь от вечерней прохлады, взяла сына за руку.
Рогачев глянул на счетчик, механически вытащил три трояка и протянул водителю:
– Спасибо, Людмила Федоровна.
Он ничего не выгадывал, он не жадничал и не крохоборничал, он не посчитал нужным подумать о водителе, как о человеке, который не просто исполнял свои обязанности, а, как многие на жизненном пути его и сына люди, принял участие в их судьбе, отдал им часть своей души, своего тепла, своей доброты. Единственное, чем можно было отблагодарить эту женщину, потерявшую с невыгодными клиентами полвечера, это переплатить ей, дать возможность заработать.
Но Рогачев просто не подумал об этом. Если бы водитель как-то намекнула ему, он бы, конечно, заплатил, но она не сказала ничего. А он думал только о той ситуации, в которую попал.
Он потерпел поражение в поисках законного ночлега и вынужден был пользоваться теперь привилегией родственника. Он знал, что им не откажут здесь, что Светлану будут рады видеть. Что ради Светланы примут, конечно, и его, ее мужа, хотя еще с первой встречи дали понять, что не такого мужа достойна их племянница. Ладно. Придется потерпеть один вечер. И наглотаться водки в угоду хозяину. И в итоге задушевная просьба втихую, на кухне: «Вова, одолжи мне сотню, я тут подыскал…» В прошлый раз он дал пятьдесят рублей, возвращать которые, конечно же, никто не собирался. Плата за ночлег… Лучше бы уж администратору гостиницы.
Такси, взревев особенно сильно, рвануло с места и умчалось в даль Ленинградского проспекта, растворяясь в потоке машин.
– Сколько ты ей заплатил? – спросила у мужа Светлана.
– Девять рублей, – ответил он спокойно.
– Что? – Светлана была вне себя. – Ты не заплатил ей ни рубля больно, чем насчитал счетчик? Она возила тебя по всему городу, терпела присутствие, слушала твои речи… Как ты мог?!
– Ну что ты делаешь из этого событие? Нужно было сказать. Что мне, жалко?
Светлана даже закашлялась от негодования.
– Если не жалко, что же ты не дал больше? У тебя что, последние деньги были?
– Нет, конечно.
– Ох, Вовка, ну как ты мог!
– Ну-ну. Хорошо, что я не растратил эти двадцать пять рублей…
Он вытащил паспорт, развернул его, и в свете неоновых фонарей увидел только отпускное удостоверение. Денег не было. Он сунул руку в карман, в другой. Двадцать пять рублей исчезли. Скорее всего они остались у одного из администраторов гостиниц, где побывали они сегодня.
Так тебе и надо, сказал себе Рогачев. Чтобы не был дураком. Лучше бы отдал этот четвертак таксистке. Лучше бы просто потерял их на улице.
– Папа, возьми меня на ручки, – попросил Димка.
Они поднялись по лестнице на четвертый этаж, подошли к двери, и Светлана коротко позвонила. За дверью послышались шаги.
Все было, как и предполагалось. Зато ночлег им организован. Рогачев терпел все мужественно, и Светлана, засыпая, промурлыкала: «Ты хорошо себя вел».
На следующий день, оказавшийся мизерно коротким, не способным вместить ничего из задуманного, кроме самого неотложного, Рогачевы через «Скорую помощь» разыскали Степана Ивановича и пробились к нему сквозь могучие заслоны и кордоны.
И когда красавец Ил-18 рейса «Москва – Магадан» поднялся вечером над взлетной полосой Домодедова и на вираже пассажирам стала видна земля внизу и еще чуть светлая полоска неба на западе, Рогачевы, наклоняясь в сторону черных иллюминаторов, старательно вглядывались в уходящие огоньки московских проспектов, словно можно было увидеть окно, у которого лежит Степан Иванович и виновато шепчет: «Видите, ребята, прихватило немножко. Я бы и дома полежал, если бы знал, что вы зайдете». Они вглядывались в панораму уходящего от них на очередные три года материка, доступного теперь только в письмах да телефонных переговорах, глядели в плывущие огоньки, будто можно было в этой гигантской мозаике что-то различить: у каждого огонька было свое, за каждым из них скрывалась чья-то жизнь, чья-то судьба.
А огни все мерцали, уменьшаясь и сливаясь в единую светлую туманность, в тающую галактику, близкую и уже далекую, далекую…








