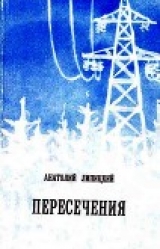
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
– Все правильно, нельзя никому уходить отсюда, – Орехов даже мохнатой своей бровью не повел в сторону Жоры, крупный, рукастый, уверенный в себе. Распухшие губы его трескались при разговоре, и в трещинках выступала алыми точками кровь. – Если уйдем, нас только весной аборигены найдут, когда оленей станут перегонять.
– А если не уйдем, нас найдут завтра, замороженных в этом гробу! – крикнул Жора.
Болдов встрепенулся, повел носом вокруг, улыбнулся хитро – не поймешь, то ли весело ему, то ли горько.
– Всем понятна тревога нашего просвещенного коллеги, – сказал Болдов, продолжая ухмыляться, – но я думаю, что Олег сказал главное: уйти отсюда и остаться в живых невозможно. Вопрос второй – как остаться живыми, не покидая вездеход. Федя, паяльная лампа у тебя заправлена?
– Как всегда, – ответил Лобачев хмуро.
– Хорошо. Паяльная лампа без подшипников, будет гореть, пока есть бензин. Сколько у нас спирта?
– Почти нетронутая бутылка.
– Тоже хорошо. Кто станет замерзать, подогреем. Солярки ведро мы сможем из бака слить?
– Ну, – утвердительно протянул Лобачев.
– Матрацев у нас сколько, шесть? Часа два погорят. Бревно ты, Федор Иванович, напрасно оставил дома. Пригодилось бы.
В распутицу Лобачев закреплял на вездеходе бревно, чтобы подкладывать под гусеницу, если забуксуешь.
– Что же вы не предупредили, Виктор Яковлевич, что понадобится? – проворчал Лобачев.
– В следующий раз, Феденька, в следующий раз, – пообещал Максим.
Болдов шевельнул губами, но слова не слетели с них, лишь слабый стон, заглушенный репликой Орлова, сорвался незамеченным. Болдов украдкой потянулся рукой под полушубок, приложил ладонь к солнечному сплетению, слабо нажал. Боль огнем взметнулась из желудка.
Ах ты, собака, сказал этой боли Болдов. Не могла подождать, пока доберемся домой? Гадюка ты подколодная, вечно вылазишь в самый неподходящий момент.
– Леша, Леша, ты слышишь меня?
– Слышу, – раскрыл глаза Шабалин.
– Где ближайший пост связи? – Болдов говорил обычным, чуть насмешливым, чуть ехидным голосом.
– До Шестнадцатого нет ничего, Виктор Яковлевич, – ответил за связиста Пшеничный, а до Дедювеема два поста, на шестисотой и восьмисотой опорах.
Шабалин кивнул.
– Что тебе нужно, чтобы вызвать диспетчера, Леха? – спросил снова Болдов.
– Отключить линию и подключиться «Рубином» к фазе. Связь гарантирую.
– Без заземления?
– Ну.
Это было невозможно. Невозможно потому, что диспетчер без предупреждения, без всяких там раздумий будет пытаться подавать напряжение на отключенную линию, считая ее свободной. Таков закон у энергетиков: ЛЭП для того, чтобы передавать по ней электроэнергию, и лишь попутно, между прочим – для диспетчерской связи. Значит, подключиться «Рубином» исключено. Вот работаем! Для связи с бригадой, ушедшей в тундру, не имеем надежной аппаратуры. Крайний Север, Арктика, труднее места нет, а все у нас самое старое, изношенное. Чья это вина? Не умеем доказать, что Север – область особая, или те, кому доказываем, все равно никогда на себе не ощутят эффекта своей халатности. Линии электропередачи стоят еще с довоенных лет, электростанции с дряхлым оборудованием. Голыми руками осваиваем Север, как двадцать и сорок лет назад. Ну не совсем голыми, в рукавицах, но в драных. Смешно сказать – меховую одежду на Севере купить невозможно. В Сочи ее, что ли, увозят?
Что же делать, думал Болдов. Как дать знать о случившемся, как известить диспетчера?
Болдов посмотрел на штанги с медными жгутами проводов и белыми оцинкованными струбцинами для присоединения к проводам ЛЭП, посмотрел и с сожалением вздохнул.
– Пока тут еще не колотун, сними, Толик, закоротку. Любую. Да, да. Нужно сделать один длинный жгут для набросов. Понятно? Давайте, помогайте все.
Лобачев остался сидеть, безучастно глядя, как темнеет тундра, как резкими тенями покрывается заснеженное пространство между двумя горными грядами, уходящее узкой долиной в сторону Шестнадцатого угла.
В салоне вездехода становилось холодно, пар струился от дыхания, мороз пощипывал, жег обмороженные лица.
Отсоединив от штанги, поснимав струбцины, неловко орудуя пассатижами и ключами, холодными, прилипающими к рукам, электромонтеры и Сукманюк готовили длинную многожильную нить. Работали молча, только Орлов что-то сказал о болдовском носе, и все рассмеялись негромко, даже Жора, насупленный, недовольный, и то улыбнулся.
Болдов что-то тихо говорил Лобачеву, и тот согласно кивал головой.
– Что привязывать на конец? – спросил Орлов.
Пшеничный ответил, и хохот грохнул такой, что посыпался иней с потолка салона.
Болдов сказал Орехову:
– Вяжи струбцину, я пошли, Олег. У тебя лучше моего получится.
– А можно, я брошу? – Толик Пшеничный поднялся с матраца на четвереньки.
– Всем остальным из вездехода не выходить, – сказал Болдов, вылез наружу и бросил в снег гибкий провод.
Орехов подал начальнику участка кувалдочку и металлический штырь, стал вылезать из вездехода. Дверь глухо бабахнула, отсекая сидящих в вездеходе от тех двоих, что оказались снаружи, под линией электропередачи.
Болдов поднял голову, и ему показалось, что провода почти рядом, тяжелые от изморози. Три параллельные прямые шли на фоне синеющего неба. По этим прямым, по нитям этим могучая энергия от атомных реакторов, от ветренских котлоагрегатов, от газогенераторов плавстанции мгновенно передавалась в любую точку системы, туда, где появлялся спрос. Провода жили, дышали, оттого, наверное, и изморозью покрывались.
– Где бить штырь, Виктор Яковлевич? – у Орехова брови белые, как у деда-мороза.
Болдов отошел от крайнего провода метров на пять, шваркнул ногой по снегу: «Здесь». Пошел к вездеходу и приволок заготовленный провод. Когда Орехов вбил сантиметров на пять в мерзлую, неподатливую землю заточенный штырь, Болдов привязал провод закоротки свободным концом к верхушке штыря, разбитой, расклепанной ударами кувалды, и стал аккуратно складывать на снег широкими кольцами провод под ближней фазой ЛЭП.
В руках у Болдова остался конец с закрепленной струбциной. Орехов поставил кувалдочку рядом со штырем и шагнул к начальнику участка:
– Давайте, Виктор Яковлевич.
Болдов еще раз поглядел на столь близкий провод, на заиндевевшее лицо Орехова и сказал:
– Я сам попробую, Олег. Отходи и страхуй.
Убедившись, что Орехов отошел шагов на десять, остановился и выжидает, Болдов еще раз смерил взглядом расстояние до фазы ЛЭП. Он десятки раз делал наброс раньше, на тренировках и соревнованиях, он учил этому своих монтеров – это было всегда просто. Но впервые за все долгие годы он делает наброс, заведомо зная, что линия включена. Обычно эта операция выполняется на всякий случай, для перестраховки, для верности, чтобы убедиться в том, что диспетчер сказал правду и линия действительно обесточена.
Сейчас линия была в работе. Семьдесят тысяч вольт и мощность трех ядерных реакторов нужно было замкнуть этим проводом накоротко.
Болдов снял, рукавицу с правой руки, взял провод голой ладонью, и боль пронзила ее. Став боком к ЛЭП, Болдов начал раскручивать струбцину, привязанную на конце провода. Гул, какой-то непривычный, неестественный, отвлек его, но он все же бросил струбцину, она взлетела и потянула за собой сложенный в кольца медный тонкий жгут.
Болдов понял, что бросил неудачно. Что помешало ему, почему бросок не получился? Что за гул, что за странный звук сбил его с толку?
Болдов с трудом подавил желание бежать. Надо стоять неподвижно, иначе смерть. Орехов тоже замер. Не создавай разрыва между ступнями, иначе шаговое электричество испепелит тебя. Бледная молния выпрыгнула из такого мирного мохнатого провода ЛЭП, рассекая тишину тундры резким звуком рвущейся клеенки, звуком, усиленным тысячекратно. Провод изогнулся, как кошачья спина, молния ударила в струбцину, отшвырнула ее на Болдова и Орехова, удлиняясь вслед за падающим проводом, растягиваясь, становясь все тоньше, визжа и скрежеща, словно гневаясь и возмущаясь. И все стихло.
Провод бессильно упал, струбцина оказалась в нескольких шагах от Болдова, она покрылась копотью, обожженная мощнейшим электрическим ударом, а провод у струбцины почернел, обуглился.
– Давайте я, Виктор Яковлевич, – Орехов шагнул к начальнику участка.
– Погоди, Олег, погоди.
Болдов стал надевать рукавицу на онемевшую правую руку, выискивая глазами источник зудящего звука. За проводами, в прозрачной синеве, пересекал небосвод розовый от солнечных лучей самолет.
– Пошли в вездеход, – сказал Болдов, – отогреем руки и перекурим это дело.
Ил-14 возвращался на Ветреный. Еще в Репеквааме диспетчер предупредил, что Маралиха закрылась: туман. Загружались только до Ветреного и пошли напроход, набрав высоту.
Над Шестнадцатым углом штурман вспомнил о вездеходе, который прятался в морозном тумане, и стал глядеть вниз, на коробочку подстанции, на игрушечные, спичечные конструкции ЛЭП, выискивая глазами черный прямоугольник вездехода.
Штурман увидел вездеход на трассе ЛЭП, недалеко от того места, где, заходя на Маралиху, самолет обогнал стальную черепаху два с лишним часа назад. Вездеход стоял неподвижно, хотя солнце уже ушло за сопку и тундра, готовясь к ночному сну, стала сиреневой.
Работают, подумал штурман. Иначе чего бы они остановились, на ночь глядя. Работают, соколики, вкалывают на морозяке.
Он еще раз посмотрел на вездеход, и тут яркая вспышка разрезала сиреневый сумрак тундры, ослепительным языком лизнула вездеход и погасла.
Что это было? Испытания какие-то, выстрел, взрыв? Что там они вытворяют, эти электрики? Храбрые люди. Сумасшедшее напряжение, малейшая ошибка – и крышка.
А может, это никакие не испытания? Может, неполадки?
– Миша, – сказал штурман командиру по внутренней связи, – ты лучше меня разбираешься в электричестве? На ЛЭП какая-то вспышка, как молния, шваркнула и погасла. Что это могло быть?
– Да ну их, Максимыч, они там испытания начинают какие-нибудь. Там народ башковитый.
– А может, это сигнал какой-то?
– Нет, Максимыч, нет у нас никаких с ними договоренностей на зиму. Летом за дымом глядим, пожары замечаем. А зимой у них все на мази.
Диспетчер Строганов послал машину ОВБ к кинотеатру «Искра», и через пять минут главный инженер Полярнинских электросетей уже входил в диспетчерский зал. Худощавый, подтянутый, шеголеватый, Забаров глядел недовольно и настороженно.
– Извините, Гарий Степанович, – встал со своего кресла диспетчер, – нужно ваше решение по этой радиограмме.
Забаров взял журнал телефонограмм и стал читать вслух: «Для диспетчера электрических сетей Знаменитова. Командир рейса… бортовой номер… сообщил, что в сорока километрах… Шестнадцатый угол в 16–40 замечена вспышка на ЛЭП… вездеход ГТТ…»
Забаров часть слов не произносил, часть выговаривал отчетливо, и если бы диспетчер не записал радиограмму в журнал, вряд ли бы что-то понял.
– Ну и что? – спросил Забаров, возвращая журнал. – Расписаться? Для этого ты меня вытащил из кино?
Диспетчер молча протянул главному инженеру оперативный журнал, где красным карандашом была отчеркнута запись: «16–40. Глубокая посадка напряжения, сброс нагрузки 18 мВт. Действием МТЗ нуля на ЗНАЭС и подстанции Пионерской отключилась ЛЭП «Знаменитово – Пионерская». АПВ на ЗНАЭС и Пионерской успешное. Действием АЧР отключались потребители. Причина выясняется».
Главный инженер медленно положил оперативный журнал на пульт, стал расстегивать дубленку, снял шапку. В глазах у Забарова стояли цифры «16–40». Совпадают. Случайность? Вряд ли.
– Ты думаешь – они?
– Да, – сказал Строганов.
– Узнавал на Репеквааме? Вертолет готовят?
– Все разъехались, никто не отвечает. Попробуй еще раз командира вертолетчиков.
Что могло случиться у них, думал Забаров. Уснул Лобачев и наехал на опору, толкнул, произошел схлест? Что могло быть?
Ответил телефон на Репеквааме.
– Вадим Иванович, – стал объяснять Забаров в трубку, – случай чрезвычайный. У меня люди на линии, могут замерзнуть. Нужно готовить машину. Вадим Иванович, это самый настоящий аварийно-спасательный, клянусь. Выручай.
– Нет у меня экипажей, – отбивался вертолетчик. – Заявок не было, да и закрываемся по туману.
– Вадим Иванович, дорогой, вся надежда только на тебя, – успел сказать Хабаров, и связь исчезла.
Пронзительный леденящий вой аварийной сигнализации. Магнитофон, громко щелкнув, пошел крутить большие свои диски. Освещение сначала совсем пропало, затем стали вспыхивать лампы в плафонах дневного света на потолке диспетчерского зала.
Вот оно, сказал себе Забаров. Такого еще не было за все двенадцать лет, сколько работаю. Групповой несчастный случай. Накаркали, Болдов и этот, кудесники. Не нравятся им спокойные смены.
– Алло, алло, – ожила трубка, – вы говорите?
– Да, да! – встрепенулся Забаров. – Нас разъединили. Мне нужен двадцатый. Пожалуйста… Вадим Иванович? Ну все, свершилось. У нас авария, а люди – в очаге.
– А мы закрылись, Юрий Степанович, – сказал вертолетчик, – придется мне самому лететь. Других не выпустят. Да и меня – неизвестно.
– Люди там, понимаешь… Мороз за пятьдесят.
– Ладно, ладно, что я – не русский. Попробую объяснить диспетчеру.
Болдов теперь стоял в стороне и глядел, как Олег раскручивает обнаженной рукой провод, на конце которого привязаны для верности две струбцины. Вот они взмыли вверх и потащили за собой жгутик, поднимаясь все выше, пока не оказались над обнаженным, сбросившим изморозь, черным проводом фазы ЛЭП.
И снова огонь сверкнул раскаленным копьем, впиваясь в струбцины, но те продолжали падать, и дуга стала укорачиваться, утолщаясь, раздуваясь, превращаясь в сферу, в огненный клубок плазмы, который с оглушительным треском рассыпался в прах. Когда глаза привыкли к сумраку, стали видны струбцины, качающиеся на фазе, натянутый медный провод закоротки, прикрученный к вбитому в землю стержню.
– Молоток! – сказал Болдов Орехову.
– Как учили, – скромно сказал Олег, пряча руку в меховую рукавицу, – диверсанты мы.
Они поднялись на гусеницу вездехода, открыли дверку и друг за другом нырнули в чрево машины.
– Молодец Олег!
– Во дал, барбос!
– Так бы на соревнованиях!
– Когда следователь станет допрашивать, кто бросил на линию струбцины, можете мою славу взять себе, – огрызнулся Орехов, протягивая ладони к пламени, с шумом рвущемуся из раструба паяльной лампы.
В салоне вездехода воняло бензином. Леха Шабалин сидел, закрыв лицо ладонями. Слабый пар струился сквозь бледные худые пальцы связиста.
– Леша, тебе плохо? – посочувствовал Болдов.
Шабалин отнял руки, и стали видны побуревшие щеки, синие губы. Глаза провалились, глядели затравленно.
– Что с тобой, Алексей?
– Не знаю. Дышать нечем.
Болдов выпрямился, поднял руки над головой и, раскрутив задвижки на потолочном люке, приоткрыл его. В салон рванулся морозный туман.
– Что задохнуться, что замерзнуть – разница невелика, – сказал Жора Сукманюк.
– Это тебе, – возразил Орлов. – А мне совсем не безразлично. И вот Лехе не одинаково, И даже Охламону. Правда, Хиля?
Пес жалобно заскулил, видимо, и ему не хватало воздуха.
– Вот, слышишь, даже Хиле не одинаково, так что за всех не расписывайся.
– Я не расписываюсь, ясно? Почему мы не пытаемся подключиться к линии и выйти на связь? Леха заболел, так любой другой может попытаться. Что мы сидим, чего ожидаем? Если вы боитесь – давайте я подключусь. Мне все равно, сгореть сразу или замерзнуть постепенно. Сгореть даже лучше.
Болдов ждал, кто из ребят даст ему отпор. Отозвался Пшеничный:
– Если ты сгоришь, Болдову дадут пять лет. С его язвой это – сыграть в ящик. Гарика снимут с главного. Да и нас тягать станут, почему тебя не удержали.
– Да никто не станет ни судить, ни допрашивать, – Жора злился на окружающих. – Я уже не чувствую ступни. Еще часа три-четыре, и мы все уснем здесь.
– Паникер ты, Жора, – сказал Орехов, – бздун. Шкура тебе твоя кажется самой лучшей в мире. Если сейчас Болдов разрешит тебе подключаться к линии, ты же откажешься. Даже если тебе условие поставить: бросай или оставим здесь. Ты не бросишь, трепло.
Болдов опустил люк, сел в кресло. Посидел и снова поднялся, повернулся к салону лицом.
– Давайте я попробую подключиться к линии. За меня отвечать никто не будет.
Возразили сразу трое – Федор Иванович, Орехов и Пшеничный.
– Не надо!
– Нет!
– Ни в коем случае!
Болдов глянул искоса на Жору и сказал;
– Есть же один шанс из тысячи, что линию не включат. Может, повезет мне и всем нам.
– Фаталист! – фыркнул Орехов. – Кому нужна эта игра со смертью? Жоре? Вернемся домой, пусть без свидетелей порепетирует.
– Вернемся, вернемся! – Жора посинел от возмущения. – Можно подумать, что я не понимаю. Всем жить хочется.
– Но больше всех – тебе, – сказал Лобачев.
Помолчали. Шумела паяльная лампа.
– Нас с Охламоном в квартиру теперь не впустят, – сказал Царапин, поглаживая пса за ухом. – То мы воняли блохами, рыбой, потом, а теперь еще и бензином этилированным.
– Приходи ко мне, – предложил Пшеничный. – Знаешь какие пирожки у нас дома!
– Пирожки у всех вкусные, – сказал грустно Лобачев. – Если бы пирожками можно было вездеход покормить, чтобы он ехал!
– Ну правильно, – сказал Максим. – А нас напоить соляркой, чтобы мы своим ходом помчались в сторону Знаменитова.
Орлов представил домики-балки за речкой, свое крылечко, окно. Неужели все сорвалось и опять начинай сначала? Острая тоска сдавила ему грудь, пронзила его безысходностью. Большие, печальные не по-детски глаза дочери глянули в душу, словно спрашивали: «Как же теперь, папка?» «А что, – впервые всерьез подумал Максим, – если мы тут и вправду загнемся? Что будет с Анютой? В детдом заберут, не пропадет. Выжил же я, военной поры сирота, выжил, и не убивает меня ни тундра, ни водка, ни работа. Разве вот эта тоска удушит меня. А что же с Анюткой без родителей? Ни войны, ни голода, ни катастроф, а девочка – сирота. Не-е, нельзя мне загнуться сейчас. И нельзя эти настроения здесь позволять. Расшевелить надо всех».
За ветровым стеклом вездехода наступала ночь. Холод сковывал нежеланием шевелиться, даже глядеть. Боль в обожженных лицах, немеющие ноги и руки, усталость во всех клеточках тела.
– Ребята, – сказал Орлов, – а я ведь с вами больше в тундру не поеду. Пас.
– Это мы еще посмотрим, – проворчал нахохлившийся Болдов.
– Нечего смотреть, начальник. Завязал я. Вот, подписывай заявление, – Максим полез непослушной рукой за пазуху.
– Ты что, сдурел? – обозлился Болдов. – Какое заявление? Не трать тепло.
– Да плевать я хотел на твое тепло! Мне жарко, может. Душно! – Орлов потащил откуда-то из внутренних карманов измятую бумажку и протянул Болдову. – Подписывай! Не желаю я больше ездить в тундру. Хочу ходить в штиблетах. Подписывай, кровопийца!
Болдов ошалело уставился на бумажку, раскрыл было рот и снова захлопнул его. В усталых его глазах мелькнуло озорство.
– Если ты думаешь, – продолжал Максим, что еще сагитируешь меня в такую поездку, как эта, – фиг тебе! Не же-ла-ю. Ясно?
– Да пошел ты! – возмутился Болдов. – Никуда я тебя не отпущу! Не дам перевода и заявление не подпишу. Тебе фиг!
– А нет, подпишешь! – кричал Орлов, бешено вращая белками. – Не желаю вкалывать в таком холоде. Не желаю измываться над своим организмом!
Все зашевелились, забубнили, задвигались, растормошенные спором. Паяльная лампа вроде стала давать больше тепла и меньше угара, и холод стал не таким пронизывающим.
– Ну чего ты, Макс? – вяло сказал Жора. – Мы еще, может, и не выберемся отсюда.
– Тю на тебя, псих интеллигентный! – заорал еще громче Орлов. – Смотреть на тебя не могу, сопли распустил.
– Да! – сказал Болдов.
– Максим, – сказал Толик, – ты и вправду увольняешься? И не худо тебе будет без нас?
Орлов поглядел на обугленное лицо Пшеничного, на горящие лихорадочным румянцем щеки Шабалина, на узкий, как на древних иконах, восковой лик Царапина, греющего на коленях Охламона, и сказал виновато:
– У меня, ребята, чрезвычайная обстановка. Вы же знаете.
– Значит, бросаешь нас? – спросил Орехов.
– Я, может, увезу… ее отсюда. Может, она опомнится. Анюта уже совсем взрослая, все понимает. Стыдно ей за мать.
Максим поглядел на почерневшие зубцы сопок и вдруг обнаружил, что там, над сопками, в узкой полосе светлого неба пульсирует огонек.
– Ладно, ребята, – сказал Максим дрогнувшим голосом, – собрание продолжим в другой раз. В понедельник, например, я отгул за сегодня беру. Да и вам не мешает мордочки подлечить. Продолжим нашу дискуссию на следующей неделе. А сейчас давайте собираться.
– Куда? – опешил Болдов, машинально засовывая себе в карман чистый листок бумаги, который ему дал Максим вместо заявления.
– Как куда! Наброс с линии снимем, чтобы не пересажали нас за отключение транзита. Вещички вытащим наружу, которые с собой забирать будем. Костерок заготовим, чтоб видно нас было издалека, придется что-то сжечь…
Он говорил, завороженно глядя на мигающую точку в небе, и уже понимал, что ошибся, что это вечерняя звезда, подруга влюбленных.
«Обманщица!» – подумал он, и великая тоска объяла его сердце и стала сжимать своими мохнатыми черными лапами. Но он не поддался ей, он снова пересилил себя и сказал в лицо Жоре Сукманюку, удивленно глядящему на него;
– Ты куда-то собирался пешком идти, дурачок. В баньку не успел бы, а так, гляди, еще и управимся. Небось летят уже к нам.
Жора слабо улыбнулся, смутно начиная верить в то, что слова Максима сбудутся.
И сам Максим знал, что теперь, что бы ни случилось, до самого конца будет тормошить товарищей и оживлять их веру.
Главное – сохранить бы ее самому, не отпустить из сердца. Веру, и надежду, и любовь.
Перед лицом смерти Максим впервые усомнился в непогрешимости своего всепрощающего отношения к жене.
Трезвая она была нежной и ласковой, заботливой, хозяйкой. Но все чаще в ее поведении было что-то от провинившейся побитой собаки. Все реже вызывала она к себе сочувствие. После очередного приступа белой горячки, последнего, у нее стало совсем плохо с печенью. Правую сторону живота у нее раздуло, боль бывала до потери сознания. Несколько дней ее поддерживали наркотиками. Максим каждый день с Анютой приходил в больницу, сидел по часу и более у кровати жены, глядел на желтое постаревшее лицо, некогда такое родное, а теперь все более теряющее привлекательность, и заглушаемый разумом протест рвался у Максима наружу, требовал выхода. Чем это кончится? Сколько будет так продолжаться?
Анюта глядела на мать совсем безучастно, не испытывая ни страха, ни сочувствия. С отцом ей было покойно и уверенно, с матерью – вечная тревога и позор. Когда мать бывала в больнице, в их скромном домике поселялось тихое семейное благополучие, уют, чистота. Они вместе с отцом убирали и готовили обеды. И Анюта в эти дни ощущала заботу о себе, интерес к своим делам и мечтам, к своему существованию.
Как-то вечером, когда Максим, уложив дочку в постель, рассказывал очередную сказку из их домашнего устного арсенала «Спокойной ночи, малыши», Анюта сказала:
– Папочка, давай уедем отсюда.
– Куда? – Максим удивленно глядел в серьезные большие глаза дочки.
– Куда-нибудь далеко. В другой поселок. Может, мама там будет всегда… здоровой. И трезвой. И я не буду голодная. И у меня будет новое пальто. И ты не станешь уезжать от нас в тундру, будешь каждый вечер дома… Как жаль, что у нас нет бабушки. Ты ее помнишь?
– Да, – ответил Максим. – Я помню, как мы с ней бежали от вагонов, лопались стекла, огонь вырывался из окон, и кругом были взрывы, крики, самолетный вой. Мама упала на меня, придавила к пыльной траве, и над нами так грохнуло и засверкало, что я на время ослеп. А когда все утихло, я стал просить маму отпустить меня. Она молчала. Я выполз из-под нее, повернул лицом вверх и увидел, что она… убита. К тому дню мы пережили не одну бомбежку эшелонов, я уже мертвых видел. Я понял, что мама не встанет, но стал тянуть ее за руку, кричать, просил не оставлять меня… Она будто уснула, только глаза не совсем закрылись. Вот такой я ее и помню.
– Не плачь, папка, – сказала Анюта, проводя пальцем по главам Максима.
– Это, наверное, от дыма, – сказал он, отворачиваясь к печке, гудящей у выходной двери.
Анюта прижала к своей щеке большую отцовскую ладонь и спросила негромко:
– А какая она была, бабушка?
– Молодая, добрая, ласковая.
– Не, на кого похожая?
– На тебя, – сказал Максим.
Так оно и было. Анютино лицо повторило черты погибшей бабушки, и чем старше становилась девочка, тем сильней было это сходство в представлении Максима.
…Максим глядел на далекие звезды, но видел опять горящие вагоны, пересохшие пыльные травы в донецкой степи, неподвижное лицо навсегда уснувшей матери, а в ушах его звучал голос Анюты: «Папка, ну, где же ты? Мне так плохо без тебя…»
А в небе зажигались все новые звезды, маленькие и большие. В чудовищном удалении пылали они негасимым светом, посылая всем ожидающим свои позывные, и где-то среди них, поначалу такая же маленькая, а затем все растущая яркостью вспышек – рукотворная звезда, бортовой маячок поискового вертолета, который в ледяной глубине заполярной тундры ожидали потерпевшие беду люди, она должна была обязательно появиться. Должна была. Должна…








