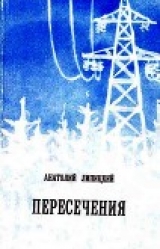
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Болдов не верил, что все это очень серьезно, думал, стоит власть употребить, и все встанет на место. Как-то он пришел в балок – деревянный передвижной домик, в котором жили Орловы. Пришел, когда Максим взял отгулы и после них не вышел на работу.
Глаза Болдова освоились с освещением, и стал виден стол с грязными тарелками и недопитой бутылкой, краюхой хлеба и горстью дешевых конфет. Максим Орлов сидел за столом, уронив голову на грудь. На кровати кто-то лежал, полуприкрытый одеялом. Обнаженное худое плечо, тонкое синее колено, пышные волосы, разбросанные по несвежей подушке – жена Максима.
Болдов притронулся к плечу Орлова, негромко позвал:
– Макс, Максим!
Орлов не шевельнулся.
Болдов взял пьяного за плечи, попытался поднять, поставить на ноги:
– Максим, очнись, что с тобой?
Голова Орлова запрокинулась, зубы оскалились в жуткой улыбке. Болдов выбежал из балка, помчался на подстанцию к телефону, вызвал «Скорую помощь». Врач констатировала у Орловых тяжелое алкогольное отравление. Болдов помогал спасать несчастных, устраивал их в стационар и насмотрелся на спившихся, на бьющихся в белой горячке, на безнадежных, обреченных и лишь тогда стал постигать всю глубину трагедии алкоголизма. Он понял, что ругать и стыдить алкоголика бесполезно – его нужно лечить, серьезно и долго, его нужно вытаскивать с того света, из мрака. Он понял, какой тяжкий крест несет Максим Орлов.
Самое страшное было то, что жена Максима оказалась почти неподдающейся лечению. Врачи туманно объясняли неэффективность своих методов, но никому от этого не становилось легче. Максим страдал и мучился, пытался сам спасать жену, защищал ее от беды, вломившейся в их жизнь, и ему это удавалось, когда он не уезжал в командировки, когда мог ежедневно быть дома. Он заходил за женой на работу в ателье, где ее ценили как хорошую швею, сочувствовали Максиму, но не могли терпеть бесконечно ее прогулы. Возвратившись к нормальной жизни, женщина держалась до следующей командировки Максима, была нежной и доброй, она любила мир своей семьи, она просто не могла найти в себе сил бороться в одиночку, без Максима, с тем, что передали ей по наследству алкоголики-родители.
Орлов просил перевести его на работу, несвязанную с выездами из поселка, и, когда Болдов «ответ посоветовал выгнать жену, решил уйти – с участка. «Приедем – подам заявление. Не согласятся – уволюсь, пусть пропадают надбавки, черт с ними!»
Максим поглядывал на своих друзей, сидящих рядом, и в который раз думал, что нелегко ему будет. Случись авария, они улетят, уедут, а он останется. Каково? И это когда все знают, что лучше и быстрее его никто не заменит изолятор, не поставит бандаж на подожженном проводе, не поправит шлейф на головокружительной высоте над рекой.
Валерка прижал к себе Охламона, вроде безразличный ко всему, а скажи сейчас, что нужно на опору – забудет о боли в примороженных руках, без разговоров возьмет когти и пояс, полезет первым.
Федор Иванович ждет команды тронуть машину, всегда готовый без подмены работать, когда все отдыхают, дремлют, веря в него, в его умение и опыт, в его удачу тундровика.
Толик Пшеничный прячет обмороженный нос в воротник полушубка. Невзрачный, невысокий, неприметный. Пшеничный на удивление вынослив и терпелив. На каждом шагу, в каждом деле ставит перед собой цель, чуть-чуть превышающую самые высокие достижения друзей. Быстрее Царапина подняться на опору, надежнее Болдова завязать узел на страховочном канате, ловчее Орлова закрепиться на краю траверсы и быстрее Орехова, четвертого в их бригаде, самого крупного, самого сильного, поднести к опоре штанги и ящик с инструментом, подготовить термопатрон для сварки. Было что-то неестественное, искусственное в его поведении, в его поступках. Но самое удивительное то, что Пшеничный не просто ставил перед собой цели, он добивался их. С ним не пропадешь, это каждый скажет. И у жены его тоже спросите, не бойтесь. Поехал как-то Пшеничный в командировку в соседний район и женился на женщине с ребенком, усыновил мальчика, дрожал над женой, и она расцвела, превратилась из гулящей замухрышки в неприступную даму.
Максим с нежностью глядел на своих друзей, с которыми исколесил не одну тысячу километров по пустыням, пурговал и замерзал, жарился под солнцем и гнил под дождями, тянул провода над бурными реками и острыми скалами, ставил опоры на каменистых склонах и в раскисшей топкой тундре, искал затаившееся повреждение, осматривал в бинокль десятки тысяч опор при инженерных обходах.
Последняя вылазка в тундру, думал Максим. Прощальная. Болдов упросил; между Шестнадцатым углом и Дедювеемом обнаружили при вертолетном осмотре изуродованную бульдозером опору: один пасынок перебит, вся опора сдвинута, перекособочена, один провод начал расплетаться. Гирлянда изоляторов перекошена, вот-вот коснется траверсы. Надо помочь ребятам.
Арктическая зима пошла на убыль – с января стало появляться солнце: чуть покажется из-за сопки, мутное, расплывчатое, с цветными радужными спутниками-двойниками, чуть проползет над горизонтом, словно съеживаясь от холода, и спрячется. Тепла от него никакого, одни мечты и надежды.
Морозы в феврале установились жестокие. Получив сообщение об аварийной опоре, главный инженер Забаров двое суток не высылал бригаду линейщиков, надеясь, что потеплеет. Он рисковал в любом случае. Посылать людей в ледяную пустыню при пятидесятиградусном морозе нельзя. Если что случится с бригадой, ему же не сносить головы. Снимут с должности и отдадут под суд. Не посылать ремонтников на ЛЭП, зная, что в любой момент может развалиться хилая энергосистема, значит вызвать справедливый гнев энергоуправления, которое не замедлит сделать оргвыводы.
Вообще главный инженер на энергетическом предприятии – фигура сложная и даже трагическая. Трагедия в том, что, заглядывая вперед, в будущее, планируя и направляя развитие предприятия, он не имеет никаких прав и возможностей реализовать свои мечты без директора, который один распоряжается материальным обеспечением любых работ. А какой же директор за так отдаст деньги для какого-то отдаленного послезавтрашнего дня, если сегодня нужно подремонтировать, закупить, построить, отправить, получить? Сегодня нет в достаточной степени людей, жилья, техники, сегодня нет бензина, стройматериалов, нет прессованного картона – нет в том количестве, которое требуется. Что же можно отдать, у кого отнять?
Директор распоряжается кредитами и кадрами, директор отвечает за план, за хозяйственный порядок, и если не находит главный инженер общего языка с директором, о перспективе говорить бесполезно, маниловщина это, а не перспектива.
Перед выездом из Знаменитова Болдов зашел к главному в кабинет и, глядя на туман за окном, спросил;
– Может, выклянчим на «атомке» вездеход? Наш, как всегда, барахлит.
Забаров побарабанил пальцами по столу, погладил себя по черной с проседью бороде, которую отпускал каждую зиму, чтобы не обмораживать лицо, и сказал:
– Ты говоришь об этом всякий раз, как только тебе нужно ехать. Я ведь и без этого все знаю, мне доказывать не надо.
Болдов прикурил сигарету, затянулся с хрипом, невнятно как-то возразил:
– Доказывать всегда надо, – поскольку Забаров молчал, он добавил: – Когда-нибудь нам не повезет. Не может же везти постоянно. Вся надежда на связиста. И на то, что вы с летунами будете поддерживать контакт. Иначе мы через два-три часа перемерзнем.
– Не каркай, Виктор Яковлевич, не каркай, – главный инженер недовольно сморщился. – Было раньше все хорошо, будет и теперь.
– Но мы же не имеем права на одном вездеходе выезжать, есть решение управления, и люди знают об этом, я же сам их знакомил, – Болдов понимал, что разговор этот пустой, но уже не хотел уходить, не выговорив всего.
– Что ты от меня хочешь, Виктор? – Забаров уставился на своего подчиненного с недоумением. – Ну есть такое решение, его затвердили, чтобы меня при случае потянуть на скамью подсудимых. Ведь они знают, что у нас нет двух исправных машин.
Болдов спустился вниз, влез в вездеход, и лицо его было столь выразительным, что ни электромонтеры, ни водитель, ни инженер ПТО, ни связист, который больше всех верил в здравый смысл начальства, – никто не стал расспрашивать и уточнять. Отменить поездку в тундру по жестокому морозу не удалось.
…Болдов оглядел вездеход, лица товарищей и прокричал сквозь вой двигателя:
– Ничего не забыли? Уезжаем.
С трудом повернулся, механически отмечая сгустившийся над тундрой туман, сквозь который едва виднелась ближайшая опора. Прихлопывая дверку, отгораживаясь от лютого холода, Болдов упал на сиденье, пристраиваясь левым боком к кожуху двигателя, кивнул Лобачеву:
– Трогаем, Федя!
Лобачев мягко повел рычагом, увеличил обороты мотора, и машина сдвинулась с места, тяжелая, неповоротливая. Залязгали траки на гусеницах, опора ЛЭП за ветровым стеклом шевельнулась, стала отодвигаться в сторону. Вездеход развернулся на месте и рванулся вперед, ударяясь гусеницами о замороженную землю. Затряслись люди в чреве металлического чудовища, медленно движущегося на юг, к теплу человеческих жилищ, к теплому гаражу. На юг, туда, где дом, теплый уют, пахучий мир свежего хлеба, чистых одежд, детских щек, женских ласковых рук. А вокруг стояла мертвая пустая страна, ни зверя, ни птицы, ни человека, лишь мороз и снег, лед и безжизненные просторы, разбегающиеся во все стороны к заснеженным, блестящим под солнцем пирамидкам горных хребтов.
В салоне быстро становилось тепло, и, несмотря на безжалостные толчки и удары, электромонтеры стали проваливаться в дрему. На пол салона полетели ватные матрацы, люди в полушубках и унтах оказались на них, отключаясь от забот двухдневной мучительной тряски, от напряженной работы, когда вручную в жгучую стужу пришлось выбивать котлован, устанавливать пасынок, крепить к нему сломанную стойку.
Была суббота. В далеком Знаменитове жена и дочь Пшеничного пекли пирожки с голубикой – любимые папины пирожки. Жена Болдова Людмила дорабатывала дневную смену у щита управления ОДС, разговаривала по телефону с дочерью.
– Ты сначала вымой полы, потом пойдешь в кино… Потом мне не надо… Закончили работу… Откуда знаю? Позвонили они с линии, наряд закрывали… Да!
В балке Орловых за перемерзшей речкой и за покрытыми мохнатым инеем конструкциями подстанции Заречной стоял сигаретный и водочный угар. Десятилетняя девочка, неряшливо и убого одетая, с новым портфелем в руке подошла к балку, постояла у входа, прислушиваясь к бубнящим чужим голосам, оглянулась украдкой и пошла не торопясь по тропинке, убегающей в морозный туман. Она отошла от своего дома недалеко, но он уже скрылся за белой пеленой, и девочка нерешительно остановилась. Ей некуда было идти.
Девочка сошла с тропинки, присела на короб теплотрассы, прикрывая мерзнущие ноги полами пальто, стала дышать на худые дырявые варежки. Новый портфель стоял рядом, и девочка с горечью подумала о том, что отец снова уехал, хотя обещал остаться дома. Он обещал купить пальто и варежки, через несколько дней получка. Если мама опять не залезет в долги. Всякий раз она что-то прожигает, портит, когда хозяйничает сама. И эти дядьки и тетки, эти страшные люди…
Девочка сжалась, иней покрыл ей брови и ресницы, лег нитями на щеки, забелил пальто на спине, на воротнике, у запястьев. Мороз входил в легкие, было больно дышать. Девочка не думала, что может погибнуть. Ей было очень холодно, холодно до боли.
В квартире Царапина сидели женщины, и шел у них разговор о мужьях вообще и о Валерке в частности. Было высказано дельное предложение: после того, как хозяин вернется, предъявить ему ультиматум: или жена, или Охламон. Ну что это – дом псиной провонял.
– А ты пробовала его помыть? – негромко спросила до сих пор молчавшая соседка, самая молодая из собравшихся, мать-одиночка.
– Валерку?
– Да нет же. Охламона.
– А на кой ляд мне это надо? Дите не завела, так буду с псюгой возиться. Да он меня еще и погрызет.
– А ты отдай их обоих мне, а? Станет у тебя в доме приятней, и Валерка станет золотым, и Охламон как роза станет пахнуть. Отдавай? Я ему еще и ребеночка рожу, Валерке.
Все оторопело глядели на соседку, не понимая, шутит она или всерьез предлагает.
– Скажешь такое… – сказала Валеркина жена растерянно.
Сын Лехи Шабалина Сашка решил после школы зайти к другу поглядеть на игрушечный танк, радиоуправляемый, на батарейках, башня поворачивается, и – «чшш! чшш!» – пушка выстреливает огоньком-вспышкой. Сашка забыл, что обещал прийти пораньше, понянчить младшего братишку, пока мать пробежит по магазинам. Забыл, как мать предупредила: «Смотри, не будет тебя вовремя, пойду искать, в такой мороз и замерзнуть немудрено». Вообще-то Сашка помнил, решил одним глазком глянуть на танк и мчаться домой. Но у приятеля никого из старших дома не оказалось, и Сашка, сбросив пальто и валенки, заигрался, позабыв обо всем на свете, а хозяин танка с удовольствием позволял забавляться своей игрушкой самому сильному в их классе, Сашке Шабале.
Сукманюк отправил свою жену с сыном-дошкольником в Симферополь, к старикам. Мальчик хандрил, обсыпало его диатезом без солнца и витаминов, и они с женой решили наплевать на деньги, которые собирали на кооперативную квартиру. Нужно было спасать малыша. Комнатка в Знаменитово, в длинном бараке на окраине поселка, пропиталась затхлостью, нежилым духом. Не чувствовалось в ней женской руки, женского присутствия. И не очень рвался в Знаменитово Сукманюк, разве что мечтал в баньку сходить, попариться, отогреться да полежать в чистой постели с хорошей книжкой в руках.
Сыну Лобачева исполнилось двадцать три года. Парень отслужил в армии, возвратился в Знаменитово и стал работать водителем на автобазе, ходить в рейсы по зимникам – на Дерзкий, на Маралиху, на Ближний. Любил технику, в отца пошел. И когда Федор Иванович трогал ГТТ в сторону Шестнадцатого угла, младший Лобачев шел со своим «Уральцем» третьим к колонне, движущейся с интервалами метров в триста с Красавкина на Знаменитово, и солнце, заходя где-то за спинами водителей, освещало горбатые хребтины сопок и густую снежную пыль, взбитую колесами машин.
ГТТ монотонно двигался полчаса, сорок минут, час. Лобачев мельком увидел на опоре номер 360 – и остался доволен. Шли хорошо. Тряско, конечно, вон как мотает Болдова. Разморило всех, даже Охламон спит. Один Болдов еще держится. Правда, не очень уснешь в переднем кресле: физиономию испортишь, если швырнет на стекло. Людка не признает мужа, спросит: кого ты мне привез, Федор Иванович? Впрочем, по носу узнает. Лобачев думал о чем придется, а глаза его цепко выхватывали в сером пространстве колею, руки двигали рычаги, придерживая то правый, то левый фрикцион, и душа у Федора Ивановича радовалась легкости, с какой машина двигалась вдоль ЛЭП. «Давай, давай, родимая, скоро передышка. Я тебя подшаманю в Знаменитове, переберу по винтику. Постукиваешь ты слегка, да еще в очень серьезном месте, я слышу. Но надо ехать. Потерпи. Мне прямо больно за тебя. Но ты давай, помогай, поднатужься, я тебя и так жалею».
Вездеход выскочил на чистое, без тумана, пространство и загрохотал по склону сопки. Поддав газу, отчего вездеход побежал-покатился еще резвее, Лобачев протянул руку за очками, потому что солнце, закатываясь за сопку, било снизу по глазам нестерпимым алым лучом, хотел взять свои очки, да так и застыл с протянутой рукой, настороженно вслушиваясь в резкий посторонний звук. Нога автоматически сбросила обороты, рука выключила скорость. Машина прошла несколько метров и остановилась. Лобачев с помертвевшим лицом слушал слабые глухие удары где-то в глубине дизеля.
– Что, Федя? – Болдов приподнялся, ложась животом на горячий кожух и выражая всем своим видом спокойный интерес, хоть, глаза у него были сонные, красные.
– Стучит, – ответил хрипло Лобачев и прокашлялся.
– Да хрен с ним, пусть стучит, что же ты сделаешь? Погнали на Шестнадцатый, там будем думать.
Хорошо, если доберемся, сказал сам себе Лобачев. А если я запорю движок намертво, и встанем мы здесь, ни деревца, ни кустика. До Маралихи – тридцать, до Шестнадцатого – сорок кэмэ. Что делать будем?
– Виктор Яковлевич, надо поглядеть. Я заглушу, немножко подождем, пусть остынет.
Болдов дернул плечом, сел в свое кресло, мгновенно проваливаясь в сон.
Тишина навалилась на вездеход, в ушах зазвучали какие-то писки, которых в действительности не было.
Лобачев отрешенно глядел на тундру и на солнце, позабыв надеть очки, и скоро все пространство стало казаться ему рябым, в черных и оранжевых пятнышках.
Проснулся Сукманюк, потянулся, мурлыкнул:
– Перекур с дремотой?
– Угу, – промычал Лобачев.
– Шестнадцатый скоро?
– Скоро, скоро, – сквозь зубы сказал водитель.
Сукманюк оглянулся на спящих монтеров. Там пошевелился и заворчал Охламон. Люди не просыпались.
Лобачев выкурил сигарету, тщательно погасил окурок в специальной коробочке из-под консервов, еще чуть помедлил и взялся за ключ запуска. Вездеход взревел, задрожал, наполнился визгом и воем, все как обычно, только слышался водителю в звуках двигателя затаенный грозный стук, и Лобачев с опаской включил скорость и легонько тронул машину с места.
Болдов, проснувшись, глядел искоса на водителя, тоже различая в гуле двигателя посторонний звук и разделяя опасения Лобачева.
Они проехали вдоль ЛЭП еще пролетов пять, когда под горячим кожухом двигателя раздался удар – один, второй, третий, будто огромной кувалдой кто-то с размаху бил по самым хрупким и чувствительным частям двигателя. Звон и визг наполнили салон, и не успел Лобачев выдернуть скорость и газ, как вездеход словно уперся в бетонную стенку.
– Все, – сказал в наступившей тишине Лобачев, – приехали.
– Погоди, погоди, Федор Иванович, ну, что ты так сразу, – быстро возразил Болдов тихим спокойным голосом. – Поглядим, покумекаем.
Он говорил, а сам испытывал ужас и тоску. Что делать? Главное – не рыпаться, никаких попыток уходить от машины – это главное.
– Что уж тут глядеть, Виктор Яковлевич, – тускло сказал Лобачев. – Гляди не гляди, а когда основной подшипник летит – это хана. Тут не поправишь.
В салоне послышалось кряхтение, и голос Максима Орлова вплелся в разговор:
– Куда летит?
Ему никто не ответил.
– Я спрашиваю, куда летит? Федя! – Орлов приподнялся на локте.
– Что тебе?
– Куда летит?
– Кто?
– Подшипник.
– Да ну тебя!
– Ну скажи.
– В ж…у! – уступил Федя настойчивой просьбе.
Все дружно зашевелились, потому что Федор Иванович, начав говорить адрес, выложил на полную катушку – еще и то, что он думает о летающих подшипниках вообще и о тех, кто очень настырно интересуется направлением полета.
Орлов заразительно хихикнул и удивленно сказал:
– Федя! Спасибо, друг, теперь я знаю куда. Но ты скажи заодно, что ты делаешь, когда желание есть, а возможностей – шиш?
– Да пошел ты!.. – взорвался Лобачев, забывая на миг о вездеходе и о причине своей нервозности. – Виктор Яковлевич, ты его больше в тундру не бери! Что за мужик несерьезный! Ему бы только ла-ла да хи-хи. Бабой тебе родиться, а не мужиком.
– Бабой, – Орлов как бы задумался. – А что? Макся. Знаешь, Федя, что бы я сделал? Я бы пошел в женский монастырь.
– Да тебе только туда и дорога. Чтоб десяток баб сразу. – Все засмеялись, а Орлов обиженно оказал:
– Ну с чего вы это взяли, ребята? Просто у меня кость широкая.
– Хи-хи-хи, – тонко зашелся Жора Сукманюк, уловив наконец суть разговора.
Проснулся Леха Шабалин, застонал от боли в груди, ошалели повел взглядом.
– Не включили еще линию?
– Еще не успели, Лешенька, – быстро сказал Орлов. – Ты же только глаза прикрыл, а уже хочешь, чтобы включили.
– Ты не слушай его, Леха, – сказал Федор Иванович. – Трепач он был всегда, трепачом и остался. Давно включились. Ты подремли, пока мы тут одну проблему решим.
Шабалин действительно прикрыл тяжелые веки, откинулся на спинку кресла.
Из-под груды матрацев и мехов прогудел голое Толика Пшеничного:
– Ну что вы балаболите? Наряд открываем, что ли? Допуск дают?
– Дают, дают, – отозвался Орлов. – Успевай убегать.
– Хиля, – послышался скрипучий голос Царапина, – кусни его, чтобы подал он глас искренний, а не придурочный.
– Не надо, Хиля, – похлопал Орлов пса по загривку. – Глас может сопровождаться кое-чем и кое-кому это может не понравиться, в частности твоему любимому хозяину.
Трепачи, – пробубнил Орехов, – поспать дадите?
Болдов развернулся лицом к салону, стал коленями на кресло, сказал жестко:
– Кончайте базар. Слушайте меня внимательно. – Он помолчал, убеждаясь, что все замолчали и приподнялись или просто раскрыли глаза и уставились на него. – Говорим о главном. У вездехода заклинило двигатель. Мы все знали, что это может произойти, но, возможно, не понимали до конца, что окажемся в положении потерпевших крушение. Нужно вызывать помощь. Идти пешком до жилья безнадежно, мороз большой. Да и Леха заболел, он не сможет идти.
– Я смогу, – хриплым шепотом сказал Шабалин.
– Мы должны быть вместе и не отходить от вездехода, здесь нас можно всех найти.
– Живых? – спросил Орлов задумчиво.
– По-моему, да. Но это уже детали, Макс, – ответил Болдов. – А о деталях давай поговорим потом.
Дежурный диспетчер ОДС Николай Александрович Строганов после ухода Людмилы Болдовой остался в диспетчерском зале один.
Заканчивалась рабочая неделя. Нагрузка в системе стремительно шла на убыль. Ветренская станция работала в основном на подачу тепла городу, плавэлектростанция в Дерзком символически крутила одну машину, нарабатывая плановые киловатт-часы да поддерживая с системой синхронную связь для нервного покоя атомщиков, чувствующих себя очень неуютно при изолированной работе. Основную нагрузку в системе несли реакторы Знаменитовской «атомки».
Николай Александрович полистал журналы, просмотрел последние записи дежурных щита управления, набрал телефон дежурного инженера смены «атомки», спросил, как с уровнями напряжения, не нужно ли помогать. Атомщики дорабатывали смену, все было в пределах нормальных параметров.
Зазвенел городской телефон.
– Слушаю, Строганов.
– Добрый день, Николай Александрович, Забаров говорит. Что там у нас?
– Здравствуйте еще раз, Гарий Степанович. Смена проходит нормально, замечаний нет. – И уже другим, неофициальным тоном добавил. – Тихо, как перед артподготовкой. Не нравится мне такая смена: у всех все нормально. Даже Болдов на связь выходил с места работы. Подключался.
– Так это же хорошо, чудак!
– Не нравится мне, Гарий Степанович, когда все-все хорошо.
– Ну ладно, это твое дело. Наши еще не появились на Шестнадцатом? – Забаров спросил просто так, ведь диспетчер не мог не доложить о таком важном событии.
– Контрольное время – семнадцать часов, Гарий Степанович. Они где-то на подходе. Через часик Болдов будет звонить.
– Ну хорошо. Сколько там на твоем образцовом, за окном?
– Сейчас… Так… Сорок семь по Цельсию.
– Вот жмет, гадюка, надоело. Я иду в кино. Если что – пришлешь ОВБ[5]5
ОВБ – оперативно-выездная бригада, машина ОВБ.
[Закрыть].
– Лады, Гарий Степанович. Сделаю.
Строганов краем глаза видел все приборы на щите, и показания ни на одном из них не вызывали тревоги. Пульсировал частотомер: 50.03 – 50.07 – 50.01 – зеленые цифры через каждые пять секунд вспыхивали и гасли, тогда становились видны переплетения миниатюрных трубочек-цифр в приборе.
Диспетчер еще раз заглянул в суточную ведомость, пересмотрел карточки заявок, полистал оперативный журнал. Наконец вытащил из тумбы стола свежий «Огонек», стал читать, поглядывая на приборы.
Прошло минут сорок, час. Никто не звонил. Строганов убрал «Огонек», встал с кресла, потянулся, поправил заячью шкурку, которую уже два года носил на пояснице, простуженной во время инженерного осмотра ЛЭП, и в этот миг все изменилось. Напряжение упало, затем всплеснулось кверху, все приборы задергались, запрыгали, закачались стрелками. Пульсирующий частотомер ярко зеленел сумасшедшими кошачьими глазами: 51.50 – 51.20 – 51.08. С громким щелчком включился диспетчерский магнитофон, готовый записывать все переговоры.
Строганов, затаив дыхание, ждал. Приборы успокоились. Строганов сел, приготовил чистые листы бумаги. Сейчас для него начнется главное испытание. То, ради чего он сидит здесь, за что ему платят деньги. Записывать данные от дежурных могла бы любая девочка-десятиклассница. Она же передала бы в Северянск заявки и получила разрешение на вывод оборудования в ремонт. Несложно научить ее подсчитывать баланс по Заполярной энергосистеме. А вот принимать квалифицированное решение в аварийных ситуациях может только специалист. И от этого решения порой зависит живучесть всей системы. Главное сейчас – информация. Что случилось, где? Какие последствия? Диспетчер сидит за пультом в сотнях километров от объектов, но к нему сходятся все нити связи, все бразды правления. И пока не позвонят с мест, пока не появится у диспетчера полнейшая, исчерпывающая информация, до тех пор он обязан сидеть и ждать. От того, что начнет он изводить свою смену, задавать вопросы и уточнять, отвлекая их там, в точке возможной аварии, от дела, которое они знают и умеют делать, – от этого только хуже будет и людям и машинам. «Не вредить» – лозунг не только врачей, но и диспетчеров энергосистем.
Замигали сразу две лампочки на вызове связи – «атомка» и плавстанция. Звонок разрезал тишину диспетчерского зала. Диспетчер взял трубку, нажал ключ «атомки»:
– Строганов, слушаю.
– Николай Александрович, толчок в системе. Сброс нагрузки восемнадцать мегаватт. Отключался фидер Ветреного. Напряжение сто тридцать киловольт, многовато.
– Понял вас. Будьте внимательны, – сказал Строганов, сокращенными, одному ему понятными значками записывая все, что доложил дежурный инженер смены, и переключился на плавстанцию.
– Николай Александрович, нас дергануло один раз. Что там такое? – на Дерзком любопытствовали преждевременно.
– Будьте внимательны, Зоя Ивановна. Повреждение на линии Ветреного. Линия включилась автоматически. Выясняем.
Строганов еще немножко выждал, прикидывая, сколько времени требуется для всех осмотров и выяснений, и стал вызывать Пионерскую. Подстанция не отвечала.
В диспетчерский зал зашел начальник службы связи, круглолицый полный мужчина с брюшком и наивными добрыми глазами, увеличенными линзами очков.
– Где-то нас тряхнуло, Николай Александрович?
– На ветренской линии. Роман Петрович, попробуйте через связистов вызвать Пионерскую, дежурная молчит.
– Сейчас, сейчас, – связист засеменил в аппаратную.
Диспетчер набрал Ветреный. Дежурный инженер Ветренской станции тоже не откликался, хотя вызов явно шел, частые сигналы торопились друг за другом.
Звонок врезался в напряженное ожидание, замигала лампочка «Пионерской». Строганов нажал на ключ.
– Николай Александрович, слушает вас дежурный электромонтер Иванцова. Я тут… отлучалась. Извините, не предупредила.
– Не вовремя отлучались, Маргарита Тихоновна. Что у вас?
– Все нормально, Николай Александрович. Холодно Только.
Строганов, не повышая голоса, сказал:
– Пока вы отлучались, успел отключиться транзит. Быстренько идите в распредустройство, осмотрите все и доложите.
– Извините, Николай Александрович. Иду.
Снова звонок, мигание сигнальной лампочки.
Ветреный.
– Николай Александрович, Кузнецов говорит. Не пойму, что случилось, нас крепко придавило, я бегал в котельный. Сейчас все в порядке.
– Будьте внимательны, Яков Игнатьевич, мы рассыпались, где-то на линии повреждение.
– Обидно, я всех убедил, что работы на ЛЭП закончены. Уже разошлись. А где предполагается повреждение?
– Между вами и мною.
– Да-а, координаты точные.
– Предупредите директора. Мне кажется, надо возвратить дизелистов. Не исключено, что мы рассыплемся по-настоящему. Как погода?
– У нас поддувает, мороз тридцать шесть.
– Надеюсь на вас, Яков Игнатьевич. Если что – действуйте самостоятельно, пока не по-, явится связь.
Зазвонила Пионерская.
– Николай Александрович, Иванцова. Все включено. На панели ЛЭП «Знаменитово» выпавшие блинкера – отключение от земляной и АПВ.
– Все ясно. Линия отключалась и включилась автоматически. Никуда не отлучайтесь, Маргарита Тихоновна. Разыщите начальника района, предупредите. Пусть на всякий случай готовит аварийный выезд вездехода. Если рассыплемся – вызывайте меня по Минсвязи.
– Хорошо, Николай Александрович.
Диспетчер откинулся на спинку кресла, повел взглядом по приборам. Все спокойно. Вызвал дежурку, спросил, где машина ОВБ. Предупредил:
– Без меня никуда. Будьте наготове.
– А что такое, Николай Александрович?
– Нужно будет съездить в поселок, привезти Забарова.
В диспетчерском зале снова установилась тишина, которую тревожили только слабое жужжание приборов да шелест магнитофона. Строганов потянулся было выключить магнитофон, но передумал. Ничего еще не выяснилось. Что-то должно произойти, должно определиться, показать себя. Впрочем, бывали случаи и без повторов. Лишь при инженерных осмотрах обнаруживали подожженный провод в месте подсечки чем-то, – деревянным ящиком на кузове грузовика-тяжеловоза, металлической конструкцией промприбора. Какой-то головотяп-счастливчик влез под линию, остался жить, но беды наделал всей системе.
Большие диски с магнитной лентой медленно вращались за стеклами, записывая молчание оперативного персонала на всех подстанциях и электростанциях.
За полчаса до толчка, взбудоражившего персонал, энергетических объектов Заполярья, далеко в тундре, под тремя мохнатыми тяжелыми проводами ЛЭП, нависшими над вездеходом ГТТ, уткнувшимся в колею, в застывающем, леденеющем чреве мертвой машины произошел деловой мужской разговор.
Когда Болдов предупредил, что выход в сторону Шестнадцатого или Маралихи исключается, поскольку сорок километров в такой мороз никто пройти не сможет, да и Леха, ко всему, заболел, – первым, если не считать слабый протест Шабалина, возразил Сукманюк:
– Почему это мы не должны никуда выходить? Может, следует послать одного-двоих на Шестнадцатый? Сообщить как-то о нас.
– Не выходить – если мы хотим остаться в живых. Я уже сказал, в такой мороз в нашей одежде, без лыж мы не дойдем никуда. А сколько нас выйдет, один или все, дела не меняет.
– Так что же получается, – сказал Жора, – мы тут будем сидеть и замерзать?
Болдов молчал, вглядываясь в своих верхолазов, пытаясь увидеть их глаза. Бог с ним, с Сукманюком. Он чужой. В крайнем случае заставим сидеть в вездеходе, привяжем веревочкой. Главное, что скажете вы, мои тундровики. Главное, не поддайтесь панике.
– Все правильно, – отозвался хриплым басом Орехов.
– Я же говорил, – Жора Сукманюк встрепенулся, хотел привстать, но стукнулся головой о потолок вездехода и упал в кресло, – я же говорю…








