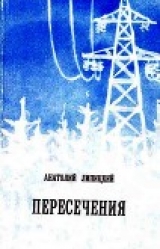
Текст книги "Пересечения"
Автор книги: Анатолий Липицкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Пересечения
Ил-14 рейса «Ветреный – Знаменитово» шел над заполярной тундрой на высоте около двух тысяч метров. Проверяя себя, летчики нащупывали глазами один из самых надежных ориентиров – ЛЭП-110, три параллельные ниточки с юга на север. В салоне уже светилось табло «Не курить! Пристегнуть ремни». Второй пилот говорил по радио с диспетчером аэродрома посадки – Маралихи.
Штурман глядел вниз, сверяясь с картой. ЛЭП была на месте. Идут они хорошо, правда, забрались влево, нужно теперь заходить на посадку от тундровой подстанции, расположенной у входа в долину. До подстанции семьдесят километров, двенадцать минут лету.
– Миша, заходим по ЛЭПу через Шестнадцатый угол, – сказал штурман первому пилоту. И еще раз поглядел вниз.
– Понял, Максимыч, идет по ЛЭП, – отозвался командир. Он тоже не хотел рисковать вблизи Грининского перевала, укрытого лохматой шапкой облаков.
Штурман увидел внизу, в немыслимо чистой белизне снегов, темный предмет, совсем рядом с ЛЭП. «Вездеход, – сообразил штурман. – Тоже на Шестнадцатый идут. Интересно, когда они туда доберутся черепашьим своим шагом?»
Вездеход вдруг исчез, словно утонул в снегу. Исчезла и ЛЭП. Провода были видны впереди, где лежали контрастные тени сопок, и позади, где самолет уже прошел, а под самолетом исчезли. «Туман», – понял штурман. Мороз затянул туманом распадки, и ЛЭП, и вездеход.
Участок линии электропередачи, скрытый туманом, смещался, уходил назад, а впереди показалась долина с домиком на Шестнадцатом углу. Прошло еще несколько минут, и Ил-14, постепенно теряя высоту, делая правый разворот над тундровой подстанцией, пошел на снижение к Маралихе.
«Когда же они доберутся к себе? – снова подумал штурман о людях в вездеходе. – Мы успеем, наверное, назад прилететь, на Ветреный». Прямо по курсу снижающейся машины смутно виднелась труба котельной, квадратная надстройка на здании аэропорта. Самолет вздрогнул раз и второй, выпуская шасси. Командир прижимал машину книзу, уменьшая обороты двигателей. Земля уже близко, пора бы появиться щитам на границе аэродрома. Над Маралихой тоже сгущался морозный туман, и аэродромная полоса стала видна вдруг расплывающимися сигнальными огнями. Командир для верности включил прожекторы.
– Спасибо, – сразу сказал по радио диспетчер Маралихи. – Наконец-то вас увидели. Туманчиком затягивает. Мягкой посадки.
– К черту, – отозвался командир, отпуская штурвал от себя.
Самолет без толчка, по-кошачьи устойчиво, сразу двумя лапами-колесами прикоснулся к утрамбованному снегу и помчался по полосе, вздымая легкий шлейф изморозевой пыли, ревя моторами, слегка покачивая хвостом, тормозя и спокойно опускаясь на переднюю опору, выставленную прямо из-под пилотской кабины.
Вездеход шел к Шестнадцатому углу уже четвертый час. Бригада линейщиков-верхолазов возвращалась в Знаменитово, закончив работу в сутках пути от дома.
Немыслимо длинные участки обслуживания были у ремонтников на линиях электропередачи. Фантастические участки: по триста километров в сторону Ветреного и Дерзкого. Самолетом пролететь – и то минут шестьдесят требуется. А вездеход идет со скоростью от силы десять километров в час. Непрерывной езды вдоль обслуживаемых участков выходило часов по тридцать, если без остановок. Но тот, кто хоть один раз проехался в вездеходе ГТТ по тундре, поймет, что тридцать часов непрерывной езды человеку выдержать невозможно. Вездеход ГТТ – это тундровый танк, и езда в нем как в танке, не каждому под силу. С ревом и лязгом он прет через болотистую тундру, по кочкам и застругам, по мелким ручьям и канавам, переплывает (если не дырявая лодка) спокойные реки, поднимается по склонам сопок на перевалы. В диком пейзаже северной пустыни ЛЭП выглядит чужеродным сооружением. И вездеход, с помощью которого обычно добирались в тундровые глубины электрики, тоже был явлением диким и чужим: он гремел и лязгал, как первобытное чудище, он чадил смрадом полусгоревшего соляра, оставляя на снегу черные брызги, а летом, бывало, поджигал сухие травы искрами двигателя. Он бухался гусеницами с самого небольшого возвышения с такой силой, будто хотел отбить кусок земли, а она даже не вздрагивала, промороженная на десятки метров вглубь, прочней гранита, и весь удар от гусениц возвращался диким трясением корпуса.
Мотор лэповцы переставили, и он, закрытый металлическим кожухом, делит переднюю часть салона вездехода надвое. По бокам от мотора по два изящных, легких, из металлических трубок кресла с кожаными подушками сидений и спинок, свободно наклоняющихся вперед. Кресла стоят друг за дружкой, сидят в них четыре человека, первый левый – водитель. Рядом с плечом сидящего водителя левая дверка, мощная, тяжелая, нужно крепко напрячься, чтобы ее открыть. Такая же дверь – зеркальным отражением, справа по ходу. Пассажирам, сидящим; на задних креслах, чтобы встать, надо наклонить вперед спинки передних сидений. Так что-если вездеход начнет тонуть посреди реки или загорится, то выскакивать из салопа следует по очереди, спокойно и неторопливо.
Шли четвертый час, до Шестнадцатого оставалось еще пятьдесят километров, В лучшем случае четыре часа езды, подумал водитель вездехода, большой и от этого сутулый чернявый мужчина сорока с лишним лет, Федор Иванович Лобачев. Пропади оно пропадом, нужно же ему было об этом думать! Это самолет виноват. Появился в небе низко, неожиданно и лишь хвостом махнул. Лобачев подумал, что летчики уже видят домик подстанции, им эти полсотни километров с высоты одним взглядом охватить. Может, удастся часика за четыре преодолеть оставшийся путь; недавно проехали пятисотую опору, а возле Шестнадцатого – трехсотая.
Обычно он не позволял себе устанавливать сроки. Он и начальника участка приучил не загадывать наперед, как долго еще ехать. Зато километры, пройденные и оставшиеся, называл точно, потому что номера опор были у него перед глазами. Да и так, без опор, по приметам дороги, для других – однообразной и безликой, а для него, набившего рядом с ЛЭП колею, сменившего за десять лет несколько машин и еще больше начальников, – для него совсем не безликой, а разной, по ориентирам, одному ему видимым, он знал, где сейчас находится.
Всматриваясь в белизну снегов через толстое двойное ветровое стекло с сеточкой электроподогрева, Лобачев видел силуэты опор, тающие в тумане, и смутные контуры сопок, горбатящихся слева. Туман затянул подножия, размыл окрестности, заглатывал и движущийся вездеход. Солнце проглядывало сквозь туман оранжевым шариком, и Лобачев снял намаявшие переносицу очки с дымчатыми стеклами, сунул их в специально приделанную петлю на приборной доске. Краем глаза он увидел, что сидящий по правую сторону от двигателя начальник участка Виктор Яковлевич Болдов тоже снимает со своего гигантского носа защитные очки и пытается вглядеться в туманную мглу.
Несмотря на крепко задраенные дверки и верхние аварийные люки, несмотря на жар от ревущего под тонким кожухом двигателя, лютый мороз дает о себе знать дыханием, исходящим от бортов вездехода там, где они не закрыты войлоком.
Болдов тоже увидел уходящий на юг самолет и подумал о том, что через пару месяцев – отпуск за три года, долгожданный отпуск. В Москву, а затем в Одессу, к теплому морю. Обязательно с тещей, чтобы потешилась внуками, а самому с женой – в кипящую толпу, в безделие, в отдых. Отогреться, оттаять, отойти от ледянящих душу просторов.
Черта с два отойдешь! Среди ночи, ароматной звездной ночи, наполненной треском цикад, плеском теплых морских воли и невнятным гулом механизмов в порту, умчится сон, глаза упрямо станут вглядываться в причудливые химеры теней: какой там сон, если в далеком Заполярье, к ритму которого за три года привыкли тело и разум, в это время день, и по спать тебе надо, а работать. Твои ребята едут по зеленой мокрой тундре, кругом дробится в лужицах солнце, кулички свистят, прыгают по кочкам, и сколько видит глаз – травы и цветы между ручьями, озерами и речками. И ЛЭП блестит проводами и изоляторами. И работа предстоит все та же, нескончаемая работа по выправке опор, перетяжке проводов, замене изоляторов, подгнившей древесины, бандажей – обычный ремонт на линиях. А устранение «очагов аварий»!
В прошлом году смыло опору, стоящую на островке посредине Дедювеема. Июльский снегопад вызвал бурный паводок, со всех сопок враз вода хлынула ручьями, и река взбесилась, размывая берега. Снесло островок, и опора, надежная «пэшка», верой и правдой служившая не один год, рухнула, волоча за собой провода двух пролетов, замыкая их между собой и скручивая. Огненные дуги коротких замыканий осветили ярчайшими вспышками бурные пенные потоки нового русла Дедювеема, и все погасло. Линия отключилась в Знаменитове и в Пионерском, попытки автоматики и оперативного персонала подать напряжение были безуспешными, на всех приисках от Ветреного до Знаменитова умолкли механизмы. Знаменитовская атомка оказалась ненагруженной, отключившись от поврежденной ЛЭП, а теплоэлектроцентраль на Ветреном захлебнулась от непосильной нагрузки. Спасая станцию, автоматика отключила все прииски и полигоны в самый пик промывки.
Когда к бушующему Дедювеему ринулась на вертолете аварийная комиссия, взорам специалистов предстали три провода ЛЭП, уходящие с обоих берегов натянутыми струнами в бурлящий омут. Почти полкилометра проводов нужно было как-то натянуть между опорами, стоящими по берегам бушующего в паводка Дедювеема. Но сначала каким-то образом отсоединить провода от изуродованной упавшей опоры, которая продолжала дергаться и биться о каменистое дно. Резать провода было нельзя: все промежуточные опоры попадают как дети при перетягивании каната, заваливаясь до ближайших «четырехногих», анкерных опор, способных выдержать любой удар. Всякие высказывались мнения, и наконец сообща комиссия решила доставлять из Знаменитова новые провода, навешивать их с помощью вертолета на ЛЭП поверх уже висящих, закреплять, а затем уже резать старые. Два дня на что требовалось, по предварительной прикидке комиссии. Два дня простоя горняцких полигонов, а дни в Заполярье летом – по двадцать четыре часа.
Вот тогда и сказал Болдов:
– Если бы мне не стали мешать, думаю, часиков за пять управились бы.
Члены комиссии развеселились, кто-то припомнил анекдот о быстром зайце, кто-то похлопал по плечу Болдова: «Люблю шутников».
Всерьез слова начальника участка не принял никто, торопились возвратиться в Знаменитово до конца рабочего дня. Оставшимся следовало ожидать помощи материалами и авиатехникой.
Главный инженер Полярнинских электрических сетей Гарий Степанович Забаров дождался, когда вертолет с начальством поднялся в нахмуренное, обвисшее тучами небо, и повернулся к Болдову:
– Ты что, имеешь какой-то бандитский план?
– Почему бандитский? – сказал Болдов, ухмыляясь.
– Говори, пират! – потребовал Забаров, зажигаясь надеждой и верой, забывая о промокших ногах и спине и о том, что пневмония ему гарантирована, коли уж он не улетел отсюда сегодня.
И когда Болдов выложил свой план, до примитивного простой, Забаров сказал:
– Обещаю, тебе никто не успеет помешать. Действуй.
– Жаль, что бульдозерист чужой, может не понять меня, – сказал Болдов, глядя на довольно новый бульдозер, направленный высоким начальством к месту аварии из Маралихи.
Забаров опять собрал весь лэповский народ и бульдозериста-чужака, всем была поставлена задача. И, хотя занудный дождь, затянувший окрестности серой пеленой, не прекращался, а талая вода жгла руки до костей и промокли обувь и одежда, у людей появилась вера в успех. Бульдозерист оказался виртуозом, понимал Болдова с полуслова, работал спокойно и уверенно.
Через шесть часов после того, как Болдов со своими мужичками начал реализацию пиратского плана, провода удлиненного, двойного пролета повисли над рекой. По утолщениям соединений можно было представить, где стояла смытая опора. А провода висели над шумливой рекой, готовые работать, пропускать электрический ток, соединяя параллельными пятисоткилометровыми нитями две электростанции Заполярья – юную атомку в Знаменитове и хилую немощную старушку – ТЭЦ в Ветреном.
Долго вспоминалась Болдову та авария, даже снилось, как он въезжает в бушующую речку и перепиливает трепещущий от напряжения многожильный провод, поглядывая на согнувшиеся «пэшки» на берегах, и во сне всякий раз, как только провод лопался на последних жилках, начинали валиться опоры и вся ЛЭП падала в туманную пелену, в дождь, в сумрак. Он просыпался от ужаса и долго не засыпал потом, вспоминая Дедювеем и ту точку, в которую сходились провода ЛЭП. Это было так необычно – видеть сходящимися провода высоковольтной линии. Даже не касание, а сближение их вызывало огненное возмущение, взрыв. По каждому из проводов струилась энергия, которая не выносила близости той, что заключалась в двух других проводах, хотя рождены эти потоки в недрах одного источника, являлись родными сестрами. Сестры не терпели встреч. Провода должны были отстоять друг от друга и от земли на три-четыре метра. Они так и висели на изоляторах, не сходясь нигде, кроме как в обмотках трансформаторов подстанций. В трансформаторах энергия преобразовывалась в уровни, пригодные для того, чтобы вращать двигатели, греть и освещать помещения, везти, поднимать и опускать тяжести, а в коротких замыканиях она вся обращалась в молнию, в огонь, если не успевали отключить поврежденную ЛЭП, провода отгорали, испаряясь в точке касания, и разбрасывались взрывом.
Как же тут будешь спокойно наслаждаться безделием на одесском пляже, если кто-то из твоих товарищей, быть может, глядит беспомощно на изуродованную опору, обгоревшую, изломанную или утопленную, – и некому по-пиратски отчаянно взять на себя ответственность? Из десяти хороших специалистов решение принимает, как правило, один, остальные могут лишь предлагать варианты.
«А может, ты преувеличиваешь, дядя Витя?» – прикуривая беломорину, Болдов мельком подумал, что за ним, втиснутый в кресло, сидит некурящий Жора Сукманюк, инженер ПТО, большой любитель споров. Хорошо, что двигатель оглушенно ревет и разговаривать невозможно. Не то Сукманюк сказал бы что-то вроде: «Ну зачем вы заставляете меня вдыхать ваш дым? Я же не причиняю вам неудобств».
Может, это форменный художественный свист, твои переживания, Виктор Яковлевич? И прекрасно обойдутся без тебя здесь, в самых сложных ситуациях. Сам придумываешь легенды о своей незаменимости. Чтобы как-то оправдаться перед ареной, перед знакомыми, перед самим собой. Зачем рвешься на этот Север, почему не умеешь отдыхать, почему так упорно возвращаешься в разговорах и в мыслях к работе? В конце концов четыре месяца ты летаешь и ездишь по материку, а в это время кто-то из твоих помощников заменяет тебя, организует работу, решает все вопросы, – напрасно, что ли, старался ты убедить их, что трудных задач не надо бояться? И не возвратись ты к сроку, вздумай остаться или попади в ситуацию, исключающую твое возвращение на Север, – не лопнет небо над Заполярьем, не лягут на землю опоры твоих ЛЭП, не остановится ни на секунду работа многих людей, обеспечивающих электроэнергией поселки и зимовки заполярного края.
Да и не так уж безгрешен ты в своих решениях. Ошибаешься, хотя и реже и не так грубо. Вот и Сукманюка послали с тобой, чтобы появилось мнение, отличное от твоего, чтобы, сопоставив твое и его суждения о состоянии ЛЭП, принимать решение о реконструкции участка, оказавшегося в прошлом году в зоне тундрового пожара. Ты считаешь одно, а Сукманюк обязательно выскажет что-то еще. Такой уж он есть, дух противоречия у него в крови. Спорщик. Курить перестал из принципа: кто-то при нем стал доказывать, что закоренелым курякам бросить невозможно. Сукманюк курил отчаянно, а тут заспорил и отруби… И уже с полгода терпит.
Белые нити инея свисали с дверки вездехода рядом с Сукманюком, и хотя дверка изнутри была прикрыта войлоком, который Лобачев выменял на что-то дефицитное, мороз пробирался сквозь металл и сквозь войлок, и правый бок у Сукманюка под овчинным полушубком мерз, в то время как левый, прижатый к горячему чехлу двигателя, поджаривался.
Сукманюк неуклюже оглянулся, выхватывая взглядом в полутьме салопа фигуры четырех электромонтеров в полушубках, унтах, валенках – дремлющих на груде ватных матрацев, рядом с рюкзаками и ящиками. Вдоль бортов вездехода висели, закрепленные специальными хомутами, изолирующие штанги с медными жгутами и бульдожьими мордами струбцин.
Напротив Сукманюка, через двигатель, за спиной у водителя, безвольно мотал головой в лохматой собачьей шапке дремлющий Леха Шабалин, связист, без которого Болдов отказался выезжать в тундру.
– Хватит экспериментов! – сказал Болдов, доказывая главному инженеру, как будет нужен связист. – Мы много раз пытаемся выходить на диспетчера по линии, и ничего у нас не получается. Как только линию заземлим – связи нет. Пусть едет с нами специалист и докажет, что связь обеспечить можно.
Шабалин мог со спокойной совестью дремать сейчас: он доказал Болдову свой высокий класс и свою настойчивость, хотя заплатил за это простудой. Пока электромонтеры устраняли неисправность на линии, Шабалин добросовестно мучился с аппаратурой, неустанно вызывал диспетчера и ближайшие подстанции, но с момента, когда линию заземлили, действительно никакой сигнал не прорывался ни в сторону Знаменитова, ни на Пионерский. «Глухо, как в танке», – виновато говорил связист Болдову.
Глупейшая ситуация: бригаде по диспетчерскому телефону давался допуск к работам на Шестнадцатом углу за восемь часов до начала ремонта, поскольку с моста работы выйти на связь не получалось. Также и включить линию можно было в лучшем случае через восемь часов после окончания собственно ремонтных работ, поскольку бригада должна была еще добраться до устройства надежной связи. Почти сутки линия простаивала, даже если самой работы по ее ремонту было на полчаса.
Но Леха все же доказал, что его взяли не напрасно, что ел он лэповскую кашу и пил чефир недаром. За полчаса до того, как вездеход должен был тронуться в путь, когда уже были сняты с линии и упакованы заземления и ребята-верхолазы рассаживались в салоне, а Болдов собирался сдернуть проводок аппаратуры связи с линии, Шабалина услышала дежурная подстанции в Маралихе.
– Аентина Гавьийовна, это Сабаин! Мы законцили аботы, нам нузна связь! – еле шевелил губами Леха, нажимая на кнопку, вмонтированную в телефонную трубку распухшими пальцами.
– ла… ла… ла… – ответила Маралиха.
– Считайте, Аентина Авьийовна, считайте до десяти и обратно! – прокричал Шабалин, не в состоянии выговорить все буквы… и стал подкручивать рукоятки регуляторов.
В рации засвистело тоненьким мышиным писком, загудело басом, и вдруг внятный женский голос на фоне шорохов произнес:
– …четыре, три, два, один.
– Уск!! – заорал Шабалин, высовываясь в раскрытую дверку вездехода и пряча закостеневшие руки в карман. – Икто Якоич, есть связь! Идите сюда.
– Леха – король связи! – сказал из глубины салона Максим Орлов. – Только ты нас всех заморозил, король.
Болдов подошел к вездеходу, поднялся на гусеницу, взял протянутую трубку и недоверчиво спросил:
– Кто меня слышит, ответьте, прием.
– Дежурный электромонтер подстанции «Грозный» Белявская, слушаю вас.
– Здравствуйте, Валентина Гавриловна, – изумленно сказал Болдов, забывая назвать себя.
– Здравствуйте, Виктор Яковлевич, – узнала его дежурная. – Где вы?
– Мы с восемьсот восемьдесят третьей опоры. Бригада работу по наряду тридцать пять закончила, люди сидят в вездеходе, заземления сняты, наряд закрыт. Линию можно включать под напряжение.
В трубке трещали разряды, шуршали неведомые твари. Болдов, потерпев немного, забеспокоился, услышит ли он еще Маралиху, и тут раздался голос Белявской:
– Вас поняли, Виктор Яковлевич. Отсоединяйтесь и считайте линию под напряжением, будут включаться. Вас благодарят за связь.
Болдов дернул проводок, соединяющий вездеход с фазой линии, намотал его на руку и протянул Шабалину. Тот попытался улыбнуться, но его синее лицо было неподвижным, одни глаза шевелились.
Болдов бросил моток провода в салоп и скомандовал связисту:
– Вылезай! Живо, живо!
Шабалин настолько замерз в неподвижности у полуоткрытой дверки, что выбрался из стального холодильника лишь с помощью Болдова. Хотел что-то сказать начальнику участка, по губы не слушались его.
– Федор Иванович! – Болдов наклонился в черноту вездехода. – Ты не замерз? Запускай двигатель, сейчас поедем. И дай мне лекарство, Леха ослаб совсем.
Лобачев покопался в ящике, укутанном одеялом, вынул бутылку и алюминиевую помятую кружку, протянул начальнику. Болдов захлопнул тяжелую дверку, снял рукавицу и стал открывать бутылку.
Вездеход дрогнул, выстрелил клубом черного дыма из короткой трубы рядом с захлопнутой дверкой и огласил заснеженные тихие окрестности могучим ревом.
Болдов плеснул в кружку незамерзающую жидкость и протянул связисту:
– Глотай.
Шабалин покрутил головой и попытался отказаться:
– Я …е …у …ю, – что должно было означать «Я не умею».
– Глотай, как воду, не держи, остынет. Глотай и резко выдохни, вот так: Х-ху! Понял? Давай.
Шабалин взял непослушными руками кружку, поглядел на жидкость, начинающую мутнеть на этом морозе, и неловко прикоснулся губами к металлу. Шабалину показалось, что он глотнул кусок льда. Слабо выдохнув, он протянул Болдову кружку. На кружке алело пятнышко крови там, где прикасались губы связиста, но он не чувствовал боли, как и не ощутил вкуса жидкости.
Шагай теперь вокруг вездехода! – велел Болдов. – Шагай, пока по почувствуешь огонь в нутре.
Шабалин послушно затопал вокруг вездехода, плюющегося солярной копотью.
Болдов с сожалением поглядел на бутылку, сунул ее за пазуху, а когда связист зашел за вездеход, быстро поднял кружку над запрокинутым ртом и допил остаток спирта. Он тоже замерз, пока собирали закоротки и пока шли переговоры с Маралихой. Холод вошел ему в легкие, и казалось, ледяные иглы покалывают изнутри. Мороз за пятьдесят. По нормам в такие дни работать нельзя. По кому нужен этот запрет здесь, в тундре, в сотне километров от ближайшего жилья? А что здесь делать, если не работать? Ожидать, пока потеплеет и пока заодно сгорит опора, на которой фаза подсекает траверсу? Жаль вот только, что спирт может согреть раз-другой, а на третий опьянеешь, и тебе уже черт не брат, пьяному.
Шабалин шагал совсем бодро, и Болдов, ощущая слабое тепло в желудке, крикнул:
– Леха, довольно! Поехали.
Он спрыгнул на дорожку, протоптанную в снегу, помог связисту взобраться на гусеницу.
Дверка раскрылась, дохнуло теплом и соляркой. Федор Иванович вылез из своего кресла, наклоняя его спинку вперед, и Шабалин забрался в машину.
Болдов поглядел на лихорадочные пятна на щеках связиста, на усталое лицо водителя, отдал последнему кружку и бутылку со спиртом, спросил:
– Поехали, Федор Иванович?
– Пошлепали, – ответил Лобачев.
Слабый ветерок потянул над тундрой, над буграми, едва обозначенными сквозь туман, опалил своим дыханием лица людей, и без того обожженные морозом за три дня тундровой жизни. Тусклое солнце висело у горизонта, увязнув в тумане.
Болдов вернулся к правой стороне вездехода, к плюющейся трубе эжектора, взялся за скобу и поднялся на гусеницу.
Прежде чем сесть в переднее кресло и заслонить Сукманюку весь обзор, начальник участка наклонился в полутемный салон и через плечо Жоры поглядел на своих электромонтеров.
Немытые, обветренные лица лэповцев гляделись темными пятнами в меховых ореолах шапок и воротников. Четыре пятна, четыре лица. Четыре верхолаза, выполнявшие любые работы на опорах ЛЭП зимой и летом, в холод и ветер, в дождь и изнурительную полярную жару.
Сам Болдов до своего приезда в Заполярье считал, что край этот – сплошная зима, круглый год холода, лед, снег, белые медведи. За восемнадцать северных лет белого медведя на свободе Болдов так ни разу и не увидел, а погоду испытал всякую, не только студеную. Конечно, больше всего мерз, потому что морозы начинаются по Заполярью в августе, а тает снег по-настоящему в конце мая. Среди лета, в разгар полярного дня, если потянет ветер от Ледовитого океана, тоже не жарко, а порой и снег идет. В конце июля обязательно день-два с неба летит густой белый пух, укрывая сопки и равнины нежным летним снегом. Затем проглядывает теплое солнце, и красавицы снежинки враз превращаются в капли воды, собираются в гигантскую водяную лавину, устремляющуюся ручьями в реки, которые мигом вздуваются и разливаются похлеще, чем в весеннее полноводье. Через эти реки не пройти, а порой ид; и не переплыть, только перелететь.
В Заполярье не бывает весны и осени в классическом их понимании. В мае еще снега, хотя и припекает солнце, а стоит ему спрятаться за тучку или уйти за горизонт, мороз жмет под двадцать, и одеваться надобно получше, потому что работа на опоре, на высоте десять-двенадцать метров над землей – это почти всегда ветер, и если ты доверишься календарю, то радикулит и пневмония тебе гарантированы.
После дружного, за несколько дней, таяния снегов наступает сразу лето, комариный бум. На почве появятся проталины, проглянут нагретые солнцем кочки, подсохнут на южных склонах сопок прошлогодние травы, перезимовав под снежным покрывалом, выбросят стрелки молодых изумрудных побегов, – комары тут как тут. Тощие, голодные, медлительные, но какие-то огромные, не с жалами, а прямо-таки шприцами бросаются они на все живое и теплое. Место укуса зудит неделями, а если расчесать – вспухает. Люди, искусанные комарами, часто заболевают дерматозами. Но майский комар – одиночка, от него можно еще отбиться.
А когда истает снег и разольется по тундре ядовитое море зелени, влажной, щедрой, расцветающей прямо на глазах, под незаходящим солнцем полярного дня, когда настоящее арктическое лето вступает в свои права, начинается кошмар. Воздух превращается в месиво из насекомых, они становятся наваждением, проклятием, издевательством над человеком.
Спасаться от комарья приходилось с помощью химии. Комары не садятся на одежду и тело, пахнущие репеллентами, но систематическое пользование диметилфталатом обжигает кожу.
Не выносил никаких сильнодействующих химических отпугивателей и Жора Сукманюк. Но ему не часто приходилось летом выезжать в тундру, можно было перемучиться в одежде да накомарнике, отсидеться в салоне вертолета или вездехода.
Хуже было верхолазу-линейщику, тощему, жилистому и высокому Валерке Царапину, известному среди чукотских тундровиков своей собакой по кличке Охламон. Валерка брал Охламона с собою в тундру даже зимой, ибо жена категорически отказывалась возиться с собакой, да и концерты Охламон устраивал без хозяина отменные – сутками скулил, не признавал ничьей власти. Был Охламон из выродившихся кавказских овчарок – небольшой коротконогий зверь, лохматый хвост колечком, на морде – сплошные космы, как у карикатурных битлов, глаз не видать. Предан Охламон хозяину безгранично. Он прыгал за Валеркой в чрево вездехода, в ревущий и трясущийся вертолет, в кабину грузовика, шел без устали десятки километров по тундре. Царапин не нянькался с псом, бывал с ним по-мужски груб, но в еде не обделял, мог сам остаться голодным, но Охламону отдавал последние крохи «энзешной» тушенки, последний кусочек хлеба. И в обиду пса никогда не давал.
В мокрую дождливую погоду, преобладающую в полярный день, Валерка взбирался на опору, висел там, закрепляясь на траверсе, менял изоляторы или натягивал провод, в накомарнике, в брезентовом костюме, в кирзовых сапогах, а Охламон внизу, под опорой, задрав морду, глазел на быстрые движения хозяина и ждал его сошествия на землю.
Иногда над Заполярьем распахивалось безоблачное, по-южному синее небо, утихал ледяной ток воздуха с океана, и наступала невероятная жара – влажная, душная, безжалостная. Горячее июльское солнце без устали замыкало за двадцать четыре часа полный круг над тундрой, а верхолазы, одетые в брезентовые одежды, задыхались от ядовитой пыли, вылетающей из кочек, иссыхающих буквально за полдня, взрывающихся от прикосновения пылью и кровососами, спрятавшимися под каждым листиком от нещадного солнца.
Вертолет не может садиться рядом с ЛЭП, до нее нужно добираться по тундре, поднимаясь по склонам сопок, тащить на себе снаряжение – когти, закоротки, штанги, блочки и канаты, летом – по кочкам, задыхаясь в комарином плену, а зимой – проваливаясь в снег, вдыхая студеный туман, отворачивая лицо от обжигающего ветра.
В любое время года, в самую паршивую погоду, когда никто носа из помещений не высунет, лэповцы выезжали на трассы на переоборудованном грузовике, в вездеходе, тракторе, вылетали вертолетом за десятки и сотни километров от дома туда, где что-то стряслось с тремя параллельными проводами ЛЭП, где пересекались они друг с другом или с землей, где произошел захлест, обрыв, провис. Если провод касался опоры, происходило непоправимое, древесина начинала тлеть, загоралась, и приехавшие лэповцы находили лишь куцые огарки стоек. Хорошо, если уцелел хоть один из трех проводов, удерживал линию в натяжении, не давал ей развалиться.
Максим Орлов, тридцатишестилетний красавец, здоровяк, жизнерадостный и неунывающий в любой обстановке, был единственным из четверки верхолазов, кто всерьез подумывал о переходе на другую работу. Не деньги его прельщали, хотя, перейди он на прииск, заработок вырос бы намного. Максим стыдился и сторонился людей, переживая семейную трагедию. Весь поселок, считай, знал о ней.
– Макс, – завел разговор Болдов, сидя как-то после работы в бане рядом с Орловым, – ты мужик не рядовой. Мы тут все тебе в подметки не годимся. Ты же феномен, чудо природы. Представляю, сколько баб сохнет по тебе. Разведись ты со своей дурой, не мучайся. Забери дочку, отсуди, отдадут тебе, не сомневайся, мы поможем. Разведись, пусть она пьет и гуляет в одиночку. А ты найдешь себе порядочную женщину.
– Нет, Виктор Яковлевич, – ответил Орлов тоскливо, – не нужен мне никто другой.
– Так пьет же она, как стерва. И безразлично ей, кто у нее в постели – ты или фуфло какое-нибудь.
– Мне не безразлично, Виктор Яковлевич, – мрачно сказал Орлов, отворачиваясь.
И, хоть разговор этот был без свидетелей, Орлов замкнулся в себе, на советы все горазды, никто не поймет главного, нет в мире женщины лучше и милей его жены.
Он уводил из дому дочь третьеклассницу, оставлял у друзей, у соседей, чтобы не видела пьяную мать, а сам возвращался домой, вышвыривал невменяемых мужиков и кошмарных баб, оставался с глазу на глаз с женой и, чтобы не пила она больше, выливал оставшуюся водку. Выливал-выливал, да и сам запил и превращался в отупелое, безвольное существо, слабо соображающее и еще слабее управляющее собою. Не сразу, могучий его организм сопротивлялся отраве. Но отрезвление приносило душевную боль. И чем глубже уходила жена в запой, тем чаще стал запивать и Максим.








