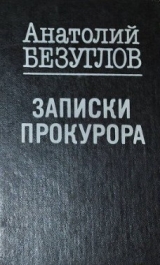
Текст книги "Записки прокурора"
Автор книги: Анатолий Безуглов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
– Эту я даже не давал на экспертизу…
– Почему?
– Как вам сказать… Чуть, понимаете ли, не оконфузился. Уже написал постановление. Потом думаю, надо ещё раз выяснить у старых фотографов… Оказывается, такие снимки до войны были чуть ли не у каждой девчонки в Зорянске. Какой-то иностранный киноартист тридцатых годов. Вот и настряпали в том самом фотоателье No 4 их несколько тысяч. Бизнес… Раскупали, как сейчас Магомаева или Соломина…
Я рассмеялся:
– Выходит, девушки во все времена одинаковы…
– Наверное. – Константин Сергеевич на эту тему распространяться не стал. – В общем, подпольный жилец Митенковой не является ни её братом, ни её отцом. Это доказано. Кто же он?
– Он может быть кем угодно: дезертиром, рецидивистом, даже злостным неплательщиком алиментов… А у вас должны быть факты и улики только для одного. Понимаете, одного и исключающего все другие.
– Понимаю, – кивнул Жаров. – Вот для этого я сначала и хочу исчерпать версию, что Домовой – автор нот. – Следователь улыбнулся. – Будет и мне спокойнее, и всем…
– Спокойнее, беспокойнее… Истина безучастна к настроению. Она или есть, или её нет… Ну ладно, у вас есть предположения?
– Есть. Я звонил даже к Межерицкому, консультировался… Что, если Домовому показать эти произведения? Может быть, посадить за пианино… Если он автор, если он их создал, вдруг вспомнит и прояснится у него здесь? – Жаров очертил пальцем круг на своём лбу. – Давайте попробуем, а? Проведём эксперимент.
– Любопытно. Я ничего не имею против. Опять же только с согласия Бориса Матвеевича… Но пока Домовой не заговорил, вы должны заставить заговорить факты. Можно, например, узнать: как долго неизвестный прятался в доме Митенковой?
– Да, это возможно.
– Когда написаны ноты? По бумаге, к примеру…
– Это тоже. Трудно, но все-таки…
– И, конечно, основное: кто он?
– Все это так, Захар Петрович… Поговорите с Межерицким, прошу вас… Проведём эксперимент…
– Хорошо. Раз вы так настаиваете… – Я стал набирать номер больницы. – Но эксперимент экспериментом, а проверка должна идти своим чередом…
– Само собой, – с готовностью согласился Жаров.
В это время ответил главврач психоневрологического диспансера.
– Борис Матвеевич, я.
– Слышу, Петрович. Моё почтение.
– Тут у меня следователь Жаров…
– Звонил он мне.
– И как ты считаешь?
– Можно попробовать. Есть шанс убить медведя… Шанс маленький, не увидишь и под микроскопом, но все-таки…
Я посмотрел на Жарова. Он напряжённо глядел на меня, стараясь угадать ответ врача.
– А у вас пианино есть? – спросил я.
– У меня нет лишнего веника. Попробуй вышиби у хозяйственников хоть одну дополнительную утку…
– Придётся привезти…
– Утку?
– Нет, пианино, – рассмеялся я.
– Хорошо, что пайщик не моряк, – вздохнул Межерицкий.
– А что?
– Как бы я разместил в больнице море с пароходом?..
…На следующий день в палату к Домовому поставили наш семейный «Красный Октябрь». У нас он все равно стоял под чехлом. Жена удовлетворилась тем, что я сказал: «Надо».
Появление в палате инструмента – крышка его намеренно была открыта – на больного не подействовало. Он продолжал лежать на кровати, подолгу глядя то в потолок, то в окно.
Конечно, мы с Жаровым огорчились. Может быть, ноты, найденные у Митенковой, действительно не имеют к нему отношения?
Следователь провёл несколько экспертиз. Карандашом, найденным в сундуке при обыске, была записана одна из пьес. Карандаш – «кохинор», чехословацкого производства, из партии, завезённой в нашу страну в пятидесятом году. Резинка для стирания записей – тоже «кохинор». Удалось установить, что в наших магазинах такие карандаши и ластики продавались приблизительно в то же время.
Подоспел ответ по поводу нотной тетради. Она была изготовлена на Ленинградском бумажном комбинате… в сороковом году. Правда, тетрадь могла пролежать без дела многие годы, пока не попала в руки композитора…
…Прошло несколько дней с начала нашего эксперимента Неожиданно позвонила Асмик Вартановна:
– Захар Петрович, я хочу к вам зайти. По делу.
– Ради бога, пожалуйста.
Она вскоре появилась в моем кабинете со свёртком в руках. Это был альбом с фотографиями в сафьяновом переплёте.
Бурназова перелистала его. Виньетка. Какие хранятся, наверное, у каждого. Школьный или институтский выпуск. Сверху – каре руководителей Ленинградской консерватории в овальных рамочках, пониже – профессора, доценты, преподаватели. Дальше – молодые лица. Выпускники.
Под одной из фотографий надпись: «Бурназова А.В.»
– Молодость – как это уже само по себе очаровательно, – сказала старушка, но без печали. Она остановила свой сухой сильный пальчик на портрете в ряду педагогов. – Вот профессор Стогний Афанасий Прокофьевич. Вёл курс композиции. Ученик Римского-Корсакова, друг Глазунова. У меня сохранилось несколько его этюдов. Они чем-то напоминают музыку, с которой вы познакомили меня… Я все время думала. Перелистала все ноты. Просмотрела фотографии, письма. Не знаю, может быть, это заблуждение… И вас собью с толку…
– Да нет, спасибо большое, Асмик Вартановна. Нам любая ниточка может пригодиться.
Я вгляделся в фотографию профессора. Бородка, усы, стоячий воротничок, галстук бабочкой. Пышные волосы.
– Вы не знаете, он жив?
– Не думаю, – грустно ответила Асмик Вартановна. – Я была молоденькой студенткой, а он уже солидным мужчиной…
Да, вряд ли профессор Стогний жив. Впрочем, девяносто лет, как уверяют врачи, вполне реальный возраст для любого человека. Во всяком случае теоретически. А практически? Надо проверить.
Константин Сергеевич решил выехать в Ленинград. Он вёз с собой рукописи, найденные у Митенковой, и портрет Домового для опознания. Может быть, автор нот – действительно ученик профессора Стогния?
Больного сфотографировали в разных ракурсах. Одетый в костюм, он, по-моему, мог сойти за старого деятеля художественного фронта. Печальные, уставшие глаза… Межерицкий сказал: «Обыкновенные глаза психопата. Правда, Ламброзо считал, что все гении безумны…».
Жаров уехал. Отбыл из Зорянска и я. В область, на совещание. А когда вернулся, Константин Сергеевич уже возвратился из командировки. Доложил он мне буквально по пунктам.
Профессор Афанасий Прокофьевич Стогний умер во время блокады от истощения. Но супруга его, Капитолина Аркадьевна проживала в той же квартире, где потеряла мужа. Это была глубокая старуха, прикованная к постели. Фотография неизвестного ничего ей не говорила. Насчёт учеников её покойного мужа разговор был и вовсе короткий: за долгую преподавательскую деятельность в консерватории Стогний вывел в музыкальную жизнь десятки способных молодых людей. Вдова профессора всех их уже и не упомнит. Тем более Жаров не знал ни имени, ни фамилии того, кого искал.
По поводу произведений. По заключению музыковеда, доктора наук, они скорее всего написаны в двадцатые-тридцатые годы (было у нас предположение, что это несколько авторов) одним композитором. Жаров побывал, помимо консерватории, на радио, телевидении, в филармонии. Хотел попасть к самому Мравинскому, но тот уехал на гастроли за границу.
Никто представленные произведения никогда не слышал и не видел.
Фотография осталась неопознанной. Но Жаров не падал духом.
– Надо будет – в Москву, в Киев съезжу, в Минск. Хоть по всем консерваториям и филармониям страны. А раскопаю…
Время шло… Положение больного оставалось все таким же. Он до сих пор ничего не помнил и не говорил.
Через несколько дней после того, как в работу включился инспектор уголовного розыска Коршунов, я пригласил их вместе с Жаровым.
Юрий Александрович Коршунов говорил размеренно, не повышая голоса. И мало. На службе отличается невероятной скрупулёзностью и точностью. Зная эту черту Коршунова, его порекомендовали в помощь Жарову.
– Прежде всего, Захар Петрович, мы решили проверить, сколько лет неизвестный скрывался у Митенковой, – начал Жаров.
– Так. Ну и что удалось установить? – поинтересовался я.
– Первое. Восемнадцать лет он у неё был, не меньше… Помните, около развилки при въезде в Вербный посёлок есть табачная лавка? Продавец там работает восемнадцать лет, Митенкова покупала у него почти ежедневно, сколько он её помнит, одну-две пачки сигарет «Прима» и один раз в две недели
– двадцать пачек «Беломора». Если «Беломора» не было, то столько же папирос «Лайнер», они почти такие же. Сама Митенкова курила сигареты. Значит, «Беломор» – для Домового. Кстати, при обыске обнаружены три пачки нераспечатанных папирос «Беломор» и одна наполовину пустая.
– До этого продавца кто торговал в лавке? – спросил я Жарова.
Но ответил Коршунов:
– К сожалению, прежний продавец уехал из города и следы найти трудно.
– Жаль, конечно. Но восемнадцать лет – это точно. Спору нет, уже хорошо. А карандаши «кохинор» продавались у нас в культтоварах лет двадцать назад, кажется, так? – вспомнил я информацию Жарова.
– Так точно, товарищ прокурор, – негромко сказал инспектор уголовного розыска. – Эксперты утверждают, что запись всех нотных знаков сделана одной и той же рукой. В том числе и «кохинором». Значит, автор один. Но вот кто именно?
Следователь развёл руками, а затем, вспомнив что-то, обратился ко мне:
– Захар Петрович, Юрий Александрович тут подсчёт произвёл любопытный. Как вы считаете, может один человек, тем более немолодая уже женщина, съедать за два дня килограмм мяса?
– Это зависит от аппетита, – шутя ответил я. Вот уж никогда не считал, хотя частенько закупки делаю сам. А Жаров продолжал: – Понимаете, Митенкова в основном отоваривалась в гастрономе около завода. В свой обеденный перерыв или сразу после работы. Её там хорошо знают. В среднем она покупала килограмм мяса на два дня. По двести пятьдесят грамм на человека в день – немного. По полкило – многовато… Кроме того, Захар Петрович, соседи всегда удивлялись: зачем это одинокая Митенкова таскает домой столько продуктов. Если брала колбасу, к примеру, то сразу килограмм-полтора, не меньше… Ладно, колбасу, предположим, можно и про запас взять. Но вот какая штука: в столовой она никогда не брала рыбные блюда, а по четвергам – в рыбный день – даже не ходила в столовую, сидела на бутербродах. Но когда выбрасывали в магазине свежую рыбу, то могла выстоять в очереди целый час… Выходит, рыбку любил её подпольный жилец. – Жаров замолчал, довольный.
– Она и мороженую частенько покупала, – уточнил Коршунов.
– Да, по поводу рыбы, – опять заговорил следователь. – Через два дома от Митенковой живёт мужик. Так она, ещё когда он был мальчишкой, покупала у него и других пацанов рыбу, наловленную ими в нашей Зоре. Это сразу после войны…
– Значит, Константин Сергеевич, вы хотите сказать, что неизвестный начал скрываться в сундуке по крайней мере сразу после войны? – задал я вопрос следователю.
– Похоже, что так, – кивнул Жаров.
– Ну что же, пожалуй, доводы убедительные.
– И музыку сочинил он, – сказал Жаров. – Все записи идентичны. Карандашом мог пользоваться только Домовой. Не прятала же Митенкова ещё кого-нибудь.
– Листовки с немецкими приказами… – сказал Коршунов, и мы со следователем повернулись к нему. – Не зря их принесла в дом Митенкова. В одном говорится о явке в жилуправление мужчин, в другом – о наказании за сокрытие партизан, евреев, партийцев, советских работников и членов их семей…
– Так что не исключено: неизвестный находился в подполье ещё раньше, до прихода немцев, – подхватил Жаров.
– Очень может быть, – согласился я. – Но если Домовой спрятался у Митенковой ещё до прихода в Зорянск немецких войск, то почему он не вышел из своего подполья при немцах? А если он спрятался от фашистов, то почему не объявился, когда наши войска освободили Зорянск? Кстати, сколько времени продолжалась оккупация Зорянска?
– Немцы вошли в город в конце августа сорок первого, а наши освободили его окончательно в январе сорок четвёртого, – ответил Жаров.
– Почему окончательно?
– В сорок третьем город два раза переходил из рук в руки…
– Понятно. Давайте теперь порассуждаем. Допустим, неизвестный прячется с начала войны. И немецкие листовки Митенкова принесла домой не случайно, а чтобы, так сказать, информировать жильца. Если он прятался от немцев как окруженец (они называли их бродягами), или как партизан-бандит (по их выражению), или партиец, советский работник, или член семьи таковых, или же еврей, то ему сам бог велел выйти на свет божий с приходом советских войск. Так? Более того. Советская власть – самая дорогая для него. Но он продолжает прятаться. Почему?
– Мало ли, – сказал Жаров. – Утерял документы, боялся, что сочтут за дезертира. А может, и впрямь дезертир.
– Что же тогда, по-вашему, означают предсмертные слова Митенковой, что виновата она? В чем виновата? Что прятала у себя человека столько лет? Во-первых, это не предмет, а взрослый самостоятельный мужчина. Без его согласия, даже желания удержать взаперти невозможно… Но все-таки за её признанием скрывается какой-то смысл. Во-вторых, выходит, какая-то вина лежит и на ней, покойнице.
– У страха, как говорится, глаза велики, – вставил Коршунов. – Известны случаи, когда дезертиры проживали в подвалах десятилетия. По трусости.
– Верно. Но тогда при чем здесь Митенкова? В чем её вина?
Эти вопросы ставили в тупик моих собеседников. Они молчали. Я решил перейти к анализу других доказательств.
– Что вы скажете о найденных письмах? – обратился я к Жарову.
– Оба письма, по данным экспертизы, выполнены на мелованной бумаге, изготовленной на Ленинградском бумажном комбинате. По технологии, которая существовала на нем до сорок первого года.
– Опять Ленинград, – заметил я. – И опять бог знает сколько времени назад… Значит, бумага совершенно одинаковая?
– Да, представленные образцы совершенно идентичны. Как будто из одной пачки. У меня возникает даже мысль: может быть, Геннадий Икс и Павел Игрек знали друг друга? Во всяком случае, жили в одном городе. И оба были влюблены в Митенкову.
– Одновременно? – спросил я.
– По-моему, да, – ответил Жаров. – Бумага, на которой исполнены письма, время написания. Не позже сорок первого. О войне – ни слова. Только какая-то бабка предсказывала…
– А кому Митенкова, по-вашему, отдавала предпочтение?
– По-моему, Геннадию, – заявил Жаров. – И вот почему. Помните, Геннадий отвечает Митенковой на письмо, где она, вероятно, высказала сомнение: любит он её или нет. Больной у неё этот вопрос. А уж если сама девушка откровенно спрашивает и ждёт уверений… Ясно, товарищ прокурор.
Юрий Александрович хмыкнул.
– Вы не разделяете точку зрения Константина Сергеевича? – поинтересовался я.
– Да вы посмотрите, как уверенно говорит о любви этот самый Павел. О снах, о землянике, о совместном счастье… Без повода так не открываются. Повод, выходит, Митенкова дала ему основательный. И подпись какая: «крепко целую, твой Павел». Так, кажется? – Следователь хотел что-то возразить, но Коршунов не дал. – Опять же, может быть, девушка, то бишь Митенкова, в своём письме просто проверяла Геннадия… И вообще девки любят иметь ухажёра про запас…
Жаров готов был броситься в спор, но я опередил его вопросом:
– А если допустить, что письма написаны с разницей во времени?
Следователь помолчал, потом тряхнул головой:
– Значит соперничества не было. Одного разлюбила, другого полюбила…
– Кого разлюбила, кого полюбила? – продолжал я.
– Об этом можно только гадать, – сказал Жаров. И признался: – Да, плаваем мы пока что. Без фактов… Опросили бог знает сколько зорянских жителей – соседей, сверстников и сослуживцев Митенковой – и никакого просвета. Давно было, а главное – Митенкова всячески сторонилась людей…
Поговорить с Межерицким я поехал один, без Жарова. Следователь выехал в командировку.
Опять знакомый парк при диспансере. В опавших листьях. Расчищены только асфальтированные дорожки, по которым разгуливали больные, одетые весьма живописно: из-под пальто, фуфаек, курток выглядывают длинные халаты.
Зима запаздывала. И неприбранная снегом земля, и серые домики, а главное, сознание, что это за лечебное заведение, производили тягостное впечатление.
Борис Матвеевич только вернулся с обхода. Был чем-то недоволен, раздражён. Таким я его видел очень редко. Он распек одну из санитарок, кому-то сделал выговор по телефону. И когда, наконец, завершил самые неотложные дела, сказал, оправдываясь:
– По горячим следам. Не скажешь сегодня, завтра забудется… Ты, конечно, по поводу вашего пайщика?
– Да, Борис, потолковать надо. – Наедине мы обходились с ним без отчества. – Скажу откровенно: у нас пока достижений мало…
– У нас не больше, – вздохнул врач. – Мне самому ещё не совсем все ясно. Понимаешь, двигательные рефлексы у него более или менее в норме. Он двигает ручками и ножками, как мы с тобой… Выходит, у него расстройство мышления. В принципе говорить он может. Но не говорит, потому что амнезия. Есть амнезия, когда выпадают из памяти события, предшествующие расстройству сознания. Есть такая, когда забывается то, что произошло после заболевания. А наш пайщик не помнит ни до, ни после. Плюс амнестическая афазий. Что это значит? Отвечу. Из-за потери памяти он не может назвать предметы, ощущения и вообще ничего. Если заболевание пайщика в результате органического поражения головного мозга – дело наше с тобой дрянь. Во всяком случае – надолго. Будем надеяться, что расстройство функционального порядка.
– Это можно лечить? – спросил я.
– Можно. Сейчас мы даём ему психотропные средства. Смешанного действия. Успокаивающие и возбуждающие одновременно… Что ты улыбаешься?
– Да так. Парадоксально – и успокаивающие, и возбуждающие.
– У нас ещё не то на вооружении. – Борис Матвеевич прошёлся пальцами по редким волосам вокруг плеши. – Воздействуем мы на пайщика и гипнозом. Не думай, что это как в цирке – человек висит в воздухе. Лечебный гипноз. Внушение… Так что со своей стороны мы пробуем все доступные методы.
– А недоступные?
– Таких не знаю. Может, подскажешь?
– Ну, какие-нибудь эксперименты…
– Один эксперимент уже стоит у него в палате, – усмехнулся психиатр.
– А если ему поиграть произведения, как предлагал Жаров?
– Об этом мы ещё потом поговорим. Сейчас только скажу: когда ты подарил нам такой прекрасный инструмент…
– Передал во временное пользование, – погрозил я шутливо пальцем.
– А я уже хотел оприходовать… Так вот, пайщик тогда не был готов к активному воздействию на психику… Понял?
– Да. Продолжай о его заболевании. Ты говорил, что это может быть не от заболевания мозга. Тогда от чего?
– Возможно, испуг, сильное душевное волнение, потрясение… Представь себе, что он испытал, когда его обнаружили! И потом он ведь все слышал – обыск, самоубийство… Об этом ведь говорилось вслух, не так ли?
– Конечно, – согласился я.
– Сколько лет он жил, ожидая и опасаясь разоблачения! Но такое стечение обстоятельств потрясло его очень сильно.
– Во всяком случае не меньше тридцати лет прятался.
– Вот видишь!
– А может, и больше.
– В войну, выходит, засел?
– Есть такое предположение…
Межерицкий некоторое время сидел молча, потом заговорил:
– Допустим, ты перенервничал. Какая обстановка возвращает тебе спокойствие?
– Дом. Рыбалка.
– То есть ты автоматически, без обдумывания, точно стремишься отдохнуть
– домой, а ещё лучше на рыбалку… Это уже твёрдо выработанный стереотип. Теперь пойдём дальше. Тут уже чистый Павлов. Первая и вторая сигнальные системы. Как ты знаешь, первая – это восприятие раздражителей посредством органов чувств. Вторая – через слово. Она дана только человеку. На основании учения о взаимодействии двух систем было выделено три человеческих типа: художественный, с преобладанием первой; мыслительный, с преобладанием второй, и средний, с гармонией двух… Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Учил ещё в институте…
– Домовой, как вы его называете, может скорее всего принадлежать к художественной группе. Как композитор. Чтобы вывести его из состояния застоя, сдвинуть с точки, на которой споткнулось его сознание, надо воздействовать на него через первую сигнальную систему… Что может возбудить в нем какие-то переживания, ассоциации, картины?
– По-моему, музыка…
– Да, по-моему, тоже. Здесь ещё и психология творчества. Я посмотрел несколько книжек по этому вопросу. Мы ведь давали ему возможность слушать музыку. Но он на чужие сочинения не реагирует. Понимаешь, это переживания других. Мы можем сопереживать вместе с композитором, создавшим то или иное произведение, но никогда не возникнет в нас то, что заставило создателя переложить свои чувства в звуки. Только у него одного появляется конкретная картина, предмет, человек, обстановка, которые родили данное сочинение…
– Я улавливаю. Ты подвёл к тому, с чего мы начали: надо проиграть Домовому найденные при обыске произведения?
– Да, по физическому состоянию он к этому теперь готов. – Борис Матвеевич потрогал волосы на затылке. – Но как это осуществить? Кого пригласить? Нужен хороший музыкант…
– Есть такой человек, – сказал я и назвал Асмик Вартановну.
– Хорошо, – согласился Межерицкий.
– Ещё один вопрос. А симуляция со стороны Домового не исключена?
– Исключена. Полностью. Проверяли. Можно обмануть другого человека, а свои рефлексы – никогда… В общем, так и быть, попробуем… Но предупреждаю: все может лопнуть…
– Я читал где-то, как один мальчик лишился речи от какого-то потрясения. Он очень любил танцевать и мечтал стать знаменитым танцором. Однажды родители, которые тщетно показывали его самым известным врачам, повели сына на концерт Махмуда Эсамбаева. И на этом концерте мальчик неожиданно заговорил. Так подействовало на него выступление артиста. Наверное, потому, что он очень страстно любил танцы…
– Вполне допускаю, – кивнул Межерицкий. – Испуг, увлечение – все это из одной области. Эмоциональная сфера. Кто это сказал, что страсти правят миром?
– Не помню.
– Я тоже. – Борис Матвеевич улыбнулся. – Плохо, если они выходят из-под контроля.
Я поднялся.
– Желаю тебе, Захар, удачи в переговорах с Асмик Вартановной…
…На следующий же день я после работы заглянул к Бурназовой домой. Она сварила кофе. Мы пили, говорили о том о сём, а я все тянул со своей просьбой. Знал почти наверняка, что Асмик Вартановна не откажет, и от этого становилось ещё больше неловко. В те годы иметь нагрузку, какая может замотать и молодого, – директор, педагог, концертмейстер, а тут ещё поездки в психоневрологический диспансер…
– Я хочу вас спросить, Захар Петрович, простите моё любопытство, что с теми произведениями, вернее, с их автором?
Я был рад, что она сама коснулась этого вопроса.
– Запутанная история… Придётся, наверное, ввести вас в курс дела…
Я вкратце рассказал о Домовом.
– Так это о нем ходят разные слухи? – спросила Асмик Вартановна. – Будто обнаружили иностранного агента, а он не признается?
– Наверное, о нем, – улыбнулся я, – Ох уж эти досужие языки…
– Ничего не может вспомнить? Как же так?
– Ничего, даже своего имени…
– Ещё кофе?
– Нет, спасибо… – Я обдумывал, как лучше приступить к разговору, ради которого пришёл.
– Наверное, это ужасно, когда теряется память. Память – это все. Я понимаю, когда забываешь далёкое, не нужное тебе. Например, я смутно вспоминаю отдельные периоды жизни после войны. А вот отдельные моменты из детства перед глазами, как будто это случилось вчера. А что было десять лет назад, убейте, не скажу. Есть же люди, которые запоминают, например, музыкальное произведение с первого раза. И навсегда.
– Не может быть? – удивился я.
– Это обычно очень талантливые музыканты. Например, Рахманинов. Но я слышала и о живущем в наши дни. Хоть он не был, говорят, талантливым музыкантом, но память имел гениальную. Был такой в нашей консерватории…
– Он учился с вами?
– Нет, значительно позже. Мне кажется, в конце тридцатых годов…
– Перед войной? – У меня загорелась искорка ещё одной надежды.
– Точно сказать не могу, – она задумалась. – Нет, – и печально улыбнулась. – И моя память последнее время сдаёт…
– Вы фамилию помните, Асмик Вартановна?
– Нет. Рада бы помочь, но – не в моих силах.
– Кстати, насчёт помощи. Уж не знаю, как и начать…
– Ради бога, пожалуйста.
Я решился, наконец, изложить свою просьбу. Асмик Вартановна даже обиделась на мою нерешительность. И охотно согласилась проиграть произведения, найденные у Митенковой, в палате у Домового.
Борис Матвеевич ход эксперимента фиксировал по дням. Мы потом детально изучили его записки вместе с Жаровым.
«11 ноября. 17 часов 30 минут. А.В.Б. (так Межерицкий сокращённо именовал Асмик Вартановну Бурназову) сыграла в палате больного три пьесы: „Баркаролу“, „Этюд“ и „Воспоминание“. Больной лежал на кровати. Происходящее его не занимало. 18 часов 10 минут. А.В.Б. закончила играть. Пульс больного 80, давление 120 на 80. Никакого беспокойства и любопытства б-ой не проявлял». «12 ноября. 17 часов 25 минут. А.В.Б. играла „Фантазию“, этюды, „Дивертисмент“. Больной лежал на кровати в своей привычной позе, на спине. Никакой реакции не наблюдалось. А.В.Б. закончила играть в 18 часов 15 минут. Пульс больного 76, давление 120 на 80. Состояние обычное: отсутствие эмоций».
«13 ноября. 17 часов 25 минут. А.В.Б. сыграла этюды, фантазию на тему „Казачка“, „Колыбельную“, вальс. Больной никакой реакции не проявлял. Лежал на постели. Пульс 89 (несколько учащённый), давление 120 на 80».
«14 ноября. 17 часов 30 минут. А.В.Б. сыграла сольминорную сонату, этюд для одной руки. Больной, лежавший на постели, сел. Заинтересовался происходящим. А.В.Б. исполнила „Песню“. Явная реакция. Больной слушал с вниманием. 18 часов 35 минут – конец сеанса. Пульс больного 90 (учащён), давление 140 на 80 (верхнее повышено). Заснул позже обычного».
«15 ноября. 17 часов 30 минут. Я попросил А.В.Б. повторить то, что она играла вчера. Во время „Песни“ больной встал с постели, подошёл к пианино. Внимательно смотрел ноты. Взволнован. Сеанс закончен в 18 часов 40 минут. Пульс больного 90 (учащён), давление 140 на 80 (верхнее повышено). Больной заснул только после дополнительной (0, 5) таблетки седуксена».
«16 ноября. В 10 часов больной подошёл к пианино. Попытался играть. Закрыл крышку. Сидел неподвижно на стуле. Неспокоен. Плохо ел в обед.
17 часов 20 минут. Приехала А.В.Б. При её появлении в палате больной, лежавший до этого на койке, сел. А.В.Б. сыграла сонату No 2, «Дивертисмент», снова «Песню». Во время исполнения «Песни» больной волновался. Встал, ходил по палате. А.В.Б. исполнила «Грёзы». Когда А.В.Б. кончила играть, больной сел за пианино. Пытался играть. Сбился. Пересел на койку, закрыл лицо руками. А.В.Б. ушла в 18 часов 40 минут. По её мнению, больной от отсутствия практики длительное время утратил навык в игре. После её ухода больной снова пытался сыграть что-то. Расстроился. Пульс 95 (учащён), давление 145 на 85 (повышенное). Уснул после дополнительного приёма седуксена (0,5)».
На этом эксперимент кончился. Семнадцатого ноября, за час до того, как Асмик Вартановна должна была ехать в психоневрологический диспансер (я присылал ей свою машину), старушка на работе вдруг почувствовала себя плохо. Она вызвала к себе в кабинет заведующего учебной частью и завхоза.
– Милые вы мои, – сказала директор музыкальной школы. – Никогда не думала о смерти, вот и забыла распорядиться. Всю мою библиотеку, книги, ноты и периодику возьмите в школу. И пианино тоже…
Это были последние слова Асмик Вартановны.
Мой шофёр Слава, посланный в школу, вернулся с печальным известием. Я не мог поверить, что Бурназовой больше нет. Казалось, что ей ещё предстоит жить и жить…
Жаров на похороны не успел, а когда вернулся из командировки, то был настолько потрясён, что в первый день у нас с ним разговора не получилось. И только на другой он доложил о проделанной в Ленинграде работе, где он пытался найти того самого студента, который, по словам Асмик Вартановны, запоминал музыкальное произведение с первого раза.
– Не знаю, он это или нет. Некто Яснев Аркадий Христофорович. В сорок первом году учился на четвёртом курсе. Не закончил из-за войны.
– Кто его назвал?
– Профессор Шехтман. Старенький уже. И дирижёр Леониди, Заслуженный деятель искусств. Они учились с ним. Яснев, говорят, пианист среднего дарования. А памятью действительно отличался необыкновенной.
– А вдруг это не тот, о котором говорила Бурназова?
– Все может быть…
Позвонил Межерицкий и попросил приехать. Настроение, в каком он пребывал, ничего хорошего не обещало.
Встретил он нас с Жаровым встревоженный.
– Ну вот что, товарищи дорогие, – сказал он после приветствия, – втянули вы меня в историю…
У меня заныло сердце:
– Жив?
– Жив. Но общее положение сильно ухудшилось. Резко подскочило давление: 200 на 140. Очень плохо со сном. Боюсь, как бы не стало ещё хуже. Склеротический тип. Не случилось бы самого неприятного – инсульта…
– Что, ты считаешь, на него повлияло?
– Не знаю. Было явное улучшение. Что-то в больном зашевелилось. Может быть, воспоминания, душевное волнение. А мы резко прервали нашу музыкотерапию…
– Почему же такое резкое ухудшение? – спросил я Межерицкого.
– Я думал над этим. Тут может быть два ответа. Но сначала общее замечание. Музыка, которую он слышал на протяжении почти недели, несомненно, произвела какое-то действие на его сознание. Исподволь, вызывая какие-то эмоции, подсознательные, дремавшие в нем чувства, переживания. Вы ведь детально ознакомились с моими записями… Смотрите: сначала он совсем не реагировал на музыку. А потом что-то зашевелилось в нем. И началось с довольно милой, душевной вещицы. Она называется «Песня»…
– Интересно, как вам удалось определить? – спросил Жаров.
– То, что больной волновался, – определить легко. Пульс участился, поднялось давление. В последний день Асмик Вартановна снова сыграла «Песню» и «Грёзы»… Налицо ремиссия. И дальше – стоп. Он ждал Бурназову один день, другой… Тут-то и подскочило давление. Выходит, что-то в его сознании произошло. Я одно не могу сказать определённо: обострение болезни от самих воспоминаний или оттого, что перестала приходить и играть Бурназова. Ведь у больного это своего рода пробуждение. Но пробуждение может быть приятным и ужасным… Я не знаю, какие воспоминания, а значит и эмоции, возникли у него в момент брезжущего сознания… Вы ничего не узнали о его судьбе? – вдруг неожиданно закончил Межерицкий.
– Нет, – покачал головой следователь.
– Очень жаль. Нынешнее состояние больного, несомненно, результат его прошлого.
– Если нам станет известна хоть малейшая деталь из его жизни, ты её узнаешь, – заверил я врача.
– А может случиться так, что после этих хором, – он обвёл руками вокруг, – пайщик попадёт в более охраняемые? И без диеты?
– Не знаем, – ответил я. – А вот насчёт диеты… Один вопрос.








