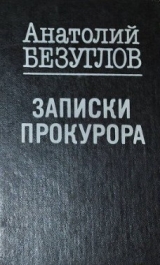
Текст книги "Записки прокурора"
Автор книги: Анатолий Безуглов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
«ЭХО»
В конце лета 1971 года группа народного контроля нашего Зорянского керамического завода вскрыла злоупотребления в отделе сбыта. Замешана оказалась и бухгалтерия. Все материалы были переданы в милицию для производства предварительного следствия.
Вёл его молодой лейтенант Константин Сергеевич Жаров.
Взялся он энергично. И уже через неделю установил, что в хищениях на заводе главными виновниками были должностные лица этого предприятия, в том числе – бухгалтер Митенкова Валерия Кирилловна.
Помню то утро, когда следователь зашёл ко мне – уже прокурору района – с постановлением на обыск в её квартире. Следователь намеревался заехать за Митенковой на завод и оттуда – в её собственный домик, вернее полдома на самой дальней окраине города, именуемой Вербным посёлком. Было серое дождливое утро…
Через час я услышал по телефону растерянный голос Жарова:
– Захар Петрович, вы не можете приехать на место происшествия?
– Что-нибудь серьёзное?
– Очень. Митенкова отравилась…
– Жива?
– Умерла.
– Врача вызвали?
– Едет… А ещё хотел сказать, что мы нашли человека…
– Сейчас буду, – ответил я, не став уточнять, кого они нашли.
Положив трубку, я с досадой подумал: не натворил ли молодой следователь что-нибудь по неопытности.
Через несколько минут мы уже мчались по направлению к дому Митенковой. А у меня все возрастало раздражение: зачем поручили это дело молодому следователю. Дать подследственной наложить на себя руки при обыске… Такого ЧП у нас прежде никогда не случалось. Как назло, «газик» с трудом полз по раскисшим улочкам окраины.
«Нашли человека»… Честно говоря, я сразу и не вник в эти слова Жарова и теперь размышлял, что бы они могли значить. Пожалел, что не расспросил подробнее. Так ошарашило самоубийство подследственной.
Возле её дома стояла машина. Несмотря на дождь, к забору льнули соседи.
Жаров встретил меня у калитки. Промокший, озабоченный и виноватый. С козырька его фуражки капала вода.
– Про какого человека вы говорили? – спросил я.
– Сейчас увидите. Понимаете, лежал в сундуке…
Два трупа в один день – многовато для нашего города…
– В сундуке, как мумия… Старик.
Мы поскорее забрались на крыльцо под навес.
– Словно привидение… Ну и перепугал же он нас. Покойника так можно не испугаться…
– Живой, что ли? – приостановился я.
– Живой, Захар Петрович. В этом все и дело. И никаких документов у него не нашли…
– Ничего не понимаю.
– Я сам, товарищ прокурор, ничего понять не могу. Молчит или плачет. Плачет или молчит…
– Хорошо. – Я еле подавил вздох: мало нам самоубийства, так ещё загадка какая-то…
Митенкова лежала на деревянной кровати. В комнате пахло камфарой и ещё чем-то неприятным, резким.
Тут же хлопотали два санитара в мокрых халатах.
– Сюда мы её уже потом перенесли, – пояснил следователь, указывая на покойницу. – Пытались откачать. А яд выпила она в чуланчике…
Я молча кивнул. Жаров был подавлен. Ещё бы, допустить такую оплошность…
В комнате горела лампочка. Но от её жидкого жёлтого света было ещё тягостней.
В глаза бросился большой деревянный сундук с открытой крышкой. Я заглянул вовнутрь. Постель. Помятая простыня. Пикейное одеяло, сбитое в уголке. По тыльной стенке сундука проделан ряд отверстий…
– Где этот самый?.. – спросил я у Жарова.
– В соседней комнате.
– Давайте с ним познакомимся.
– Давайте, – сказал следователь. – А труп можно увезти?
– Если протокол осмотра готов, пусть увозят…
Мы прошли в другую комнату. Она была поменьше.
– Здравствуйте, Захар Петрович, – приветствовала меня судмедэксперт Хлюстова. – По-моему, здесь нужен психиатр, – растерянно произнесла она. – Бьюсь уже полчаса, и ничего…
На стуле сидел сгорбленный дед. Лет семидесяти. Лысый череп с морщинистым лбом. И все лицо у старика было в морщинах и складках. Жёлтого, пергаментного цвета. Провалившийся беззубый рот. Что ещё мне запомнилось – мутные бесцветные глаза, слезящиеся и печальные.
На старике была ночная полотняная рубашка с завязочками вместо пуговиц и кальсоны.
– Скажите, как вас зовут? – видимо, в сотый раз спросила врач. – Ну, не бойтесь, вас никто не собирается обижать…
Лицо неизвестного было застывшим. Словно маска из воска. Только из уголка глаза выкатилась слеза и остановилась на середине щеки. Судмедэксперт, обернувшись ко мне, беспомощно развела руками. Мы вышли в комнату, где стоял сундук, оставив старика под присмотром милиционера. Санитары уже вынесли покойницу.
– Захар Петрович, – снова повторила Хлюстова, – тут нужен психиатр…
– Вызвали Межерицкого? – спросил я следователя.
– Так точно.
– А теперь расскажите по порядку.
– Ну, приехали мы с Митенковой. Позвали понятых. Смотрю, начинает нервничать. «Я, – говорит, – все сама покажу. Тут, в кладовке…» И направляется к двери. Я попросил Митенкову пропустить нас вперёд. Она пропустила. Подошли мы к кладовочке… Пройдёмте, Захар Петрович, – позвал Жаров.
Из сеней в чулан вела низкая дверца. Жаров щёлкнул выключателем. Небольшая глухая комнатка была заставлена банками с солениями, маринадами, огородным инвентарём и другой хозяйской утварью. На полочках стояли склянки, бутылочки, баночки, коробки.
– Видите, здесь двум людям никак не поместиться, – как бы оправдывался следователь. – Она говорит: «Сейчас». Я вот здесь стоял, где вы, почти рядом… Она вошла, стала шарить на полках… Кто бы мог подумать?
– Мог бы, – сказал я, не удержавшись.
Жаров вздохнул:
– Да, ошибка, товарищ прокурор. Моя ошибка… – Он замолчал.
– Дальше.
– Как она успела отхлебнуть из бутылочки, ума не приложу…
– Где бутылка?
– Отправили на анализ. Сразу.
Я повернулся к судмедэксперту.
– Мне кажется, тиофос. Очень сильный яд, – словно продолжила рассказ Хлюстова. – От вредителей. Им многие пользуются на садовых и огородных участках… Они правильно действовали, – кивнула она на Жарова, – попытались прочистить желудок. Но, в общем, бесполезная штука. Она скончалась почти мгновенно. Я, конечно, ввела камфору. Массаж сердца, искусственное дыхание. Как говорится, мёртвому припарка…
– Да, – перебил следователь, – перед смертью Митенкова успела сказать: «Он не виноват. Я сама…»
– Вы занесли это в протокол?
– А как же? – обиделся лейтенант. – Неужели думаете, я совсем уж?..
Я и сам почувствовал, что, может быть, зря так цепляюсь к нему. То, что случилось с Митенковой, могло случиться и у более опытного следователя.
Уверен, что этот урок Жарову – на всю жизнь. Но в данной ситуации это мало утешало.
– Хорошо, продолжайте, – попросил я.
– Когда товарищ Хлюстова констатировала смерть Митенковой, что нам оставалось делать? Не сидеть же сложа руки. Продолжили обыск… Дошли, значит, до сундука. Открываю его и, поверите, аж отскочил в сторону. Лежит человек и смотрит на меня. Как с того света… Домовой какой-то…
С лёгкой руки Жарова старика, прятавшегося в сундуке, мы между собой стали называть Домовым.
– И что он?
– Да ничего. Смотрит и все. Как ни пытались из него хоть слово вытянуть
– молчит…
– Как вы думаете, – обратился я к судмедэксперту, – в чем дело?
– Может быть, шок? От испуга. Явно что-то с психикой… Борис Матвеевич приедет, он сразу разберётся.
– Да, – протянул я, соображая, – когда-то он доберётся сюда…
Межерицкий был главным врачом психоневрологического диспансера, расположенного в посёлке Литвиново. Это километров двадцать пять от Зорянска. Пока он соберётся, потом ехать по мокрому шоссе, по нашим непролазным улицам…
– Не раньше чем через час, – как бы читая мои мысли, подытожил следователь.
– Но я, увы, здесь бессильна, – развела руками Хлюстова.
– Понимаю, – кивнул я. – Так что можете ехать.
– Все-таки врач, – улыбнулась она. – Дождусь Бориса Матвеевича. На всякий случай…
– Обжегшись на молоке… – усмехнулся я. – Тогда, может быть, вы ещё раз попробуете разговорить его?
– Попробовать можно. – Хлюстова прошла к старику.
– А мы, Константин Сергеевич, давайте побеседуем с соседями, что живут на другой половине дома.
– Пожалуйста, товарищ прокурор. Я посылал специально на работу за хозяином. Можно пригласить?
– Конечно.
То, что следователь проявил оперативность, вызвав соседей для опознания, было хорошо.
Все, кто ни заходил в дом – понятые, санитары, работники милиции, – были мокрые от дождя. Сосед Митенковой, Клепков, появился на пороге сухой. Даже ботинки…
Он был напуган происходящим, держался настороже и при допросе говорил, обдумывая каждое слово.
– Этого человека не видал отродясь и никогда о нем не слышал, – сказал он по поводу Домового размеренно и с расстановкой. – А живу в этом доме седьмой год.
– Как он вам достался: купили или по наследству? – спросил я.
– Купил. Документы у меня имеются. В порядке. Могу принести.
– Потом. Если понадобятся… Вы часто заходили на половину Митенковой?
– Чтобы не соврать, раза два, может, заглянул. Но соседке это не понравилось…
– Давно это было? – поинтересовался я.
– Давненько. Только мы въехали. Дай, думаю, поближе познакомлюсь. Жить-то ведь рядышком, через стенку. Хоть и предупреждал бывший хозяин, что Валерия Кирилловна ни с кем не знается… И правда, дальше сеней не пустила. Я, впрочем, не обиделся. У каждого свой характер. Как говорится, кому нравится арбуз, а кому – свиной хрящик…
– У вас хорошо слышно, что творится на этой половине?
– Нет, не слыхать.
– Ни звука? – удивился следователь. – Я в большом живу, с бетонными перекрытиями, и слышно. А это самоделка…
– Конечно, когда она ночью ходила по комнатам, немного слышно. Ночью вокруг тихо, – поправился Клепиков. – Мы все с женой дивились: как это человек себя не бережёт? Днём на работе и ночью отдыха не знает. Разве можно так жить? И ведь одна. Какие-такие особые хлопоты могут быть? Не скрою, удивлялись, когда же спит Валерия Кирилловна…
– А разговоров, других звуков? – снова спросил я.
– Такого не было, – признался сосед. – Даже ни радио, ни телевизора. В этом смысле – отдыхай в любое время, не беспокоят…
Скоро мы Клепикова отпустили. И через несколько минут он вышел со двора. В длинной, до земли, плащ-накидке. С капюшоном. Потому и был сухой…
– Что вы скажете, Константин Сергеевич?
– Странно, товарищ, прокурор, – ответил Жаров. – Судя по комфорту, старик прожил у Митенковой не один день. Посмотрите: даже дырочки для воздуха предусмотрены. И сделаны не вчера…
Хлюстова так ничего и не добилась от Домового. А Межерицкий все задерживался. Я уехал в райком, где меня ждали по другому поводу, но я, естественно, рассказал и о Домовом. Там очень заинтересовались этим случаем. Заинтересовались и в области. Строили разные предположения. Одни говорили, что Домовой – скрывающийся уголовник, другие – дезертир военных лет, а третьи считали, что несчастный старик – сам жертва преступления…
По городу поползли самые невероятные слухи, вплоть до объявления Домового святым мучеником.
Чтобы рассеять догадки и слухи, нужно было установить личность старика. Проверка была поручена следователю Жарову, а меня секретарь райкома, а потом и прокурор области просили «помочь и проконтролировать».
На следующий день следователь сидел у меня в прокуратуре с документами, какие удалось собрать за короткое время.
– Вот прежде всего материалы обыска, – сказал Жаров. – Весь дом перевернули. Чердак, подпол, все.
– Сначала о Митенковой, – попросил я, принимая от него папку.
– Возраст – около пятидесяти лет. В Зорянске проживает с тридцатого года. Полдома досталось от отца, ушедшего на фронт в самом начале войны и вскоре погибшего. Мать её в июне сорок первого гостила у своих родственников в Полоцке. Пропала без вести. Брат Митенковой тоже ушёл на войну в первые дни. Картина насчёт него неясная. Похоронки или других каких-либо сведений о нем в бумагах покойной не обнаружено… На керамическом заводе Митенкова работала со дня его основания, то есть с сорок девятого года. До этого была учётчицей на хлебозаводе. Всю войну, вплоть до поступления на последнюю работу.
– Она не эвакуировалась?
– Нет. Прожила при немцах в Зорянске… Любопытные листовки сохранились у неё со времён войны. Вернее, фашистские приказы…
Читал я эти приказы с любопытством. И не без волнения. Первый листок был лаконичным.
«Приказ No 2
Все мужчины в возрасте от 15 до 60 лет обязаны явиться в жилуправление своего района, имея при себе удостоверение личности.
Штадткомендант Кугельгард.
Зорянск, 23 августа 1941 года».
Следующий – целое послание к населению.
«Приказ No 6
Каждый, кто непосредственно или косвенно поддержит или спрячет у себя членов банд, саботажников, пленных беглецов, евреев, партийных, советских работников и членов их семей или предоставит кому-нибудь из них пищу либо иную помощь, будет покаран смертью.
Все имущество его конфискуется. Такое же наказание постигнет всех, кто, зная об их месторасположении, не сообщит немедленно об этом в ближайшее полицейское управление, военному командованию или немецкому руководству.
Кто своим сообщением поможет поймать членов любой банды, бродяг, евреев, партийных и советских работников или членов их семей, получит 1000 рублей вознаграждения либо право первенства в получении продовольственных товаров.
Штадткомендант Кугельгард.
Зорянск, 2 октября 1941 года».
– Больше листовок нет?
– Только две.
– Хорошо. Мы к документам ещё вернёмся. Вы были на керамическом заводе, говорили с сослуживцами Митенковой?
– Кое с кем.
– Ну и что?
– Странная, говорят, была. В отпуск никогда никуда не ездила, хотя и предлагали ей как ветерану предприятия путёвки в дом отдыха, санатории. Все отговаривалась, что надо копаться в огороде. И ещё характерная деталь: никогда никого не приглашала к себе домой в гости. И сама не ходила. Короче, абсолютная нелюдимка…
– И это ни у кого не вызывало подозрений?
– Подследственная плохо слышала. Говорят, что глухие люди сторонятся других.
– Теперь она уже не подследственная, – сказал я. – А о тугоухих я тоже слышал, что они часто замкнутые…
– Для меня она пока подследственная, – вздохнул Жаров. – Хоть дело в отношении Митенковой прекращено, на допросах о ней частенько говорят…
– Небось валят на неё всю вину?
– Стараются изо всех сил…
– А вы как считаете?
– Сейчас, Захар Петрович, картина ещё не полностью ясна. Через недельку доложу. Но, сдаётся мне, всем заправлял начальник отдела сбыта. Вывозился товар без накладных, пересортица и прочее. Разбираюсь, в общем.
– И все-таки она была замешана?
– Была.
– Значит, из-за этого решилась на самоубийство?
– Простите, товарищ прокурор, но опять же сейчас категорически утверждать…
– Ладно, подождём… Так как же с Домовым? Из найденного при обыске хоть что-нибудь приоткрывает завесу над его личностью?
Жаров развёл руками:
– Ни одной фамилии. Фотография, правда, имеется. Посмотрите в папке…
На меня смотрел в витиеватом медальоне красавчик с безукоризненным пробором. Брови – изломанным разлётом, губы полные, чувственные и ослепительный ряд зубов. В вязь виньетки вплетены слова: «Люби меня, как я тётя». И подпись: «Фотоателье No 4 гор. Зорянска».
– Мастерская закрылась в пятидесятом году, – пояснил следователь. – Никаких, конечно, следов от неё. Стояла на улице Кирова. Теперь на том месте кинотеатр «Космос».
– Этому портрету лет немало, – подтвердил я. – И все-таки вы его поисследуйте.
– Разумеется, товарищ прокурор… А ещё двенадцать папок с нотами…
– Какими нотами?
– Написанными от руки. Я их вам не привёз, вот такая кипа, – Жаров показал рукой метра на полтора от пола. – На чердаке лежали… А вот эти, – он показал ноты, – в сундуке нашли, где Домовой жил. Всю ночь разбирал. Только названия и ноты. И опять же – ни даты, ни подписи, ничего. Причём названия написаны печатными буквами. Наверное, для понятности.
– Чьи это произведения?
– В музыке я, прямо скажем, не силён. Но известные имена, конечно, знаю. – Надо проиграть на аккордеоне, – уклончиво сказал Жаров.
– Вы играете? – Это была для меня новость.
– Немного, – смутился следователь. – В армии записался в самодеятельность. А вернулся, купил инструмент. Недорогой. Все собираюсь заняться, да нет времени…
– Что ещё помимо нот?
– Два письма. Личного содержания. Судя по почерку и именам отправителей, – от двух разных людей…
Я ознакомился с письмами.
«Лера! Я хочу с тобой встретиться. Очень. Но как это сделать, не знаю. Могла бы ты опять приехать к нам? Все тебе рады, ты это знаешь. А обо мне и говорить нечего. Меня беспокоит тон твоего последнего письма. Вернее, твоё настроение. С чего ты взяла, что мои чувства изменились? Этого не будет никогда. Более того, чем дольше я тебя не вижу, тем вспоминаю сильнее. Иной раз берет такая тоска, что готов бежать в Зорянск, лишь бы тебя увидеть. Пишу тебе чистую правду. А все твои сомнения, наверное, оттого, что мы редко встречаемся. Поверь, как только мы встретимся, поймёшь: я по-прежнему (даже в тысячу раз больше) тебя люблю. Целую. Геннадий. Пиши обязательно. 12 апреля 1941 года. Гена».
«Лерочка, милая! Ты веришь в сны? Если нет, то обязательно верь. Верь! Мне приснился лес, и мы с тобой что-то собираем. Но мне почему-то все время попадаются грибы, а тебе – земляника. Хочу найти хотя бы одну ягоду, а все передо мной только боровики и подосиновики. Главное, ты идёшь рядом и все время показываешь мне, какую большую сорвала ягоду. Потом мы попали в какую-то комнату, полную людей. И все незнакомые. Я потерял тебя. Вернее, знаю, что ты здесь, сейчас мы увидимся. Но мне мешает пройти лукошко. А кто-то говорит: „Смотрите, какая у него земляника!“ Я смотрю, а у меня в лукошке не грибы, а земляника. Думаю, когда мы поменялись? Но ведь я точно помню, что мы не менялись. С тем и проснулся. Пошёл для смеха узнать у одной старушки, что все сие означает? Она сказала, что земляника к добру, что если твоё лукошко оказалось в моих руках, это к нашему обоюдному счастью. А грибы – плохо, особенно белые: к войне. Ну, насчёт войны наверняка чушь. А земляника – правда. Я в это уверовал.
Напиши, может, и тебе я снюсь? Как? Старушка – настоящая колдунья, разгадает.
Жду с нетерпением ответа, крепко целую, люблю, твой Павел».
Даты не было. Я повертел в руках пожелтевшие от времени листки бумаги и спросил:
– Где обнаружили?
– В старой дамской сумочке, где хранились документы Митенковой: паспорт, профсоюзный билет, извещение о смерти отца и несколько семейных фотографий.
– Кто такие Геннадий и Павел, откуда писано?
– Неизвестно, – ответил Жаров.
Я разложил на столе шесть фотоснимков. Очень старых.
– А кто на семейных фотографиях, как вы думаете?
Жаров подошёл и стал рядом:
– Это, конечно, вся семья Митенковых – мать, отец, дочь, сын. А тут отдельно брат и сестра… В общем, никого посторонних.
– Да, скорее всего это так.
– Симпатичная была Митенкова в молодости, – сказал следователь.
– Очень… Значит, все?
– Пожалуй, все.
– Маловато.
– Конечно, мало, – согласился Жаров. – Подождём, что сумеет сделать Межерицкий. Он опытный врач. Ведь когда-то же заговорит Домовой. Не может человек все время молчать…
…Борису Матвеевичу Межерицкому я тоже верил. Когда мы приехали в Литвиново, он к Домовому нас не пустил. И разговаривали мы у него в кабинете.
– Спит пайщик, – сказал Межерицкий.
Психиатр называл всех своих подопечных «пайщиками». Он усадил нас в удобные кресла, затянутые в чехлы, и начал балагурить в своей обычной манере.
– Спирт я тебе, Захар Петрович, не предлагаю, знаю, что любишь коньяк.
Я сделал жест, потому что если что и предпочитал к празднику, это хороший добротный портвейн. Хорошо – массандровский. Но врач, не моргнув, продолжал:
– А молодому человеку, – он кивнул на следователя, – пить рано.
Борис Матвеевич вообще не пил. Но шутил без тени улыбки на лице, что сбивало с толку Жарова.
– Борис Матвеевич, скажи откровенно: можно из старика что-нибудь выудить?
– Можно. Целый учебник по психиатрии. Амнезия, астения, атония, меланхолия… Неврастенический синдром. Психогенный или же на почве склероза мозга… Хочешь ещё?
– А в переводе на русский?
– Прекрасный экземпляр неврастеника – это поймёшь без перевода. Выпадение памяти. Забыл, что с ним. Все забыл. Общая слабость, отсутствие тонуса, тоскливое, подавленное состояние…
– Плачет или молчит… – вспомнил я слова Жарова.
– И не спит. Я приучаю его к седуксену… Одно, Захар Петрович, пока не ясно. Это из-за какой-нибудь психической травмы или от склероза, который, увы, вряд ли минет и нас… Кстати, по-моему, пайщику годков пятьдесят пять…
– Не может быть! Он же глубокий старик! – воскликнул молчавший до сих пор следователь.
– В его положении он ещё хорошо выглядит, – сказал Борис Матвеевич. – Мы с вами выглядели бы хуже. Ему мало было неврастении. Стенокардия… Неплохой набор, а? – Немного помолчав, психиатр спросил: – Кто же и где его так, сердешного, замордовал?
– Вот, ищем, – ответил я, кивнув на Жарова.
– И долго он жил в своём особняке? – Врач очертил в воздухе форму ящика.
– Не знаем, – коротко ответил я. – Мы о нем ничего не знаем. И, честно, надеялись, что поможет медицина…
– Да, загадка не из лёгких. – Межерицкий задумался. – Психиатру, как никому из врачей, нужна предыстория… Конечно, хирургу или урологу тоже… Но нам знать прошлое просто необходимо. Как воздух. Так что прошу уж любую деталь, малейшие сведения из его жизни от меня не скрывать.
– Разумеется, – подтвердил я.
От Межерицкого я вышел, честно говоря, несколько разочарованный. То, что сообщил Борис Матвеевич, могло задержать выяснение личности Домового на долгое время.
– Умный мужик, – сказал о враче Жаров, когда мы сели в «газик».
И мне было приятно, что мой приятель понравился следователю.
– Да, опытный психиатр, – кивнул я. – И если он пока не может нам помочь, значит, это так… Во всяком случае условия созданы все. Отдельная палата. Все время дежурит сестра…
– И вообще больница в красивом месте. – Жаров показал на прекрасный осенний лес, проплывающий за окном машины.
– По мне лучше в безводной пустыне, – откликнулся шофёр, – чем в психиатричке…
Шофёр Слава был парень крутой. И на все имел своё суждение. Иногда очень точное и справедливое.
– Это конечно, – подтвердил следователь. – Да какая больница может нравиться?
– И все-таки больницы нужно делать именно в таких местах, – сказал я. – Природа лечит… – И вспомнил, что эти слова принадлежали какому-то древнему учёному.
– Выходит, – перескочил на другое Жаров, – Домовой теперь полностью на нашей совести…
– Само собой. Лечение лечением, а установление личности – наша задача. Не исключено, что Домовой – жертва преступления, может быть, и сам преступник, поэтому и скрывался, или…
Следствие по делу о хищении на керамическом заводе Жаров закончил довольно быстро и квалифицированно. Дело было передано в суд. Оставался загадкой только сам Домовой. Кто он? Сколько времени пребывал в сундуке и имеет ли отношение к самоубийству Митенковой?
Многое в этой истории непонятно. А сказать вернее – все. Но следователя больше всего заинтересовала гора музыкальных рукописей. Жаров предложил версию, что автором мог быть Домовой. А поэтому он засел за найденные произведения с аккордеоном в руках. Приблизительно четверть произведений была записаны на нотной бумаге фабричного производства. Она наиболее пожелтела. Остальное – на разлинованной от руки. Но и эта порядком старая.
Наш город недостаточно значителен, чтобы позволить себе роскошь иметь консерваторию. Не было даже училища. Музыкальная школа. Одна. Возглавляла её с незапамятных времён Асмик Вартановна Бурназова.
Об Асмик Вартановне я вспомнил неспроста. Удивительный это был человек. Закончила Ленинградскую консерваторию и поехала в Зорянск простой учительницей музыки. Семейная традиция. Отец её, обрусевший армянин, пошёл в своё время в народ, учительствовал в земской школе.
По моему совету Жаров обратился к Асмик Вартановне за помощью. Старушка через несколько дней после того, как следователь доставил ей рукописные произведения, найденные у Митенковой, пригласила нас к себе домой. И начала с того, что взяла одну из папок и проиграла нам с листа небольшую пьеску.
– Прелюд, – пояснила она. – А вот ещё. Баркарола.
Полилась грустная музыка. В комнату вошла осень. Неуютная, сырая, давящая. Одна мелодия варьировалась на разный лад. Тянулась долго, утомительно…
Наконец, последний затухающий аккорд. Асмик Вартановна без слов взяла другой лист. Бойко забегали пальцы по клавишам. Я, кажется, узнал знакомое: казачок. Но промолчал, боясь попасть впросак.
– Вариация на тему «Казачка», – сказала Асмик Вартановна. – Не плохо, не правда ли?
– Угу, – согласился следователь.
Бурназова взяла другую папку.
– «Симфония си бемоль мажор. Опус двенадцатый. Посвящается моему учителю», – прочла она и повернулась ко мне. – Я просмотрела клавир. Серьёзное произведение. – И, отложив симфонию, поставила на подставку лист из следующей стопки.
При первых звуках Жаров оживился:
– Мне эта штука нравится.
– Мелодично, – согласилась Асмик Вартановна.
Я тоже с удовольствием слушал нехитрую пьесу. Красиво и понятно. Как песня…
– Как называется? – поинтересовался я.
– «Песня», – ответила она, не прерываясь.
– Да? – удивился я своей интуиции и прикрыл глаза. Звуки, аккорды, переходы уводили меня к чему-то дорогому и далёкому. К тому, что осталось в памяти за чертой, именуемой «до войны». Мелодия неуловимо, но осязаемо напоминала песни предвоенных лет, сливаясь с образами смешных репродукторов-тарелок, наших школьных подружек с короткими причёсками и в беретах, с аншлагами газет про папанинцев, Чкалова, Гризодубову, Стаханова…
Асмик Вартановна повернулась к нам на крутящемся круглом стуле.
– Ещё что-нибудь сыграть?
– По-моему, достаточно, – сказал я. – Что вы скажете о музыке?
– В русских традициях. Но сейчас кое-кто считает это старомодным.
Старушка получше укуталась в шаль. Армянского в ней – нос. И ещё глаза. Чёрные, как сливы, немного навыкате.
– Автора не знаете? – подключился Жаров.
– Не могу ничего сказать, – покачала она головой. – Что-то напоминает. Вот симфония. Есть что-то от Калинникова. Теперь ведь сочиняют под Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна. Одну минуточку…
Асмик Вартановна вспорхнула со своего стульчика и вышла из комнаты. Наверное, за какой-нибудь книгой по музыке.
– Значит, – сказал задумчиво следователь, – если все это насочинял Домовой, – отстал товарищ от современной музыки на много лет… Одну из нотных тетрадей я, между прочим, послал на экспертизу. Определить, какой комбинат выпустил бумагу.
– Хорошо… Но почему обязательно это его рукописи?
Жаров заёрзал в кресле.
– Интуиция, – хотел отшутиться он.
– А вдруг он прятался оттого, что украл эти творения? Докажите мне, что автор этого, – я дотронулся до папки с нотами, – и укрывающийся у Митенковой одно и то же лицо. Потом будем плясать дальше.
Следователь вздохнул:
– Да, простить себе не могу, как я прошляпил Митенкову.
– Опять же чего она больше испугалась: разоблачения махинаций на заводе или чего-то другого?
– По-моему, только из-за хищения она не стала бы на себя руки накладывать…
– Опять одни предположения, Константин Сергеевич…
Он хотел мне возразить, но вернулась хозяйка. С подносом. Кофейник, три чашечки, сахарница, печенье.
– Асмик Вартановна, зачем эти хлопоты? – сказал я.
– Полноте. Не люблю спрашивать у гостей, хотят они кофе или нет. Воспитанный гость скажет нет. А невоспитанный… Ему я и сама не предложу.
– Мы не гости, – скромно сказал Жаров.
– Для меня вы прежде всего гости. Я Захара Петровича знаю бог весть сколько лет, детей его учила музыке, – мне послышалась в её голосе добродушная усмешка, – а он ни разу у меня не был…
– Не приглашали, – улыбнулся я. – Разве только в школу.
Асмик Вартановна протянула мне чашечку с кофе:
– Я же хотела ваших детей приобщить к музыке. Володя, по-моему, имел все основания стать хорошим музыкантом. Он играет? Ну, хотя бы для себя?
– По-моему, даже «Чижика» забыл.
– Жаль. Вам сколько сахару? – спросила она у Жарова.
– Три. – И, воспользовавшись тем, что хозяйка обратилась к нему, осторожно сказал: – Вы бы меня, Асмик Вартановна, взяли в ученики. Хочу освоить аккордеон по-настоящему…
– К сожалению, у нас уехал педагог по классу аккордеона. А баян? Очень близко. Вы учились?
– В армии, в художественной самодеятельности.
– Зайдите в школу, поговорим.
– А удобно? С детворой…
– Ломоносов не постыдился, – подзадорил я следователя.
– То ж Ломоносов… – протянул Жаров.
– Приходите, – ещё раз повторила хозяйка. – Что-нибудь придумаем. – Она налила себе кофе. – Захар Петрович, простите, я не совсем понимаю свою миссию…
– Нам хотелось бы установить автора, – сказал Жаров.
– Автора?
– Да.
– Значит, он неизвестен?
– Имя его неизвестно, – уклончиво ответил следователь. – Вы опытный музыкант…
– Педагог, только педагог, молодой человек.
– Можно по произведению узнать композитора?
– Конечно, в принципе…
– Даже если никогда не слышали эту вещь? – уточнил я.
– Рахманинова я бы узнала с первых нот. Скрябина, Чайковского, Моцарта, Бетховена, Берлиоза, Баха… Всех талантливых, самобытных… Пушкина ведь узнаешь сразу.
– Вы, наверное, знаете всех, – сказал Жаров.
– Что вы, что вы, – запротестовала старушка, – до сих пор ещё открываю для себя новое. Представьте, была в Каунасе. Попала на концерт Чурлениса. Это удивительная музыка! Какой композитор!
– А эти произведения вам ничего не подсказывают? – кивнул я на ноты, лежащие на пианино.
– Впервые встречаюсь с этим композитором.
– Но хотя бы можно предположить, когда они сочинены?
– Я не музыковед. Боюсь ввести вас в заблуждение. Но мне кажется, что это сочинено не в наши дни. Сейчас мода на другую гармонию. Я понимаю, все усложняется. Но мне милее Бородин и Даргомыжский, Рахманинов и Танеев, Глазунов и Скрябин… Этот композитор сочинял в их традициях. Может быть, он учился у них. Или у их последователей. Молодые нередко копируют своих учителей. Первая симфония Бетховена близка венской школе – Гайдн, Моцарт…
От Бурназовой мы ушла не скоро. Она буквально заставила нас выслушать лекцию о классической музыке, сопровождая свой рассказ игрой на пианино.
Через несколько дней после посещения больницы Межерицкого Жаров снова пришёл поговорить о Домовом.
– Помня о том, – начал следователь, – что вы, знакомясь с материалами обыска у Митенковой, обратили внимание на отсутствие каких-либо документов о её брате, я назначил экспертизу семейных фотографий и портрета Домового… Не сходится. Не брат.
– А отец?
– И не отец.
– Эксперты утверждают это категорически?
– Абсолютно. Как ни изменяется внешний облик, есть приметы, которые остаются совершенно такими же. Расстояние между зрачками, линия носа и прочее… Тут все ясно.
– А красавец «люби меня, как я тебя»?
Константин Сергеевич замялся:








