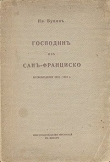Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 52 страниц)
ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА
Доктор X***, недавно скончавшийся в Сервиньи (Эн), где он свыше сорока лет занимался врачебной практикой, оставил дневник, который отнюдь не намеревался выпускать в свет. Я не отважусь не только обнародовать его записки полностью, но даже привести из них обширные выдержки, хотя многие в наше время вслед за господином Тэном [290]290
… вслед за г-ном Тэном… – Ипполит Тэн (1828–1893) – французский искусствовед и историк литературы, стоявший на позициях позитивизма.
[Закрыть]полагают, будто надлежит печатать именно то, что не предназначалось для печати. Что ни говорите, но, чтобы рассказывать любопытные вещи, недостаточно не быть писателем.
Дневник моего врача скоро утомил бы читателя своей однообразной грубоватостью. И все же автор, несмотря на скромное свое положение, несомненно обладал недюжинным умом. Этот сельский лекарь был врачом-философом. Быть может, последние страницы его дневника представляют некоторый интерес. Я разрешу себе привести их здесь.
Выдержки из дневника покойного г-на X***, врача из Сервиньи (Эн)
На свете не существует ничего абсолютно дурного, равно как и ничего абсолютно хорошего, – это философская истина. Самая приятная, самая естественная, самая полезная из добродетелей – жалость – не всегда хороша как для солдата, так и для священника; перед лицом врага она должна безмолвствовать в их сердцах. Что-то не слышно, чтобы офицеры рекомендовали руководствоваться ею перед сражением; мне довелось прочесть в старинной книге, что г-н Николь побаивался жалости [291]291
…г-н Николь побаивался жалости… – Николь Пьер (1625–1695) – один из виднейших деятелей янсенизма во Франции, автор «Очерков о морали».
[Закрыть], так как видел в ней источник соблазна. Я не священник и уж никак не солдат. Я врач, и притом из числа самых заурядных: я сельский врач. Я долго практиковал в глуши и осмеливаюсь утверждать: одна лишь жалость достойна быть нашей наставницей, но перед лицом страданий, хотя стремление облегчить их внушено именно ею, жалость в душе врача должна смолкать. Врач, которого жалость сопровождает до самого изголовья больного, не обладает ни достаточно ясным взглядом, ни достаточно твердой рукой. Мы идем туда, куда нас призывает любовь к роду человеческому, но мы идем свободные от чувства жалости. Впрочем, медики по большей части довольно легко утрачивают излишнюю чувствительность: таково спасительное и необходимое свойство нашей профессии, которое возникает и проявляется очень скоро. Для этого есть веские основания. Сталкиваясь с человеческим страданием, жалость быстро притупляется. Когда можешь облегчить боль, меньше жалеешь больного. Наконец недуг открывает взору врача цепь любопытных явлений.
Начав заниматься медициной, я горячо полюбил свою профессию. Болезни, которые мне приходилось лечить, я рассматривал как повод для совершенствования в своем искусстве. Недуги, протекавшие со всеми их характерными симптомами, приводили меня в восторг. Болезненные явления, говорившие о резком отклонении организма от нормы, будили мое любопытство. Словом, я любил болезни. Но что я говорю? Болезнь и здоровье были для меня тогда чистыми абстракциями. Восторженный наблюдатель деятельности человеческого организма, я восхищался всеми ее проявлениями – от самых гибельных до наиболее спасительных. Я охотно воскликнул бы вместе с Пинелем [292]292
Пинель Филипп (1745–1826) – французский врач-психиатр.
[Закрыть]: «Какой великолепный рак!» Короче говоря, я был на пути к тому, чтобы стать врачом-философом. Мне недоставало лишь врачебного таланта для того, чтобы овладеть тайнами медицинской науки и насладиться в полной мере ее красотами. Ведь постигать величие явлений – свойство гения. Там, где человек заурядный видит лишь отвратительную язву, истинный ученый любуется полем сражения, на котором таинственные силы бытия борются за власть в схватке, еще более ожесточенной и грозной, чем та битва, что с такою дикою силой воссоздал на холсте Сальватор Роза [293]293
…воссоздал… Сальватор Роза. – Сальватор Роза (1615–1673) – итальянский художник, работавший главным образом в батальном жанре.
[Закрыть]. Я мельком наблюдал это возвышенное зрелище, столь обычное для таких людей, как Маженди и Клод Бернар [294]294
…Маженди и Клод Бернар… – Маженди Франсуа (1783–1855) и Клод Бернар (1813–1878) – французские ученые-физиологи.
[Закрыть], и горжусь тем, что мне довелось наблюдать его хотя бы мельком. Но, решив быть скромным практикующим врачом, я все же сохранил необходимое в нашей профессии умение спокойно взирать на страдания. Я отдавал больным свои познания и силы. Но я не дарил им своей жалости. Я прогневил бы бога, если б поставил какой-нибудь дар, как бы ни был он драгоценен, выше дара сострадания. Сострадание – это последняя лепта вдовицы, это ни с чем не сравнимое даяние бедняка, который, будучи великодушнее всех богачей земли, вместе со слезами отдает частицу собственного сердца. Именно поэтому при исполнении профессионального долга не должно быть места жалости, как бы ни была благородна профессия.
Переходя к рассмотрению частных случаев, замечу, что люди, среди которых я живу, внушают в часы своих страданий не жалость, а совсем иное чувство. Человек вызывает в другом лишь те чувства, которые сам испытывает, – это довольно верная мысль. А крестьяне в наших краях отнюдь не отличаются мягкостью. Они строги и к другим и к себе; в самой их степенности есть что-то суровое. Эта суровость передается окружающим; живя среди них, чувствуешь, как на душе у тебя становится все тяжелей и печальней. Но они хранят в чистоте высокие черты человечности, и это делает их нравственный облик прекрасным. Думают они редко и мало, но порою мысль их сама собой облекается в торжественную форму. Я слышал, как некоторые из них произносили в свой смертный час краткие и сильные речи, достойные библейских патриархов. Они могут вызывать восхищение, но не способны растрогать. Все в них просто, даже болезнь. Излишнее мудрствование не умножает их страданий. Они не походят на тех людей с болезненным воображением, которые на основе своих недугов рисуют картины более страшные, нежели сам недуг. И умирают они столь естественно, что, присутствуя при этом, не испытываешь смятения. К сказанному я могу только прибавить, что все они похожи друг на друга и со смертью любого из них из жизни не исчезнет ничего своеобразного.
Итак, я неуклонно исполняю обязанности сельского врача и не ропщу на судьбу. Думается, я мог бы претендовать на нечто большее. Человеку всегда неприятно сознавать, что дело, которое он делает, ниже его возможностей, но зато гораздо прискорбнее для него мысль, что он не отвечает своему назначению. Я не богат и никогда не буду богат. Но много ли нужно денег, чтобы прожить одному в деревне? Моей серой кобылке Женни всего пятнадцать лет; она трусит, как в дни молодости, особенно когда мы держим путь к конюшне. В отличие от моих прославленных парижских собратьев у меня нет картинной галереи, которую я мог бы показывать посетителям; зато у меня есть грушевые деревья, которых нет у них. Мой сад славится на двадцать лье вокруг, из соседних поместий ко мне присылают за черенками. И вот однажды, в понедельник, – завтра будет ровно год, как это случилось, – я возился с фруктовыми деревьями у себя в саду; вдруг прибегает работник с фермы и просит меня как можно скорее прийти в Али.
Я спросил, уж не расшибся ли Жан Блен, фермер из Али, когда нынче ночью возвращался домой. В наших краях по воскресеньям бывает много вывихов, по дороге из кабачка люди часто ломают себе ребра. Жан Блен не какой-нибудь там пропойца, но он не прочь выпить в компании, и ему не раз приходилось по понедельникам дожидаться рассвета в придорожной канаве.
Работник ответил мне, что Жан Блен жив-здоров, но что у его сынишки Элуа – горячка.
Бросив начатое дело, я схватил палку, шляпу и пешком отправился в Али – ферма эта находится в двадцати минутах ходьбы от моего дома. По дороге я думал о больном сынишке фермера. Жан Блен – такой же крестьянин, как и все остальные, с той только разницей, что сотворившая его божественная мысль забыла наделить его мозгом. У этого верзилы Жана Блена голова величиной с кулак. Высшая мудрость вложила в его череп лишь самое необходимое, лишь самую малость. Жена его – первая красавица во всей округе – женщина суетливая, шумливая и на редкость добродетельная. И вот эта чета произвела на свет существо самое тонкое и самое умное из всех, когда-либо произраставших на нашей древней земле. Наследственность знает подобные сюрпризы, так что можно с полным основанием утверждать: люди не ведают, что творят, когда зачинают ребенка. Наследственность, говорит старик Нистен [295]295
Нистен Пьер-Юмбер (1771–1818) – бельгийский ученый-медик.
[Закрыть], биологическое явление, сущность которого состоит в том, что предки передают потомкам, помимо видовых черт, еще и особенности духовной организации, а также способности. С этим я вполне согласен. Но какие именно особенности передаются, а какие – нет, это остается неясным даже по прочтении почтенных трудов доктора Люка и г-на Рибо [296]296
…трудов доктора Люка и г-на Рибо. – Ученый-медик Проспер Люка (1805–1885) и ученый-психолог Теодюль Рибо (1839–1916) занимались вопросами наследственности.
[Закрыть]. Мой сосед нотариус дал мне в прошлом году почитать книгу г-на Эмиля Золя, и я убедился, что этот писатель льстит себя надеждой, будто в этом вопросе он разбирается лучше всех. Мысль его сводится к следующему: вот предок, страдающий неврозом; среди его потомков непременно будут невропаты, а может быть, уже и есть; будут сумасшедшие, будут и здравомыслящие; один из них, возможно, будет гениален. Для большей наглядности автор даже составил генеалогическую таблицу. Ну, что ж! Открытие это не блещет новизной, особенно гордиться тут нечем, но оно содержит почти все, что нам известно по вопросу о наследственности. Как бы то ни было, у сынишки Жана Блена ума палата! Этот ребенок наделен творческим воображением. Я не раз заставал этого малыша, ростом с мою палку, врасплох, когда он, как и другие шалуны, удрав с уроков, болтался на ферме. Но в то время, как его товарищи разоряли гнезда, этот маленький человечек сооружал крошечные мельницы и делал насосы из соломинок. Изобретательный дикарь, он вопрошал природу. Учитель в школе ничего не мог добиться от этого рассеянного ребенка, и действительно: Элуа к восьми годам еще не знал азбуки. Но в этом возрасте он с поразительной быстротой выучился читать и писать и через полгода стал лучшим учеником во всей школе.
Кроме того, он был на редкость ласковым и любящим ребенком. Я дал ему несколько уроков математики и был поражен глубиной его ума, которая проявлялась в таком раннем возрасте. Словом, признаюсь, не боясь показаться смешным, ибо одичавшему в глуши старику простят некоторое преувеличение, – мне нравилось наблюдать в этом крестьянском мальчике первые проблески гениальности, угадывать в нем одного из тех великих людей, которых через длительные промежутки времени выделяет из своей среды мрачное человечество; побуждаемые потребностью любви в такой же мере, как и стремлением к знанию, они всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и благое дело.
Вот какие мысли проносились в моей голове, когда я шел в Али. Войдя в одну из комнат, расположенную внизу, я сразу увидел маленького Элуа; укрытый ситцевым одеялом, он лежал на широкой кровати, на которую его перенесли родители, – видимо, они сознавали всю опасность его положения. Ребенок дремал; его маленькая изящная головка словно вдруг отяжелела и вдавилась в подушку. Я подошел к нему. Лоб у ребенка пылал; глаза покраснели; у него был сильный жар. Мать и бабушка в тревоге не отходили от мальчика. Охваченный беспокойством отец, не зная за что приняться и не решаясь уйти, бесцельно слонялся по комнате, засунув руки в карманы, и переводил взгляд с одного лица на другое. Элуа повернул ко мне осунувшееся личико и, устремив на меня кроткий страдальческий взгляд, в ответ на мои расспросы сказал, что у него сильно болят лоб и глаза, что у него страшный шум в ушах, но он узнает меня – ведь мы с ним старые друзья.
– У него то озноб, то жар, – прибавила мать.
Жан Блен, подумав, сказал:
– По-моему, болезнь у него внутри сидит.
И снова умолк.
Для меня не составило труда определить симптомы острого менингита. Я прописал отвлекающие средства к ногам и пиявки за уши. Потом я опять подошел к своему маленькому другу, чтобы сказать ему что-нибудь ласковое, что-нибудь утешительное о его состоянии, которое, увы, было очень тяжелым. Но в эту минуту я почувствовал нечто такое, чего дотоле никогда не испытывал. Хотя мне казалось, что я сохраняю все свое хладнокровие, больной внезапно представился мне, точно сквозь пелену, и таким далеким, таким крошечным! К этому искаженному восприятию пространства тотчас же присоединилось столь же искаженное восприятие времени. Мой визит продолжался не более пяти минут, однако мне казалось, будто я нахожусь очень, очень долго в этой комнате, перед накрытой бумажным одеялом постелью, будто протекли уже месяцы, годы, а я еще и не пошевельнулся.
С присущей мне склонностью к анализу я попытался разобраться в этих странных ощущениях, и причина мне тотчас открылась. Она не отличалась сложностью. Элуа был мне дорог. Столкнувшись с его внезапной и серьезной болезнью, я все никак не мог «прийти в себя». Это очень распространенное и очень меткое выражение. Тяжелые мгновения кажутся нам долгими. Вот почему пять-шесть минут, проведенные возле Элуа, показались мне вечностью. А ощущение, будто ребенок находится вдали от меня, было порождено опасением его близкой утраты. Мысль эта, помимо моей воли проникшая в сознание, тотчас превратилась в твердую уверенность.
Наутро состояние Элуа казалось менее угрожающим. Улучшение продолжалось несколько дней. Я послал в город за льдом, и лед на него подействовал хорошо. Но на пятый день начался сильный бред. Мальчик много говорил. Вот что мне удалось разобрать в потоке бессвязных слов:
– Шар! Воздушный шар! Я сжимаю в руках его руль. Шар поднимается. В небе черным-черно. Мама, мама, почему ты не со мной? Мой шар летит туда, где будет так чудесно! Ко мне! Я задыхаюсь!
В тот день Жан Блен пошел меня проводить. С растерянным видом человека, который хочет что-то сказать и не решается, он переминался с ноги на ногу. Наконец, молча пройдя шагов двадцать, он остановился и, тронув меня за руку, проговорил:
– Видите ли, доктор, по-моему, болезнь у него внутри сидит.
Я печально продолжал свой путь, и в первый раз желание вновь увидеть свои грушевые и абрикосовые деревья не заставило меня прибавить шагу. В первый раз за всю мою сорокалетнюю практику больной вызвал во мне такую сильную душевную боль; мысленно я оплакивал ребенка, ибо не мог спасти его.
Немного погодя к моему горю присоединилась мучительная тревога. Я усомнился в правильности лечения. Я ловил себя на том, что наутро забываю о сделанных накануне предписаниях, я утратил уверенность в правильности своего диагноза, чувствовал себя робким и растерянным. Я попросил приехать одного из моих собратьев, хорошего молодого врача, практикующего в соседнем городе. Когда он прибыл, маленький страдалец, уже ослепший, находился в состоянии полного беспамятства.
На следующий день Элуа не стало.
Спустя год после этого несчастья мне пришлось поехать в главный город нашей префектуры для участия в консилиуме. Случай был редкий. Причины, вызвавшие его, необычны, но так как они мало интересны, то я не стану их здесь приводить. После консилиума врач префектуры доктор С*** был так любезен, что пригласил меня позавтракать с ним и еще с двумя моими собратьями. После завтрака, за которым я наслаждался серьезной беседой, касавшейся различных вопросов, мы перешли пить кофе в кабинет хозяина. Подойдя к камину, чтобы поставить пустую чашку, я заметил висевший на раме зеркала небольшой портрет, и этот портрет так меня взволновал, что я с трудом удержался от восклицания. То была миниатюра, изображавшая ребенка. И ребенок этот так разительно напоминал Элуа, которого мне не удалось спасти и о ком, вот уже целый год, я ежедневно вспоминал, что я невольно подумал, не его ли это портрет. Однако такое предположение было нелепо. Рамка черного дерева и золотой ободок вокруг миниатюры изобличали вкус конца XVIII века; на мальчике, как на маленьком Людовике XVII, была курточка с розовыми и белыми полосками, но лицом это был вылитый Элуа. Тот же волевой и могучий лоб, лоб мужа, и локоны херувима; тот же огонь в глазах, та же страдальческая складка у рта! Словом, те же черты лица и то же выражение!
Должно быть, я очень долго рассматривал портрет, потому что доктор С***, легонько ударив меня по плечу, сказал:
– Это, дорогой собрат, – семейная реликвия, и я горжусь тем, что она принадлежит мне. Мой прадед по материнской линии был другом знаменитого человека, который изображен здесь еще совсем ребенком. От прадеда мне и досталась эта миниатюра.
Я попросил доктора сообщить имя знаменитого друга его предка. Тогда он снял с гвоздя миниатюру и протянул ее мне.
– Взгляните на дату внизу… – сказал он. – Лион, 1787. Она вам ничего не говорит?.. Нет?.. Ну так вот, этот двенадцатилетний мальчик – великий Ампер.
В это мгновение мне, наконец, с непреложной ясностью открылось, какого гениального ребенка сразила смерть год тому назад на ферме в Али.
ЗАПИСКИ ВОЛОНТЕРА [297]297
Все события, изложенные в «Записках», достоверны и заимствованы из различных рукописей XVIII века. В них нет ни одного обстоятельства, которое не было бы подтверждено документально.
[Закрыть]
I
Я родился в 1770 году в далеком предместье захолустного городка близ Лангра, где мой отец, полугорожанин, полукрестьянин, торговал ножами и возделывал свой фруктовый сад. Местные монахини, обучавшие только девочек, научили меня читать, потому что я был еще мал, а они были в дружеских отношениях с моей матерью. Из их рук я перешел в руки городского священника, сына сапожника и истинного гуманиста, который давал мне уроки латинского языка. Летом мы занимались под старыми каштанами, и аббат Ламаду, сидя вблизи своих ульев, объяснял мне ГеоргикиВергилия [299]299
…сидя вблизи своих ульев, объяснял мне «Георгики» Вергилия. – Одна из частей поэмы древнеримского поэта Вергилия (70–19 гг. до н. э.) «Георгики», посвященной сельскому хозяйству, трактует вопросы пчеловодства.
[Закрыть]. Я воображал, что счастливее меня нет на свете, и жил, довольствуясь обществом своего наставника и мадемуазель Розы, дочери вахмистра. Но на земле нет долговечного счастья. Однажды утром мать, поцеловав меня, сунула в карман моей куртки монету в шесть ливров. Мои вещи были уложены. Отец вскочил на лошадь и, посадив меня позади себя, повез в лангрский коллеж. Весь долгий путь я думал о моей комнатке, где осенью воздух был напоен запахом плодов, хранившихся на чердаке; о фруктовом саде, куда отец водил меня по воскресеньям собирать яблоки с деревьев, привитых его собственной рукою; о Розе, о моих сестрах, о матери и о самом себе, бедном изгнаннике! Я ехал с тяжелым сердцем и с трудом удерживал слезы, которые навертывались на глаза. Наконец после пяти часов путешествия мы прибыли в город и спешились перед высокой дверью, на которой я прочел слово, повергшее меня в трепет: Collegium [300]300
Школа (лат.).
[Закрыть]. Ректор коллежа, священник Оратории [301]301
…священник Оратории… – Оратория – монашеский орден, основанный во Франции в 1611 г., а также церковь, принадлежащая этому ордену.
[Закрыть], отец Феваль, принял нас в большом выбеленном известкой зале. Это был человек еще молодой и статный, и его улыбка меня ободрила. Мой отец никогда не изменял себе и при знакомстве всякий раз выказывал природную живость, простодушие и прямоту.
– Ваше преподобие, – сказал он, указывая на меня, – я привел к вам моего единственного сына, звать его Пьером в честь крестного отца, а фамилия его Обье. Фамилию эту я получил от моего покойного родителя, и как была она незапятнана, такой сам получил и передал ее я своему сыну. Пьер мой единственный сынок, раз его мать, Мадлена Ордалю, подарила мне только одного сына да трех дочерей, которых я воспитываю самым лучшим образом. А что касается судьбы моих дочек, так, во-первых, она в руках божьих, а потом мужниных! Говорят, они красивы, не смею этому не верить. Но красота вещь слишком ненадежная, чтобы о ней печься. Не ищи красоты, а ищи доброты, как говорится. Что же касается моего сына Пьера, здесь присутствующего (произнося эти слова, отец так опустил мне на плечо свою мощную длань, что я присел), то, если он будет жить в страхе божьем и знать латынь, быть ему священником! А посему покорнейше прошу, ваше преподобие, проэкзаменовать его как следует, чтобы судить о его природных способностях. Обнаружите в нем какие-нибудь достоинства, держите его у себя. Я охотно буду платить что следует. Если же, напротив, посчитаете, что он ни на что не годен, известите меня, я тотчас возьму его домой, и будет он мастерить ножи, как и его отец. Потому что ваш покорный слуга – ножовщик, ваше преподобие.
Священник обещал в точности исполнить его просьбу. Обнадеженный обещанием ректора, отец стал прощаться. С трудом подавляя рыдания, исказившие его лицо, и стыдясь выказать волнение, он напустил на себя суровость, и я вместо родительских объятий получил изрядный тумак. Когда он ушел, отец Феваль из приемной провел меня в сад, в тенистую аллею густолиственных грабов; и там, прохаживаясь под купами дерев, он произнес:
К моему счастью, я узнал по архаичности формы и тяжести просодии стих древнего Энния [303]303
…я узнал по архаичности формы и тяжести просодии стих древнего Энния… – Энний (239–169 гг. до н. э.) – древнеримский поэт, автор поэмы «Анналы».
[Закрыть]и весьма кстати заметил отцу Февалю, что Вергилий был более достоин воспевать прелесть тенистой прохлады: frigus opacum! Отец Феваль, по-видимому, остался доволен учтивостью ответа. Он предложил мне несколько вопросов из латинской грамматики. И благосклонно выслушал мои ответы.
– Хорошо, – сказал он, – при большом прилежании, очень большом прилежании, вы можете поступить в четвертый класс. Пойдемте, я хочу сам представить вас вашему наставнику и сотоварищам по классу.
Покамест мы гуляли, я не чувствовал себя покинутым, и понемногу у меня отлегло от сердца. Но, очутившись среди учеников моего класса, в присутствии нашего наставника Журсанво, я впал в полное отчаяние. Г-н Журсанво не обладал приветливостью и пленительной простотой ректора. Он показался мне куда более напыщенным, черствым и скрытным. При невысоком росте у него была большая голова, изо рта выступали четыре желтых зуба, а слова со свистом срывались с его бледных губ. Я тут же подумал, что такие уста не достойны произносить имя Лавинии [304]304
Лавиния – одна из героинь поэмы Вергилия «Энеида», невеста Турна, сраженного троянцем Энеем.
[Закрыть], еще более мне любезное, нежели имя Роза. Ибо, надобно покаяться, идиллическая и царственная невеста несчастного Турна в моем воображении блистала величавой красотой. Ее идеальный образ затмил несколько грубоватую красоту дочери вахмистра. Г-н Журсанво – таково было имя нашего преподавателя в четвертом классе – мне вовсе не нравился. Товарищи по классу внушали мне страх: мне казалось, что они слишком уж озорничают, и я не без основания опасался, как бы мое простодушие не сделало меня смешным. Мне очень хотелось плакать.
Однако боязнь людского осуждения превозмогла горе, и я не дал волю слезам.
Вечером я вышел из коллежа и отправился разыскивать жилище, нанятое для меня в городе отцом. Я поселился, вместе с пятью другими школьниками, у ремесленника, жена которого готовила для нас пищу. Каждый из нас платил ей двадцать пять су в месяц.
На первых порах мои одноклассники пытались смеяться над моей нескладной одеждой и деревенскими повадками, но оставили свои шутки, увидев, что они на меня не действуют. Один из них, тщедушный мальчишка, сын прокурора, не унимался, всячески передразнивая мои дурные манеры и неуклюжесть, за что получил такой увесистый удар кулаком, что закаялся впредь попадаться мне под руку. Журсанво меня весьма не жаловал; но безупречное выполнение мною школьных работ не давало ему повода меня наказать. Злоупотребляя своей властью, этот переменчивый, жестокий и придирчивый человек естественно вызывал возмущение в классе, и было несколько случаев открытого неповиновения ему; впрочем, к этому я был непричастен. Однажды, гуляя в саду с ректором, явно благоволившим ко мне, я вздумал похвалиться перед ним своим добронравием.
– Отец мой, – сказал я ему, – я не участвовал в этой последней истории.
– Есть чем хвалиться, – сказал отец Феваль с презрением в голосе, кольнувшим меня в самое сердце.
Низость он ненавидел более всего на свете. И я поклялся впредь не позволять себе ни на словах, ни на деле ничего бесчестного; если с того дня я остерегался лжи и трусости, то обязан этим сему превосходному человеку.
Отец Феваль не был философом, он исповедовал правила нравственности, а не догмат веры савойского викария! [305]305
…догмат веры Савойского викария. – Имеется в виду эпизод из романа Жан-Жака Руссо «Эмиль» – «Исповедание веры Савойского викария», где излагаются принципы руссоистской «религии сердца».
[Закрыть]Он верил во все, во что положено верить священнику. Но ему претила показное благочестие, и он не терпел, чтобы имя божие упоминали всуе. Со всей ясностью он выказал это в день рождества, когда к нему пришел отец Журсанво с доносом на нечестивцев, наливших в канун праздника чернил в кропильницу.
В крайнем возмущении, готовый разразиться проклятиями, отец Журсанво бормотал:
– Конечно, дело темное!
– По причине чернил, – невозмутимо отвечал ему наш ректор.
Этот высоко достойный человек усматривал корень всех зол в малодушии. Он часто говорил: «Люцифер и непокорные ангелы пали из-за своей гордыни. Вот почему, даже попав в ад, они остаются князьями тьмы и имеют страшную власть над теми, кто осужден на вечные муки. Если бы причиной их падения была трусость, то и в преисподней они служили бы только посмешищем и игралищем для грешных душ. Даже держава зла ускользнула бы из их презренных рук!»
На каникулы я с великой радостью вернулся домой. Но наш дом показался мне очень маленьким. Когда я вошел, мать, склонившись над очагом, снимала накипь с бульона. Моя милая мама тоже показалась мне совсем маленькой; и я, рыдая, обнял ее.
Не выпуская шумовки из рук, она рассказала мне, что отец, согбенный годами и недугами, вовсе запустил фруктовый сад; что старшая сестра просватана за сына бочара, а приходского пономаря нашли в его комнате мертвым с бутылкою в руках; притом окоченевшие пальцы так вцепились в горлышко, что, казалось, не удастся их разжать. Но разве пристойно было внести пономаря в церковь вместе с бутылкой из-под красного вина! Слушая мать, я впервые остро почувствовал, как летит время и как превратны наши судьбы; и на меня нашло оцепенение.
– Какой ты у меня пригожий, сынок! – говорила мать. – Ну, право же, в канифасовом полукафтане ты вылитый маленький кюре!
Тут вошла в залу мадемуазель Роза; она покраснела, увидев меня, и притворилась удивленной моим приездом. Я заметил, что она интересуется мной, и втайне был польщен. Но с ней я держался чинно, как подобает особе духовного звания. Большую часть каникул я провел, гуляя с отцом Ламаду.
Между нами было условлено говорить только по-латыни. И вот, идя рядом, не глядя по сторонам, мы чинно прохаживались по проселочным дорогам, меж пажитей, где трудились поселяне, среди опаленных зноем полей и лесов, целомудренные, чопорные, серьезные, исполненные презрения к суетным удовольствиям и гордые своей ученостью.
Я возвратился в коллеж с твердым решением войти в конгрегацию Оратории. Я уже видел себя в треугольной шляпе, как у отца Ламаду, в сутане, черных панталонах, шерстяных чулках и башмаках с пряжками, погруженным в размышления о красноречии Цицерона или об учении блаженного Августина, представлял себе, как я пробираюсь сквозь толпу, важно отвечая на поклоны дам и нищих, склонившихся передо мной. Увы! Призрак женщины нарушил прекрасные мечты. До той поры я знал лишь Лавинию и мадемуазель Розу. Я узнал Дидону [306]306
Дидона – карфагенская царица, покончившая с собой после того, как ее покинул Эней («Энеида» Вергилия).
[Закрыть]и почувствовал, как огонь пробежал по моим жилам. Образ той, что блуждала в миртовой роще с вечной раной в груди, склонялся бессонной ночью над моим ложем.
В часы вечерних прогулок мне казалось, что это она, вся в белом, скользит меж деревьев, как луна между облаков. Плененный этим блистательным образом, я боялся вступить в конгрегацию. Однако ж я облачился в сутану, которая была мне удивительно к лицу. Когда я вернулся домой в таком одеянии, мать с поклоном присела передо мной, а Роза, прикрывая лицо фартуком, расплакалась. Затем она подняла на меня свои прекрасные глаза, столь же чистые, как ее слезы.
– Господин Пьер, – сказала она, – сама не знаю, почему я плачу!
Она была трогательна. Но она не походила на луну в облаках. Я не любил ее; я любил Дидону.
Тот год ознаменовался для меня большим горем. Я потерял отца, который скончался почти внезапно от водянки.
В свои последние минуты он благословил детей и завещал им жить честно и не забывать о боге. Он принял смерть с кротостью, совсем не свойственной его натуре. Казалось, без сожаления и даже с радостью расставался он с жизнью, к которой так крепко был привязан всеми узами своей пылкой души. И я понял, что тому, кто чист сердцем, умирать легче, нежели думают.
Я решил заменить отца старшим сестрам, которые уже были невестами, и составить утешение моей матери; она год от году делалась все меньше ростом, все слабее и все трогательнее.
Итак, в короткое время я из ребенка стал мужчиной. Я окончил свое обучение у членов конгрегации Оратории, превосходных наставников, у отца Ланса, Порике и Мариона, которые, прозябая в далекой, глухой провинции, посвятили себя воспитанию детей, хотя их блестящие дарования и глубокая ученость оказали бы честь Академии надписей. Ректор же превосходил их всех возвышенностью ума и красотою души.
В те дни, когда я заканчивал свое философское образование под руководством этих выдающихся учителей, грозный рокот народных волнений докатился до нашей провинции и проник сквозь толстые стены коллежа. Говорили о созыве Генеральных штатов [307]307
Говорили о созыве Генеральных штатов. – Генеральные штаты – сословно-представительное учреждение во Франции, – были созваны Людовиком XVI в мае 1789 г., после 175-летнего перерыва, и объявили себя Национальным собранием. Это было начало буржуазной революции.
[Закрыть], требовали преобразований и ожидали больших перемен. Новые книги, которые давали нам читать наши наставники, возвещали близкий возврат золотого века.
Когда пришло время расстаться с коллежем, я со слезами обнял отца Феваля.
Он нежно прижал меня к груди. Затем повел под сень грабов, где шесть лет тому назад я впервые беседовал с ним.
Там, взяв меня за руку, он наклонился и, глядя мне в глаза, сказал:
– Помните, дитя мое, что при слабости воли ум – ничто! Вам, может статься, уготована долгая жизнь и вы увидите, как зарождается новый порядок в нашей стране. Великие перемены не совершаются без потрясений. Вспомните тогда о том, что я вам говорю сегодня: ум – слабый помощник в сложном сплетении обстоятельств; лишь нравственная сила спасает то, что должно быть спасено!
И пока он говорил так при выходе из грабовой аллеи, солнце, стоявшее низко на горизонте, облекло его в пурпур и озарило своим закатным лучом его прекрасное задумчивое лицо. Я удержал в памяти его слова, поразившие меня, хотя и не вполне понимал их смысл. Тогда я был только школьником, притом самым заурядным. Истина этой житейской мудрости открылась мне во всей полноте лишь в годину последующих событий, преподавших мне жестокий урок.
II
Я отказался от намерения стать священником. Но надобно было на что-то жить. Не для того изучал я латынь, чтобы выделывать ножи в предместье маленького городка. Я лелеял иные мечты. Наша мыза, коровы, наш сад не удовлетворяли моего честолюбия. Красоту Розы я находил грубой. Мать внушала мне, что только в таком городе, как Париж, могут вполне расцвести мои способности. Я легко свыкся с этой мыслью. Я заказал платье у лучшего портного в Лангре. В кафтане, со шпагой, стальной эфес которой приподнимал полу, я был так хорош, что не сомневался более в благосклонности фортуны. Отец Феваль дал мне письмо к герцогу де Пюибонну, и 12 июля достопамятного 1789 года, снабженный латинскими книгами, пышками, свиным салом и напутствиями, обливаясь слезами, я сел в дилижанс. Я въехал в Париж через Сент-Антуанское предместье, показавшееся мне еще более убогим, нежели самые бедные деревушки нашей провинции. Я пожалел от всей души и тех несчастных, что здесь жили, и самого себя, покинувшего родительский дом и наш фруктовый сад в поисках счастья среди этих отверженных. Однако торговец винами, ехавший вместе со мной в дилижансе, объяснил мне, что жители предместья ликуют, потому что разрушена некая старая тюрьма: Бастилия-Сент-Антуан. Он уверял меня, что Неккер [308]308
Неккер Жак (1732–1804) – женевский банкир, министр финансов при Людовике XVI. Его отставка 11 июля 1789 г. вызвала протест со стороны Национального собрания.
[Закрыть]тотчас вернет золотой век. Но парикмахер, слышавший наш разговор, утверждал, что Неккер погубит страну, если король тотчас же не даст ему отставку.