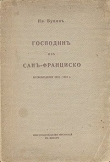Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 52 страниц)
(Продолжение)
Мой добрый учитель, повернувшись ко мне, продолжал:
– Я привел это сказание об ангеле и отшельнике только для того, чтобы показать, какая пропасть отделяет мирское от духовного. Ибо правосудие человеческое проявляется только в мирском, а это – злачная юдоль, где высокие принципы не находят себе применения. Какой тяжкий грех перед господом нашим Иисусом Христом – водружать образ его в судилище, где судьи оправдывают фарисеев, его распявших, и осуждают Магдалину, которую он поднял своими божественными руками. Что делать ему, справедливому, среди этих людей, которые не могут быть справедливыми, даже если бы хотели, ибо их жалкая обязанность состоит в том, чтобы судить дела ближних своих, не вдаваясь в их суть или побуждения, а руководствуясь лишь интересами общества, то есть, попросту говоря, поощрять это чудовищное сплетение эгоизма, жадности, обмана и злоупотреблений, – все то, из чего создаются государства и что они, судьи, поставлены слепо охранять. Взвешивая проступок, они кладут на ту же чашу весов гнев или страх, внушаемый этим проступком трусливой толпе. И все это вписано в их книгу, и сей древний свод и мертвая буква заменяют им разум, сердце и душу живую. И все эти заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры [253]253
…заветы, из коих некоторые уцелели от позорных времен Византии и Феодоры… – Феодора – супруга византийского императора Юстиниана Великого (VI в.); согласно преданию в юности была бродячей комедианткой и куртизанкой.
[Закрыть], неизменно сходятся в одном – сохранить все как есть добродетели и пороки, чтобы все оставалось на своем месте в этом мире, который не желает меняться. Проступок сам по себе имеет в глазах закона столь мало значения, а внешние обстоятельства обретают такой вес, что одно и то же действие, законное в одном случае, считается непростительным в другом; примером можно привести пощечину: горожанина, который дал другому пощечину, всего лишь порицают за несдержанность, а солдата – отдают под суд и карают смертью. Сей пережиток варварства покроет нас позором в грядущих веках. Мы об этом не думаем; но когда-нибудь люди будут изумляться, что же это были за дикари, которые карали смертной казнью благородное негодование, заставляющее бурлить кровь юноши, обреченного законом на опасности войны и гнусности казармы. И ведь всякому ясно, что, если бы у нас действительно существовало правосудие, мы не завели бы двух кодексов – одного военного, а другого гражданского. Это казарменное правосудие, которое что ни день чинит расправы, отличается невообразимой жестокостью, и если когда-нибудь люди станут просвещенными, им трудно будет поверить, что могли некогда существовать такие порядки, при которых в мирное время военно-полевые суды карали смертью людей за оскорбление капралов и сержантов. Им трудно будет поверить, что людей прогоняли сквозь строй за преступление, именуемое бегством пред лицом неприятеля, во время экспедиции, в которой правительство Франции не признавало воюющих сторон. И больше всего поражает то, что все эти жестокости совершаются у христианских народов, которые чтут святого Себастьяна, мятежного воина, и мучеников Фивского легиона, вся слава коих в том и состоит, что они испытали на себе тяжесть военного суда, отказавшись воевать против багаудов [254]254
…святого Себастьяна мятежного воина… отказавшись воевать против багаудов… – По церковной легенде, римский воин Себастьян, начальник преторианцев императора Диоклетиана (III в.), был замучен за тайное исповедание христианства. Багауды – галльские земледельцы, дважды восстававшие в III в. против завоевателей-римлян.
[Закрыть]. Но оставим это, не будем говорить о правосудии солдафонов, которые, по пророчеству сына божия, сгинут с лица земли, и вернемся к судьям гражданским.
Судьи не читают в сердцах и не проникают в человеческие помыслы; поэтому даже самое справедливое их правосудие грубо и поверхностно. Многого им еще недостает до того, чтобы соблюдать хотя бы ту видимость справедливости, на которой зиждутся их законы. Они люди, а это значит, что они слабы и подкупны, к сильным людям предупредительны, а к малым людям безжалостны. Они узаконивают своими приговорами чудовищный произвол, и трудно понять, проистекает ли сие попустительство от их собственной низости, или же они почитают сие своим судейским долгом, который поистине сводится лишь к тому, чтобы поддерживать государство во всем, что в нем хорошо или дурно, печься о незыблемости общественных нравов, достойных или постыдных, и охранять наравне с правами граждан тиранический произвол государя, не говоря уже о тех нелепых и жестоких предрассудках, кои находят себе неприкосновенное убежище под гербом лилии.
Самый неподкупный судья, именно в силу своего нелицеприятия, способен вынести самый возмутительный и, быть может, более бесчеловечный приговор, нежели судья недобросовестный, и я, по правде сказать, не знаю, кого из двух следует опасаться, – того ли, кто сжился душой с буквой закона, или того, кто, еще сохранив какие-то остатки чувств, вкладывает их в превратное толкование сих законов. Этот принесет меня в жертву своим страстям или своей корысти, а тот хладнокровно пожертвует мною писанной букве.
Следует еще заметить, что судья по роду своей деятельности стоит на страже не новых предрассудков, коим мы все подвержены, но тех пережитков прошлого, которые сохраняются в законах и тогда, когда они уже давно исчезли из наших обычаев и из нашей памяти. И человек, обладающий хоть сколько-нибудь независимым умом и способностью размышлять, не может не видеть этой обветшалости закона, которую судья не имеет права замечать.
Но я говорю так, как если бы законы, какие бы они ни были варварские и дикие, отличались по крайней мере ясностью и определенностью. На самом же деле это далеко не так. Темные речи какого-нибудь колдуна легче понять, чем некоторые статьи наших кодексов и уложений обычного права. Эти трудности толкования сыграли немалую роль в создании различных судебных инстанций; предполагается, что ежели в чем-то не разберется местный судья, сие разберут господа высшие судьи. Но не слишком ли это много ожидать от пяти человек в красных мантиях и четырехугольных шапках, кои даже после прочтения Veni, Creator [255]255
Гряди, творец! (лат.)
[Закрыть]все равно остаются подвержены заблуждениям? И не лучше ли просто сознаться, что и высшая судебная инстанция выносит окончательный приговор лишь потому, что к ней прибегают уже после того, как пройдены все остальные. Государь держится того же мнения, ибо его суд выше верховного суда.
XXII. Правосудие
(Продолжение и конец)
Мой добрый учитель печально следил взором за течением реки, словно созерцая в сем образ нашего мира, где все течет и ничто не изменяется. Некоторое время он сидел молча, задумавшись, а потом заговорил тихим голосом:
– Уже одно то кажется мне непостижимым, сын мой, что именно судьи призваны вершить правосудие. Разве не ясно, что им требуется объявить виновным того, кого они с самого начала заподозрили? Их побуждает к этому кастовый дух, который их тесно сплачивает; вот почему во время судопроизводства они всячески отстраняют защиту, словно это какой-то назойливый любопытный, и допускают ее лишь после того, как обвинение предстанет во всеоружии, с суровым лицом, придав себе с помощью всяческих ухищрений вид прекрасной Минервы. По самому духу своей профессии они склонны видеть виновного в каждом обвиняемом, и их рвение кажется таким устрашающим некоторым европейским народам, что в крупных судебных делах они приставляют к судьям десяток граждан, избранных по жребию. Из этого следует, что случай в своей слепоте более способен оградить жизнь и свободу обвиняемого, нежели просвещенная совесть судей. Правда, эти присяжные, которых привел сюда жребий, не допускаются до сути дела и видят его только с парадной, показной стороны. Правда и то, что, поскольку они не сведущи в законах, им положено не применять закон, а лишь постановить коротко, одним словом, следует или нет в данном случае его применить. Говорят, что эти суды присяжных приводят иной раз к совершенно нелепым результатам, но народы, которые их у себя ввели, держатся за них как за своего рода крепкую защиту. Я охотно этому верю и могу понять, почему люди признают такого рода приговоры: они могут быть бессмысленными и жестокими, но по крайней мере их бессмысленность и жестокость никому нельзя вменить в вину. Можно примириться с несправедливостью, когда она до такой степени ни с чем не сообразна, что кажется невольной.
Этот маленький судебный пристав, который так превозносил правосудие, заподозрил меня в том, что я держу сторону воров и убийц. Напротив, мне так ненавистны воровство и убийство, что я не переношу их даже в исполнительных листах, скрепленных законом, и мне горестно видеть, что судьи не придумали ничего лучше для наказания мошенников и злодеев, кроме как подражать им; ибо, сказать по правде, Турнеброш, сын мой, что такое штрафы и смертные казни как не те же кражи и убийства, совершаемые с торжественной неотвратимостью? И разве ты не видишь, что наше правосудие, при всем своем величии, идет тем же постыдным путем – воздает злом за зло, несчастьем за несчастье, дабы не нарушить равновесия и симметрии, умножает вдвое злодейства и преступления. Здесь также можно высказать своего рода честность и бескорыстие; можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом [256]256
…можно проявить себя новым л'Опиталем так же, как и новым Джеффрисом. – Л'Опиталь Мишель (XVI в.) – президент верховного суда Франции; слыл неподкупным и гуманным. Джеффрис Джордж (XVII в.) – канцлер Англии в период реставрации династии Стюартов; жестоко преследовал бывших участников буржуазной революции.
[Закрыть]. Я сам знаю одного судью, очень порядочного человека. Но я потому и начал с самых основ, что мне хотелось показать истинную природу сей касты, которой гордыня судей и страх народа придали отнюдь не подобающее ей величие. Я хотел показать подлинное убожество этих сводов законов, которые нам преподносят как нечто священное, тогда как на самом деле они представляют собой собрание всевозможных ухищрений и уловок.
Увы! законы произошли от человека, – ничтожное и жалкое происхождение! Большинство из них зародилось случайно. Невежество, суеверие, честолюбие монарха, корысть законодателя, прихоть, фантазия – вот на чем зачинались эти высокие установления, которые возвеличивались по мере того, как они становились все более непостижимыми. Они окутаны мраком, и толкователи еще более сгущают его, дабы придать им величие древних оракулов. Я то и дело слышу и каждый день читаю в газетах, что наши законы ныне диктуются обстоятельствами и случаем. Это рассуждения близоруких людей, которые не видят того, что так оно и было спокон веков и что закон всегда обязан своим происхождением какой-нибудь случайности. Жалуются также на путаницу и противоречия, в которые постоянно впадают наши нынешние законодатели. И не замечают того, что и предшественники их тоже плутали в потемках.
А в сущности говоря, Турнеброш, сын мой, законы хороши или плохи не столько сами по себе, сколько по тому, как их применяют, и несправедливое установление не причинит зла, ежели судья не приведет его в действие. Обычаи сильнее законов. Мягкость нравов, незлобивость духа – вот единственные средства, коими можно разумно бороться с варварством законов. Ибо исправлять законы посредством законов – это долгий и сбивчивый путь. Только течение веков сокрушит то, что создавалось веками. И мало надежды, что некий французский Нума Помпилий повстречает когда-нибудь в Компьенском лесу или среди скал Фонтенебло новую нимфу Эгерию [257]257
…некий французский Нума Помпилий повстречает… новую нимфу Эгерию… – Согласно античному преданию второй римский царь Нума Помпилий установил законы, подсказанные ему нимфой Эгерией.
[Закрыть], которая продиктует ему мудрые законы.
Он устремил долгий взгляд на холмы, синевшие на горизонте. Лицо его было задумчиво и печально. Затем, ласково положив руку мне на плечо, он заговорил таким проникновенным голосом, что я почувствовал себя потрясенным до глубины души.
– Турнеброш, сын мой, – сказал он мне, – ты замечаешь, как я теряюсь и путаюсь, делаюсь косноязычным и глупым при одной только мысли об исправлении того, что кажется мне отвратительным. Не думай, что это робость духа: ничто не может смутить дерзаний моего разума. Но запомни хорошенько то, что я тебе сейчас скажу, сын мой. Истины, открытые разумом, остаются бесплодными. Только сердце способно оплодотворить мечты. Оно вливает жизнь во все, что оно любит. И семена добра, разбросанные в мире, посеяны чувством. Разум не способен сеять. И я признаюсь, что до сих пор был слишком рассудочен в своей критике законов и нравов. Поэтому критика моя не принесет плодов и засохнет, как дерево от апрельских заморозков. Чтобы служить людям, нужно отбросить разум прочь, как ненужный балласт, и взлететь на крыльях воодушевления. А тот, кто рассуждает, никогда не взлетит.
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАРЕЦ [258]258
«Перламутровый ларец» – второй сборник новелл Анатоля Франса (первым является «Валтасар», 1889).
Многие новеллы этого сборника были первоначально опубликованы в периодической печати, главным образом в газете «Temps» (с 1884 по 1892 г.): «Прокуратор Иудеи» – в 1891 г., «Амикус и Целестин» – в 1890 г., «Святая Евфросиния» – в 1891 г. и т. д. Отдельным изданием «Перламутровый ларец» вышел у издателей Кальман-Леви в 1892 г. Новеллы сборника распадаются на три тематические группы: новеллы, посвященные раннему христианству и облеченные в большинстве случаев в форму стилизованных церковных легенд, новеллы на различные темы из современности и, наконец, группа новелл о французской буржуазной революции конца XVIII в.
Эпоха заката античного мира и зарождения христианства привлекала внимание писателя в продолжение всего его творческого пути. Ей посвящено значительное количество произведений Франса в самых различных жанрах, начиная с ранней поэмы «Легенда о святой Таис, комедиантке» (1867) и кончая соответствующими главами сатирико-философского романа «Восстание ангелов» (1914).
Повышенный интерес Франса к этой переходной эпохе питался, с одной стороны, непреходящей любовью писателя к языческой культуре древних греков и римлян, с другой – ненавистью к религиозному фанатизму, догматике и аскетизму христианской церкви.
Открывающая «Перламутровый ларец» историческая новелла «Прокуратор Иудеи» переносит нас в атмосферу зарождения христианства, ставит у его колыбели. Реставрируя с помощью своей исторической эрудиции я творческого воображения жизнь Иудеи I в. н. э., Франс заставляет нас взглянуть на события глазами живых современников, свидетелей и непосредственных участников этих событий.
Главное внимание в новелле уделяется событиям, связанным с появлением христианства и жизнью Христа.
Известно, что христианские богословы приурочивают распятие Христа к периоду, когда Понтий Пилат был прокуратором Иудеи. В репликах действующих лиц новеллы, Понтия Пилата и Ламии, нетрудно усмотреть моменты, перекликающиеся с библейской легендой о Христе: Понтий упоминает о «каком-то безумце», изгнавшем из храма торговцев птицами, Ламия вспоминает о своей возлюбленной иудейке-танцовщице (имеется в виду Мария Магдалина), последовавшей «за каким-то галилейским чудотворцем». Ламия уточняет образ этого чудотворца: «Он называл себя Иисусом Назареем и впоследствии был распят за какое-то преступление».
Личность Христа в репликах собеседников лишена всякой определенности: «какой-то безумец», «какой-то галилейский чудотворец», «за какое-то преступление»; Ламия, что вполне естественно для язычника-римлянина, называет Христа «человеком», а не пророком, не богом. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, который согласно библейской легенде «умыл руки», то есть отказался от вмешательства в дело Христа, обреченного на распятие, в новелле Франса вспоминает мельчайшие подробности своей жизни и прокураторской деятельности в Иудее, но, оказывается, никакого Христа-Назарея припомнить не может.
Факт существования Христа в новелле не отрицается. Но образ Христа снижен, сознательно лишен того ореола, которым его окружила библейская легенда. Новелла заключает мысль о том, что современники зачастую не способны постичь объективный смысл деятельности окружающих их людей, в полной мере оценить все историческое значение происходящих вокруг них событий. Именно эту мысль имел в виду Франс, когда заметил о своем «Прокураторе Иудеи»: «Под видом фантазии я, кажется, еще никогда не был так близок к исторической истине». Впоследствии эта идея проходит у Франса и через вставную новеллу «Галлион» в книге «На белом камне». Герой ее Галлион указывает, что имя «Христос» носили многие рабы, и выделить из них одного было бы делом нелегким. Участник диалога Николь Ланжелье, близкий автору многими своими высказываниями, уже прямо утверждает, что жизнь Христа выдумана евангелистами и богословами. В сатирической новелле «Пютуа» (сб. «Кренкебиль», 1904) Франс в пародийной форме показал процесс формирования религиозного мифа: история созданного человеческим воображением Пютуа толкуется одним из героев новеллы «как экстракт, как сжатая формулировка всех человеческих верований».
Скепсис Франса по отношению к мифу о Христе, его критическое отношение к христианству в целом определили характер всех его новелл на сюжеты церковных легенд.
Подобно тому, как это было в «Прокураторе Иудеи», в новеллах «Амикус и Целестин», «Легенда о святых Оливерии и Либеретте», «Святая Евфросиния», «Схоластика», «Жонглер богоматери», «Обедня теней», Франс условно принимает на веру сверхъестественный элемент христианских легенд, чтобы потом, с помощью иронии, а в отдельных случаях и прямого авторского комментария выразить свой тонко замаскированный атеизм.
В новелле «Амикус и Целестин» фавн подвергается добровольному крещению, впоследствии его чтут как святого. Казалось бы, что на этом примере можно иллюстрировать торжество христианства. Но тут же, как бы невзначай, автор роняет замечания о том, что, «несмотря на все усилия, отшельнику так и не удалось втолковать получеловеку (то есть фавну Амикусу) неизреченные тайны», что для изгнания бесов отнюдь недостаточно одного евангелия от Иоанна, что побороть языческих фей – не такое уж легкое дело даже для святого отшельника, «обладавшего теми познаниями, которые дает человеку созерцание бога», – и вся нарисованная картина приобретает ироническую окраску.
В наивной и человечной средневековой легенде о жонглере богоматери Франса привлекала парадоксальность самой, вполне «франсовской», ситуации. Источником новеллы Франса является французское фаблио на этот сюжет. Герой новеллы, жонглер, то есть народный бродячий комедиант, Барнабе, в честь богоматери «вниз головою, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами» пред алтарем святой девы. Образ Барнабе отнюдь не сатиричен; рассказывая его историю, писатель не упускает случая заметить, что, добывая в поте лица свой хлеб, он более чем кто-либо другой платился за грех праотца Адама. Явное сочувствие к горемыке-труженику находится в прямом соответствии с утверждением его простонародного антиаскетического искусства, противостоящего мертвой религиозной догме.
Монашеский аскетизм становится объектом авторской насмешки в новелле «Схоластика». Благочестивый Инъюриоз отказался от супружеской жизни со Схоластикой, которая решила посвятить себя богу. Разумно ли поведение простодушного супруга? Его не оправдывает даже сама Схоластика. В противовес христианской доктрине аскетизма язычник Сильвен истолковывает чудо, свершившееся на могиле героини, в том смысле, что надобно «вкушать радости жизни, пока есть время». Что это одновременно и мнение автора, доказывается многими другими его произведениями.
Ключом к пониманию внутреннего смысла франсовских стилизаций церковных легенд является также авторская «библиографическая» приписка к новелле «Святая Евфросиния». Рассказав в «благочестивом» тоне об уходе в монастырь Евфросинии, ее жениха Лонгина и ее отца Ромула, Франс шутливо называет свою новеллу «ученым трудом», иронизирует над точностью датировки («между седьмым и четырнадцатым столетием христианского летоисчисления») и «византийской чопорностью стиля» своего мнимого источника и кончает характерным признанием, касающимся существа рассказа: «Быть может, он даже представляет собой сплошную нелепость». Так сам Франс раскрывает иронический смысл своих стилизаций.
Скепсис по отношению к религии и «археологический» интерес к христианским древностям, свойственные раннему Франсу, со временем, по мере общественно-политической активизации Франса и его сближения с демократическими кругами, перерастают в воинствующий атеизм, определивший появление острой сатиры на церковь и религию в зрелом творчестве писателя.
В новеллах, написанных на материале церковных легенд, уже наметились приемы тонкой пародии и стилизации, которые будут использованы для обличения религии и церкви в «Острове пингвинов», «Чуде святого Николая» и «Восстании ангелов».
Темам из современной Франсу буржуазной действительности в «Перламутровом ларце» посвящены новеллы: «Лесли Вуд», «Гестас» и «Записки сельского врача». Правда, в 1886 г. Франс опубликовал в периодике еще две новеллы: «Граф Морен» и «Маргарита», в которых имеются элементы критики буржуазных парламентариев и государственной машины Третьей республики. Однако автор не включил эти новеллы в сборник.
В 80-е годы Франс только начинал осваивать современную тематику.
«Лесли Вуд» – это «Схоластика», перенесенная из средневековья в современность. Идейная направленность обеих новелл одна и та же: она в осуждении аскетизма. При этом в «Лесли Вуде» губительность аскетизма, уродующего и опустошающего человеческую личность, подчеркнута всем объективным смыслом повествования, хотя автор нигде прямо не высказывает ни своего гнева, ни осуждения.
В новелле «Гестас» Франс изображает простодушного пьянчужку, и прегрешения и раскаяние которого обрисованы со снисходительной иронией. Не случайно герой назван именем разбойника, распятого, по библейской легенде, рядом с Христом и после смерти попавшего в рай. Французская критика не без основания усматривает в образе Гестаса черты сходства с поэтом символистом Полем Верленом, который был связан с парижской литературной богемой и в то же время в своих стихах отдал дань религиозному мистицизму. Это предположение подтверждается портретным сходством Гестаса с Верленом, а также близостью самой новеллы к критической статье Франса о Поле Верлене, написанной в те же годы.
Характер литературной полемики против натуралистической теории наследственности носят «Записки сельского врача». Называя Эмиля Золя по имени, Франс выражает сомнение в «универсальности» его схемы, согласно которой наследственность неумолимо определяет характер, поведение и даже профессию человека. В «Записках сельского врача» изображается чета крестьян, не блистающих особым умственным развитием, у которой, наперекор натуралистической доктрине, родился талантливый ребенок. Врач-рассказчик, свободный от предрассудков господствующих классов, претендующих на монополию в области ума и таланта, с восхищением отмечает в этом рано умершем крестьянском мальчике «одного из тех великих людей, которые… всюду, куда их забрасывает судьба, делают полезное и хорошее дело». Даже внешностью маленький Элуа напоминает физика Ампера.
К утверждению талантливости выходцев из народа Франс вернется еще в «Современной истории», где в одном из эпизодов показана печальная участь сына сапожника Фирмена Пьеданьеля, жертвы реакционных клерикалов.
Вошедшие в «Перламутровый ларец» новеллы о французской буржуазной революции конца XVIII в. представляют собой переработанные фрагменты из неудавшегося романа Франса «Алтари страха», главы из которых печатались в «Le Journal des Debats» в марте 1884 г. Заглавие романа было заимствовано у А. Шенье, французского поэта-роялиста конца XVIII в., казненного во время революции.
Следуя за реакционными историками французской буржуазной революции, автор «Алтарей страха» показал якобинский террор как бессмысленную жестокость. В начале романа группа интеллигентов, собравшихся за ужином у молодой вдовы-аристократки Фанни д'Авенэ в день штурма Бастилии, приветствует начало революции, на которую возлагает большие надежды; однако в ходе дальнейших событий основные герои романа, и в том числе Фанни д'Авенэ, сами становятся жертвами революционного террора – почтя все они попадают на гильотину по вздорному обвинению в подстрекательстве граждан к мятежу против республики, в убийствах, в организации голода, в выпуске фальшивых денег и т. п.
Неудача романа «Алтари страха» объясняется односторонним и тенденциозным освещением основных социальных сил, действовавших в революционную эпоху, тем, что случайные события выдаются здесь за типические.
А. Франс, очевидно, сам почувствовал свою неудачу и отказался от мысли создать эпическую картину революции; но отдельные эпизоды задуманного романа он использовал в своих новеллах. Из одиннадцати глав «Алтарей страха» шесть легли в основу сюжета новелл, включенных в сборник «Перламутровый ларец»: «Рассвет», «Мадам де Люзи», «Дарованная смерть», «Эпизод из времен флореаля II года республики» (новелла построена на материале двух глав романа) и «Обыск». Отдельные места из второй главы романа вошли в новеллу «Записки волонтера». Чтобы придать вновь созданным новеллам характер самостоятельных и законченных произведений, писатель вывел основных героев романа в разных новеллах под различными именами. В издании «Перламутрового ларца» 1922 г. Франс убрал из новеллы «Дарованная смерть» даже простое упоминание заглавия «Алтари страха», заменив его заглавием «Разоблаченные санкюлоты».
Тенденциозное освещение событий революции, характерное для «Алтарей страха», в той или иной форме сохранилось и в новеллах-осколках несостоявшегося романа. В первую очередь это относится к «Мадам де Люзи», «Дарованной смерти», «Эпизоду из времен флореаля II года республики» и «Обыску».
Жертвы якобинского террора здесь героизируются: они человечны, способны на любовь и самопожертвование, наделены присутствием духа, преисполнены благородства в минуты крайней опасности и суровых испытаний. Им противопоставлены активные участники революции, изображенные в виде мелкотравчатых карьеристов и эгоистов, мстящих своим жертвам за личные обиды: таковы начальник отдела гражданской стражи мясник Любен, преследующий философа Планшоне («Мадам де Люзи»); заместитель прокурора революционного трибунала, бывший капуцин Лардийон; начальник квартала, бывший обойщик Броше, чьи «налитые кровью глаза вечно исполнены ужаса», потому что он предчувствует и свою собственную гибель («Обыск»).
В новелле «Записки волонтера» герой-рассказчик Пьер восхваляет «гуманность, сострадание и самоотвержение» своего доброго наставника аббата Феваля и противопоставляет ему другого своего учителя, бывшего аббата Журсанво, который стал сторонником революции и поэтому обрисован в новелле как «гнусный негодяй». Недоброжелательство рассказчика к представителям революционного лагеря сквозит и в характеристиках членов революционного комитета секции.
Чтобы спастись от террора, Пьер отправляется добровольцем в республиканскую армию; невольный защитник революции, он лишен понимания ее целей и задач.
Однако следует отметить, что, несмотря на односторонность франсовской картины революционной эпохи, в новеллах цикла заключено немало частных сцен и зарисовок, верных исторической правде.
Действие новеллы «Рассвет» приурочено ко дню штурма Бастилии. Скупыми и вместе с тем яркими мазками Франс рисует образы молодой вдовы, руссоистки Софи, которая приветствует революцию и верит, что она «пересоздает мир», философа-атеиста Франшо, в свое время брошенного в Бастилию за письмо в защиту веротерпимости, врача Дюверне, который однажды не приехал к больному дофину, так как задержался из-за родов одной крестьянки. Автор, однако, дает понять, что энтузиазм собеседников, собравшихся за ужином у Софи, их вера в «золотой век», «эру братства» не имеют под собой почвы. В новелле прямо говорится о «буржуазии, дождавшейся, наконец, своего царствования».
В «Записках волонтера» рисуются яркие картины бурлящего революционного Парижа.
Картина революции, нарисованная А. Франсом в «Перламутровом ларце», противоречива; в этой картине подчеркнута и «тупая жестокость» революции и «высокий восторг, который революции подъемлют с городских мостовых и возносят к пламенному солнцу».
Потерпев неудачу с романом «Алтари страха» и не сумев преодолеть его недостатков в новеллах о французской революции, вошедших в «Перламутровый ларец», Франс в последующих произведениях («Красная лилия», «Современная история», «Остров пингвинов») снова и снова возвращается к этой теме; наконец он посвящает французской буржуазной революции конца XVIII в. роман «Боги жаждут». По сравнению с новеллами «Перламутрового ларца» роман этот являет собой более углубленное и более объективное раскрытие революционной эпохи.
[Закрыть](L’ÉTUI DE NACRE)
ПРОКУРАТОР ИУДЕИ
Л. Элий Ламия, родом из Италии, происходивший из знатного семейства, не сбросив еще претексты [259]259
…не сбросив еще претексты… – то есть не выйдя из отроческого возраста. Претекста – белая тога с пурпуровой каймой по краю – в древнем Риме носилась мальчиками до шестнадцати лет, некоторыми чиновниками и жрецами.
[Закрыть], отправился изучать философию в афинских школах. Возвратившись в Рим, он поселился в своем доме на Эсквилинском холме и со всей пылкостью юности предался наслаждениям и рассеянию в обществе молодых распутников. Но, будучи обвинен в греховной связи с Лепидой, супругой бывшего консула Сульпиция Квирина, он был изгнан из Италии Тиберием Цезарем [260]260
Тиберий Цезарь – римский император (14–37 гг. н. э.).
[Закрыть]. Было ему тогда двадцать четыре года. В бытность свою в изгнании, длившемся восемнадцать лет, он посетил Сирию, Палестину, Каппадокию, Армению и подолгу жил в Антиохии, Кесарии и Иерусалиме. Когда же после смерти Тиберия во главе империи встал Гай [261]261
Гай (Калигула) – римский император (37–41 гг. н. э.).
[Закрыть], Ламии было разрешено вернуться в Вечный город. И скоро даже часть прежних владений перешла опять в его руки. Несчастия умудрили его.
Он бежал всякого общения с женщинами вольного поведения, не искал высоких должностей и, познав тщету почестей, уединился в своем эсквилинском доме. Записывая на таблички впечатления, вынесенные из долгих странствий, он, по его словам, воспоминаниями о былых невзгодах оживлял безбурное настоящее. Так, погруженный в сии мирные занятия и в размышления над трудами Эпикура, он не без удивления и горечи встретил приближение старости. В возрасте шестидесяти двух лет, мучась докучливым ревматизмом, он направился на воды в Байи. Побережье, некогда облюбованное морскими ласточками, ныне было излюбленной резиденцией богатых римлян, жаждущих удовольствий. В течение недели Ламия жил замкнуто, чуждаясь блестящей толпы; и вот однажды, после обеда, почувствовав себя в добром здравии, он решил взобраться на прибрежные холмы, подобно вакханкам увитые виноградом и смотревшиеся в воды залива.
Взойдя на вершину холма, он присел у тропинки, в тени терпентинного дерева; и оттуда взору его представился дивный пейзаж. По левую сторону, до самых развалин Кум, простирались бесплодные и голые Флегрейские поля. По правую сторону Мисенский мыс врезался своим острием в Тирренское море. А у самых ног роскошные Байи раскинули вдоль изящных излучин побережья свои сады, свои виллы со статуями, портиками, мраморными террасами, спускавшимися ступенями к самому лазурному морю, где плескались дельфины. А вдали, по ту сторону залива, на берегах Кампании, позлащенные солнцем, уже клонившимся к закату, горели куполы храмов, осененные лаврами Позилиппо, и на дальнем горизонте курился Везувий.
Ламия вынул из складок тоги свиток и, растянувшись на траве, погрузился в чтение трактата «О природе». Но при окрике раба он принужден был встать и пропустить носилки, ибо тропа, пролегавшая меж виноградниками, была узка. Занавеси на носилках были откинуты, и Ламия увидел возлежавшего на подушках тучного старца, который, подперев голову рукой, глядел вдаль с сумрачным и надменным видом. Его орлиный нос нависал на самые губы, выпяченные благодаря строению мощных челюстей с резко очертанным изгибом подбородка.
Лицо его показалось Ламии знакомым. Он колебался лишь одно мгновение. И вдруг, бросившись к носилкам в порыве удивления и радости, он воскликнул:
– Понтий Пилат! Благодарение богам, дарующим мне радость встречи с тобой!
Старик подал рабам знак остановиться и устремил внимательный взгляд на человека, который его приветствовал.
– О Понтий, любезный мой покровитель! – восклицал тот. – За двадцать лет разлуки волосы мои так убелились сединами и щеки так ввалились, что ты не узнаешь более своего Элия Ламию!
При этом имени Понтий Пилат сошел с носилок с живостью, какую только позволяли его преклонный возраст и величавость. И он дважды облобызал Элия Ламию.
– Воистину, встреча с тобой мне сладостна! – сказал он. – Ты напоминаешь мне былые дни, когда я, увы, был прокуратором Иудеи в провинции Сирии. Тридцать лет уже минуло с того дня, как я впервые увидел тебя. То было в Кесарии, где ты томился в изгнании. Мне посчастливилось несколько облегчить твою участь; и ты из дружества, Ламия, последовал за мной в унылый Иерусалим, где иудеи дали мне испить терпкую чашу огорчений. Свыше десяти лет пребывал ты моим гостем и спутником жизни; и вспоминая Город [262]262
…вспоминая Город… – то есть вспоминая Рим.
[Закрыть], мы с тобою отвлекались: ты – от своих несчастий, я – от своего величия.
Ламия облобызал его вторично.
– Ты не сказал всего, Понтий: ты не упомянул о том, что, пользуясь своим влиянием, ты ходатайствовал за меня перед Иродом Антипой [263]263
Ирод Антипа (Антипатр) – сын иудейского царя Ирода Великого, правитель Галилеи и Переи (I в. н. э.).
[Закрыть]и широко открыл для меня свой кошелек.
– Не будем говорить об этом, – отвечал Понтий. – Вернувшись в Рим, ты послал мне с вольноотпущенником крупную сумму денег, с избытком покрывшую твой долг.
– И в помыслах у меня не было расквитаться с тобой деньгами, Понтий! Но ответь мне: боги исполнили твои желания? Наслаждаешься ли ты заслуженным покоем? Расскажи, здоров ли ты и твои близкие, умножил ли ты свое состояние?
– Удалившись в Сицилию, где находятся мои владения, я занялся сельским хозяйством и вот теперь торгую пшеницей. Старшая дочь моя, дражайшая Понтия, овдовев, поселилась со мной и взяла в свои руки управление моим домом. Благодарение богам, я сохранил ясность ума; память моя не ослабела. Но старость всегда приводит с собою множество немощей. Меня жестоко мучит подагра. И ты встретил меня на пути во Флегрейские поля, куда я направляюсь в надежде найти исцеление своим недугам. Там раскаленная земля ночью выбрасывает из своих недр пламя и едкие сернистые пары, которые, как говорят, утоляют боль в суставах и возвращают им гибкость. Так по крайней мере уверяют медики.
– О любезный мой Понтий! Да помогут тебе боги испытать на себе врачующее действие сернистых испарений! Но, несмотря на подагру с ее жгучим жалом, ты кажешься моим ровесником, а ведь ты старше меня на десять лет. Поистине, в тебе и поныне более сил, нежели во мне было смолоду. И я радуюсь, видя тебя столь бодрым. Зачем же, друг мой, ты так рано отступился от общественных обязанностей? Зачем, будучи отстранен от управления Иудеей, ты добровольно удалился в изгнание в свое сицилийское поместье? Скажи, что делал ты, расставшись со мною – свидетелем твоей жизни? Когда я уезжал в Каппадокию, полагая извлечь пользу из разведения лошадей и мулов, ты готовился подавить восстание самаритян. Я не видел тебя с того времени. Увенчался ли успехом усмирительный поход? Рассказывай же, говори! Все, что касается тебя, меня интересует.
Понтий Пилат грустно покачал головой.
– По врожденной добросовестности и из чувства долга я нес общественные обязанности не только с усердием, но и с любовью. Но людская ненависть преследовала меня, лишая покоя. Происки и клевета подкосили мою жизнь в самом расцвете и иссушили ее плоды, не дав им созреть. Ты спрашиваешь меня о восстании самаритян? Присядем на этот холмик. Я отвечу тебе в кратких словах. События тех дней свежи в моей памяти, как если б то было лишь вчера.
Какой-то плебей, владевший даром слова, как это часто встречается в Сирии, убедил самаритян собраться на горе Гаризим, которая почитается в этой стране святым местом, пообещав показать им священные сосуды, укрытые там еще во времена Эвандра и Энея, нашего праотца [264]264
…еще во времена Эвандра и Энея, нашего праотца… – Эвандр – см. прим. к стр. 598. Эней – легендарный основатель Римского государства (воспет в поэме Вергилия «Энеида»).
[Закрыть], каким-то иудейским героем, архонтом [265]265
Архонт – здесь сановник в Палестине.
[Закрыть], вернее, каким-то древним богом, по имени Моисей. Это и послужило поводом к восстанию самаритян. Но мне вовремя донесли об этом, и я приказал солдатам занять гору, а всадникам охранять подступы к ней.
Меры предосторожности были необходимы. Мятежники уже осадили городок Тирахаба, что у подножия горы Гаризим. Я легко рассеял их толпы и подавил мятеж в самом его зародыше. Затем, желая избежать кровопролития и все же преподать хороший урок, я приказал казнить зачинщиков мятежа. Но ты знаешь, Ламия, в какой зависимости держал меня проконсул Вителлий, который, управляя Сирией, действовал не в пользу Рима, а во вред ему, вообразив, что провинции Римской империи раздаются тетрархам как поместья. Старейшины самаритян из ненависти ко мне припали к его стопам с жалобами. Они якобы были далеки от мысли выйти из повиновения Цезарю. Я-де сам, своей жестокостью, вынудил их прибегнуть к оружию, и они собрались у стен Тирахаба только для того, чтобы защищаться. Вителлий внял их жалобам и, поручив управление Иудеей своему другу Марцеллу, приказал мне ехать в Рим и дать императору отчет в своих действиях. С сердцем, исполненным скорби и жажды отмщения, взошел я на борт корабля. В то время как я подплывал к берегам Италии, Тиберий, изнуренный годами и государственными заботами, внезапно скончался на Мисенском мысе, оконечность которого видна отсюда сквозь вечерний туман. Я искал правосудия у Гая, его преемника, одаренного от природы живым умом и хорошо знающего положение дел в Сирии. Но подивись вместе со мной, Ламия, несправедливости судьбы, уготовившей мою гибель! В Риме состоял тогда при Гае наперсник, друг его детства, иудей Агриппа, которого он оберегал как зеницу ока. Агриппа благоволил к Вителлию, ибо Вителлий был врагом Антипы, которого Агриппа преследовал своей ненавистью. Император в угоду своему возлюбленному азиату отказался даже выслушать меня. Пришлось снести незаслуженную немилость. Глотая слезы накипавшей злобы, я удалился в свои сицилийские владения, где умер бы от тоски, если б моя кроткая Понтия не явилась мне утешением. Я стал выращивать пшеницу, и теперь во всей провинции не встретить таких тучных злаков, как на моих полях. Ныне жизнь моя кончена. Будущее рассудит нас с Вителлием.
– Я убежден, Понтий, – отвечал Ламия, – что ты обошелся с самаритянами со всей прямотой, свойственной твоей натуре, и единственно в интересах Рима. Но не слишком ли поддался ты на сей раз запальчивости, которая постоянно увлекает тебя? Ты помнишь, как часто случалось мне, еще в бытность нашу в Иудее, подавать тебе советы благоразумия и терпимости, хоть я был моложе тебя и, стало быть, горячее?
– Терпимость в отношении иудеев! – воскликнул Понтий Пилат. – Хоть ты и жил среди них, плохо ты знаешь этих врагов рода человеческого. Кичливые и вместе с тем подлые, они совмещают в себе постыдную трусость с непреодолимым упрямством и равно не заслуживают ни любви, ни ненависти. Я воспитан, Ламия, на принципах божественного Августа. Когда я был назначен прокуратором Иудеи, величие римского гения уже оказывало свое влияние на весь мир. Проконсулы не обогащались за счет провинций, как это бывало во времена гражданских смут. Я сознавал свой долг. Я вменил себе в закон действовать мудро и осторожно. Боги свидетели, я всегда старался избегать жестокостей. Но к чему привели мои благие намерения? Ты помнишь, Ламия: едва я вступил в управление Иудеей, вспыхнуло первое восстание. Нужно ли напоминать тебе, при каких обстоятельствах оно произошло? Гарнизон Кесарии переходил на зимние квартиры в Иерусалим. Легионеры несли знамена с изображением Цезаря. Жители Иерусалима, не признававшие божественности императора, сочли себя оскорбленными, словно повиноваться богу, если уж приходится повиноваться, менее достойно, нежели человеку! Иудейские первосвященники явились перед судилищем и с высокомерным смирением стали просить меня удалить знамена из священного города. Я отказал им в этой просьбе из уважения к божественной особе Цезаря и к величию Империи. Тогда плебс вкупе с первосвященниками окружил преторию с причитаниями и угрозами. Я приказал солдатам составить копья пирамидой перед башней Антонии и, вооружившись, как ликторы, фасцами [266]266
…вооружившись, как ликторы, фасцами… – Фасцы – пучки прутьев со вставленными в них небольшими топориками, которые держали в руках римские ликторы при сопровождении должностных лиц.
[Закрыть], рассеять дерзкую толпу. Но иудеи словно не чувствовали ударов; они посылали мне проклятия, а самые неистовые из них легли на землю, вопя во все горло, и, казалось, готовы были умереть под розгами. Ты был свидетелем моего унижения, Ламия. По приказанию Вителлия я был вынужден отправить знамена обратно в Кесарию. Поистине, такой позор был мною не заслужен! Перед лицом бессмертных богов клянусь, что ни разу в бытность мою прокуратором Иудеи не преступил я закона и справедливости! Но я стар. Мои враги и клеветники мертвы. Я умру не отомщенным. Кто станет моим посмертным защитником?
Он вздохнул и умолк. Ламия отвечал:
– Туманное будущее не должно тревожить мудреца ни опасениями, ни надеждой. Не все ли равно, что будут люди думать о нас? Мы сами свидетели и судьи своих деяний. Сохрани, Понтий Пилат, уверенность в своей нравственной правоте. Удовольствуйся собственным самоуважением и уважением твоих друзей. К тому же нельзя управлять народами при помощи одной лишь гуманности. Человеколюбие, к которому взывают философы, не вяжется с обязанностями правителей.
– Отложим нашу беседу, – сказал Понтий. – Сернистые испарения Флегрейских полей действеннее, когда они исходят от земли, накаленной солнечными лучами. Я должен спешить. Прощай! Но раз счастливый случай свел меня с другом, я хочу этим воспользоваться. Элий Ламия, окажи мне честь отужинать завтра со мною. Мой дом находится на краю города, у самого берега моря, близ Мисены. Ты легко узнаешь его по живописи над портиком: там изображен Орфей в окружении львов и тигров, зачарованных звуками его лиры. Завтра свидимся, Ламия, – сказал он еще раз, уже всходя на носилки. – Завтра побеседуем об Иудее.
На следующий день Ламия в назначенный час пришел к Понтию Пилату. Всего два ложа ожидали сотрапезников. К столу, накрытому без излишней пышности, но достаточно богато, на серебряных блюдах были поданы смоква в меду, дрозды, лукринские устрицы и сицилийские миноги. За ужином Понтий и Ламия вели речь о своих недугах, пространно описывали их признаки и давали друг другу советы, как пользоваться рекомендованными им средствами. Из признательности к Байям, соединившим их, они наперебой превозносили красоту этого побережья и благотворное действие здешнего воздуха.
Ламия восхвалял прелести куртизанок, которые прохаживались по взморью, увешанные драгоценностями, волоча за собою покрывала, расшитые варварами. Но старый прокуратор порицал суетное тщеславие, из-за которого в обмен на каменья и паутину, сотканную человеческими руками, римское золото переходило к иноплеменникам и даже к врагам Империи. Затем речь зашла о широких строительных работах в стране; упомянут был мост, возведенный Гаем между Путеолами и Байями, и каналы, прорытые Августом, через которые воды Тирренского моря вливаются в Авернское и Лукринское озера.
– И у меня было намерение осуществить большие общественные работы, – сказал Понтий вздыхая. – Став, к своему несчастью, правителем Иудеи, я замыслил построить акведук протяжением в двести стадий, который мог бы в изобилии снабжать Иерусалим чистой водой. Высота уровней, масштабы модулей, уклоны медных водохранилищ, от которых должны были расходиться водоносные трубы, – все было мною предусмотрено, и я сам, с помощью механиков, выполнил чертежи. Я подготовил указ о порядке пользования водой, чтобы никто из граждан не мог брать ее больше, чем дозволено. Зодчие и рабочие были уже на месте. Я приказал приступить к работам. Но, вместо того чтобы возрадоваться закладке акведука, который должен был покоиться на мощных мостовых арках и вместе с водой внести в город оздоровление, жители Иерусалима подняли отчаянный вопль. Обвиняя меня в кощунстве, в осквернении святынь, они с криком набросились на работников и разметали камни фундамента. Встречал ли ты, Ламия, более гнусных варваров? Однако ж Вителлий принял их сторону, и я получил приказ прервать сооружение акведука.
– Большой еще вопрос, нужно ли делать добро людям вопреки их воле, – сказал Ламия.
Понтий Пилат, не слушая, продолжал:
– Отказаться от акведука! Какое безумие! Но все, что исходит от римлян, ненавистно иудеям. Мы для них существа нечистые, и уже одно наше присутствие внушает им отвращение. Ты знаешь, что они не решались войти в преторию из боязни оскверниться, и я вынужден был вершить суд под открытым небом, на мраморных плитах мостовой, по которой ты не раз прохаживался.
Они нас боятся и презирают. Но разве Римская империя – не мать и покровительница всех народов, которые, как дети, мирно почиют в лоне ее славы? Наши орлы разнесли по всей вселенной благовестие мира и свободы. Мы обращаемся с побежденными народами как с друзьями, не чиним им никаких притеснений, уважаем их обычаи и законы. Разве покорение Птоломеем Сирии, которую раздирали междоусобицы ее многочисленных правителей, не принесло этой стране успокоения и процветания? И хотя Рим мог бы ценить свои благодеяния на вес золота, однако ж он не посягнул на сокровища, от которых ломятся храмы иноплеменных! Не ограбил же он богиню-Матерь в Песинунте, Юпитера в Моримене и Киликии, иудейского бога в Иерусалиме! Антиохия, Пальмира, Апамея наслаждаются покоем, несмотря на свои богатства, и, уже не опасаясь набегов арабов из пустыни, воздвигают храмы во славу римского гения и в честь божественного Цезаря. Одни лишь иудеи ненавидят нас и держат себя с нами вызывающе. Налоги с них приходится взимать силою, и они упорно уклоняются от воинской службы.
– Иудеи цепко держатся за древние обычаи, – отвечал Ламия. – Они подозревали, и, разумеется, без всякого основания, что ты посягаешь на их законы и желаешь изменить их нравы. Позволь тебе сказать, Понтий, что твои действия не всегда способствовали тому, чтобы рассеять это злосчастное заблуждение. Тебе доставляло удовольствие, хотя ты и не отдавал себе в том отчета, возбуждать в иудеях беспокойство, и я наблюдал не раз, с каким явным презрением относился ты к их верованиям и религиозным обрядам. Раздражение их достигло высшей степени, когда ты приказал легионерам охранять в башне Антонии утварь храма и облачение первосвященника. Надо признать, что, хотя иудеи и не возвысились, как мы, до восприятия божественных истин, все же их религиозные таинства достойны уважения, хотя бы ради их древности. Понтий Пилат пожал плечами.
– Они не имеют ясного представления о природе богов, – сказал он. – Они поклоняются Юпитеру, но не дают ему имени и не облекают его в зримый образ. Не создают они и кумиров из камня, как иные азиатские народы. Им неизвестны Аполлон, Нептун, Марс, Плутон, ни одна из богинь. Порою мне кажется, что в древности они поклонялись Венере. Ибо и поныне иудейские женщины приносят на жертвенный алтарь голубей; и ты не хуже меня знаешь, что торговцы, устроившись под портиками храма, продают этих птиц попарно для жертвоприношений. Однажды мне сказали, что какой-то безумец, опрокинув клетки, изгнал торгующих из храма. Священники обратились с жалобой на святотатца. Я думаю, что обычай приносить в жертву двух горлиц установлен в честь Венеры. Чему ты смеешься, Ламия?