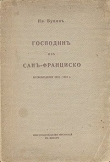Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
По приказанию Кокбера его супруга, дородная особа в поярковой шляпе поверх белого чепца, постелила кровать в комнате нижнего этажа. Она помогла нам раздеть г-на аббата Куаньяра и уложить его в постель. После чего отправилась за священником.
Тем временем г-н Кокбер осмотрел рану.
– Посмотрите, – сказал я, – какая она маленькая и почти что не кровоточит.
– То-то и плохо, – ответил он, – и совсем мне не нравится, молодой человек. По мне, пусть рана будет побольше да посильнее кровоточит.
– Ничего не скажешь, – заметил г-н д'Анктиль, – для брадобрея и сельского костоправа у него зоркий глаз. Нет ничего опаснее маленьких глубоких ран, совсем безобидных с виду. Возьмите, например, сабельный удар по лицу. И смотреть приятно и затягивается за неделю. Но знайте, почтеннейший, ранен мой капеллан, он же мой партнер в пикет. Можете ли вы поставить его на ноги, достаточно ли вы сведущи для этого, господин клистирщик?
– К вашим услугам, сударь, – с поклоном отвечал костоправ, – я брадобрей, но я также вправляю вывихи и врачую раны. Сейчас осмотрю вашего больного.
– Только поскорее, сударь, – взмолился я.
– Терпение, терпение! – сказал костоправ. – Сначала нужно промыть рану, и я жду, пока в котелке закипит вода.
Мой добрый учитель снова пришел в себя и произнес медленно, но твердым голосом:
– Со светильником в руке обойдет он закоулки Иерусалима, и все, что было тайным, станет явным.
– Что, что вы сказали, мой добрый учитель?
– Обожди, сын мой, – ответил он, – я веду беседу со своей душой, как и пристало моему нынешнему положению.
– Вода закипела, – обратился ко мне брадобрей. – Приблизьтесь-ка к постели и подержите таз. Сейчас я промою рану.
В то время как сельский костоправ промывал рану доброго моего наставника губкой, смоченной в теплой воде, в горницу вошла г-жа Кокбер в сопровождении священника. Тот держал в руке корзинку и садовые ножницы.
– Так вот он, бедняга, – проговорил он. – А я уже было отправился на виноградник; однако первый наш долг печься о лозе господней. Сын мой, – добавил он, подходя к аббату, – положитесь в недугах своих на всевышнего. Станем надеяться, что болезнь не так серьезна, как может показаться. А пока что надлежит исполнять волю господню.
Потом, повернувшись к брадобрею, он спросил:
– Дело спешное, господии Кокбер, или я успею еще заглянуть на свой участок? Белый-то виноград еще может подождать, пусть получше дозреет, и даже дождик ему на пользу – еще сочнее станет. Но вот черный – самая пора снимать.
– Верно вы говорите, ваше преподобие, – отозвался Кокбер, – в моем винограднике многие гроздья уже начали гнить: от солнышка спаслись, а от дождя погибнут.
– Увы, влага да засуха – вот два исконных врага виноградаря, – вздохнул священник.
– Ваша правда, – подхватил брадобрей, – но сейчас я исследую больного.
С этими словами он нажал пальцем на рану,
– Ох, палач! – со стоном воскликнул страдалец.
– Не забывайте, что Христос отпустил палачам своим, – заметил священник.
– Да, но они не были брадобреями, – ответил аббат.
– Злокозненные речения, – промолвил священник.
– Не следует попрекать умирающего, если он и пошутит, – сказал мой добрый наставник. – Но я жестоко страдаю: этот человек меня убил, и я умираю дважды. В первый раз я пал от иудейской десницы.
– Как это понимать? – осведомился священник.
– Самое разумное, ваше преподобие, не обращать внимания. Мало ли чего больной не скажет. Все это бред.
– Неправильно вы говорите, Кокбер, – прервал его священник. – Надобно уметь понимать речи больного в час исповеди, ведь бывает, что христианин за всю свою жизнь ничего путного не сказал, а на смертном одре такое мудрое слово произнесет, что перед ним откроются врата рая.
– Я имел в виду земную жизнь, – ответил брадобрей.
– Ваше преподобие, – обратился я к священнику. – Господии аббат Куаньяр, мой добрый наставник, вовсе не бредит, и, увы, более чем достоверно, что его убил некий иудей, именуемый Мозаидом.
– В таком случае, – подхватил священник, – раненый должен усмотреть в том особую милость господа бога, возжелавшего, дабы он погиб от руки потомка тех, что распяли Христа. Сколь удивительны пути провидения в нашем грешном мире. Значит, Кокбер, я еще успею заглянуть на свой участок?
– Можете, ваше преподобие, – ответил брадобрей. – Рана мне не нравится, но от таких ран умирают не вдруг. Это, ваше преподобие, такая рана, которая еще всласть наиграется с больным, как кошка с мышью, и при этой игре можно выиграть время.
– Ну и прекрасно, – подхватил священник. – Возблагодарим бога, сын мой, что он продлил часы вашей жизни; но бытие наше преходяще и недолговечно. Надобно быть готовым расстаться с жизнью в любую минуту.
Мой добрый наставник ответствовал торжественным тоном:
– Быть на земле и как бы не быть на ней; владеть, как бы не владея, ибо изменчив лик мира сего.
Снова вооружившись корзиной и ножницами, священник сказал:
– Не столько по вашему облачению и панталонам, сын мой, которые, проходя, я заметил на спинке стула, сколько по вашим речам я понял, что вы человек духовного звания и святой жизни. Были ли вы посвящены в сан?
– Он священнослужитель, – отвечал я, – доктор богословских наук и профессор красноречия.
– А какой епархии? – осведомился священник.
– Сеэзской в Нормандии, руанского викариата.
– Недурная церковная вотчина, – одобрил священник, – но все же уступает в смысле древности и славы рейнской, служителем которой являюсь я.
И он вышел. Г-н Жером Куаньяр провел день довольно спокойно. Иахиль вызвалась сидеть ночью у постели больного. В одиннадцать часов вечера я покинул жилище г-на Кокбера и отправился на розыски постоялого двора почтенного Голара. Тут я столкнулся с г-ном д'Астараком: в свете луны его непомерно огромная тень лежала от одного угла площади до другого. По своей привычке он положил руку мне на плечо и промолвил обычным торжественным тоном:
– Хочу, наконец, сын мой, успокоить вас; только с этой целью я и согласился сопутствовать Мозаиду. Я вижу, что вас жестоко терзает нежить. Эта земная мелкота обступила вас, одурачила фантасмагориями, обольстила обманными видениями и под конец толкнула на бегство из моего дома.
– Увы, сударь, – отвечал я, – совершенно справедливо, что я оставил ваш гостеприимный кров, выказав себя человеком неблагодарным, за что и молю простить меня. Но меня преследовали стражники, а отнюдь не домовые и нежить. И добрый мой наставник убит. Какая уж тут фантасмагория.
– Не сомневайтесь в том, – подхватил великий кабалист, – что несчастного аббата сразила насмерть рука сильфов, чьи тайны он неосторожно выдал. Он похитил из шкафа несколько драгоценных каменьев, которые только еще начали мастерить сильфы, и потому эти розочки пока уступают бриллиантам в блеске и чистоте воды.
– Вот эта-то алчность, а также слово «Агла», неосмотрительно им произнесенное, и разгневало сильфов. А вам следует знать, сын мой, – даже философам не дано остановить карающей десницы этого вспыльчивого народца. Сверхъестественным путем, а также из донесения Критона я знал о безбожном посягательстве господина Куаньяра, дерзко похвалявшегося, что ему удалось подсмотреть, каким способом саламандры, сильфы и гномы выпаривают утреннюю росу и постепенно обращают ее в кристаллы и алмазы.
– Увы, сударь, смею заверить вас, что он об этом и не помышлял и что его поразил на дороге своим стилетом ужасный Мозаид.
Мои слова сильно пришлись не по вкусу г-ну д'Астараку, и он весьма настоятельно посоветовал мне никогда не вести подобных речей,
– Мозаид, – добавил он, – достаточно искусен в кабалистике, и ему нет нужды гоняться за врагами, которых он хочет поразить. Знайте, сын мой, если б он действительно намеревался убить господина Куаньяра, он мог бы преспокойно сделать это, не покидая своей комнаты, прибегнув к магическим пассам. Вижу, что вам еще неведомы первоосновы кабалистической науки. На самом же деле произошло вот что: сей ученый муж, узнав от верного Критона о побеге племянницы, сел в карету и пустился в дорогу с целью догнать ее и вернуть домой. Что он и сделал бы, если б увидел, что в душе этой несчастной сохранился хотя бы проблеск сожаления и раскаяния. Но, убедившись, что она безвозвратно погрязла в пороках, он предпочел отлучить ее и проклясть именем Сфер, Колес и чудищ Елисеевых. И он выполнил свое намерение на моих глазах в своей карете, где и сейчас пребывает в уединении, не желая делить с христианами ложе и трапезу.
Молча внимал я этим речам, произносившимся как бы в забытьи: этот необыкновенный человек говорил так красноречиво, что даже смутил меня.
– Почему, – говорил он, – вы противитесь тому, чтобы вас просветил философ? Какую мудрость, сын мой, можете вы противопоставить моей? Знайте же, что ваша мудрость уступает моей лишь количественно, но по сути своей не отличается от нее. Вам, так же как и мне, природа представляется как бесконечное множество образов, которые подлежат изучению и упорядочению и составляют как бы длинную цепь иероглифов. Вы без труда опознаете многие из этих знаков, с которыми связываете определенный смысл; но вы чересчур склонны довольствоваться смыслом обыденным и буквальным и недостаточно ищете идеального и символического. Меж тем мир познаваем только лишь как символ, и все, что мы созерцаем во вселенной, не что иное, как азбука образов, которую людская чернь еле разбирает по складам, не понимая ее смысла. Ученые, заполняющие наши академии, лишь беспомощно мямлят и блеют на этом вселенском языке; бойтесь же подражать им, сын мой, и примите лучше из моих рук ключ ко всякому знанию.
Он помолчал и заговорил уже более доверительным тоном:
– Вас преследуют, сын мой, не столь опасные враги, как сильфы. И вашей саламандре нетрудно будет освободить вас от всей этой нежити, если вы только попросите ее об этом. Повторяю вам, я приехал с Мозаидом лишь затем, чтобы дать вам добрый совет и поторопить вас возвратиться ко мне для продолжения начатых нами трудов. Я понимаю, что вы хотите присутствовать при последних часах вашего несчастного учителя. Предоставляю вам полную свободу. Но не замедлите затем вернуться в мой дом. Прощайте! Нынешней ночью я возвращаюсь в Париж вместе с нашим великим Мозаидом, которого вы столь несправедливо заподозрили.
Я пообещал г-ну д'Астараку сделать все, что он пожелает, и уныло поплелся на постоялый двор, где, упав на убогое ложе, забылся, разбитый усталостью и горем.
* * *
На рассвете следующего дня я уже снова был в доме костоправа и застал там Иахиль неподвижно сидящей на сломанном стуле у изголовья славного моего учителя; в черной накидке на голове она походила на самую заботливую, усердную и долготерпеливую сиделку. Г-н Куаньяр лежал в полузабытьи, лицо его пылало.
– Он провел тяжелую ночь, – тихо сказала Иахиль. – Все время разговаривал, пел, называл меня сестрой Жерменой и обращался ко мне с игривыми предложениями. О, я, конечно, не обижаюсь, но посудите, как же помутился его ум.
– Увы! Если бы вы не обманули меня, Иахиль, – вскричал я, – если бы не пустились в дорогу с этим дворянином, добрый мой наставник не лежал бы здесь, в постели, с пронзенной грудью!
– Если я о чем и сожалею горько, так это как раз о беде, приключившейся с нашим другом, – ответила она. – Об остальном же, право, не стоит и говорить, и я диву даюсь, как можете вы помнить об этих пустяках в такую минуту.
– Я только и делаю что думаю об этом, – ответил я.
– А я вовсе не думаю, – перебила она, – Свое горе вы сами на три четверти сочинили.
– Что вы хотите этим сказать, Иахиль?
– А то, друг мой, что я только выткала канву, вы же вышиваете по ней узоры, и воображение ваше слишком щедро расцвечивает простой житейский случай. Клянусь вам, я уже не помню и четверти того, что вас терзает, но вы упорно возвращаетесь к этому предмету и не можете забыть о сопернике, о котором я вспоминаю куда реже. Выкиньте все это из головы и не мешайте мне дать питье аббату; видите, он просыпается.
В эту минуту г-н Кокбер приблизился к постели, раскрыл свою сумку, сделал перевязку и во всеуслышанье заявил, что рана, по-видимому, затягивается. Потом он отвел меня в сторону.
– Могу вас заверить, сударь, – проговорил он, – что наш славный аббат не умрет от полученной раны. Но, по правде сказать, я опасаюсь, что ему не оправиться от острого воспаления плевры, вызванного ранением. Сейчас его сильно лихорадит. Но вот и его преподобие.
Мой добрый наставник сразу же узнал вошедшего и учтиво осведомился, как он поживает.
– Не в пример лучше, чем мой виноградник, – отвечал священник, – он изрядно попорчен филоксерой и червями, которые должны были бы погибнуть после торжественного крестного хода с хоругвями, устроенного духовенством Дижона нынче весной. Придется, видно, в наступающем году устроить еще более торжественное шествие и не жалеть свечей. А духовному судье надобно будет снова предать анафеме насекомых, вредящих винограду.
– Господин кюре, говорят, будто в своих виноградниках вы развлекаетесь с девицами, – промолвил славный мой учитель. – Фи! Это в ваши-то лета! В молодости и я, признаться, подобно вам был падок до девчонок. Но время усмирило мою плоть, и я недавно пропустил мимо монашенку, так ничего и не сказав ей. Вы же, ваше преподобие, видать, совсем иначе управляетесь и с девицами и с бутылками. Но вы поступаете и того хуже – не служите обеден, за которые вам уплачено, и торгуете церковным добром. Вы – двоеженец и святокупец.
Священник слушал эти речи в горестном изумлении; он так и застыл с отверстым ртом, а щеки его обвисли скорбными складками по обе стороны мясистого подбородка.
– Сколь кощунственное оскорбление сана, коим я облечен! – вздохнул он, подняв взор к потолку. – И что за речи ведет он, уже готовясь предстать перед божьим судом! О господин аббат! Подобает ли вам говорить такие вещи, вам, кто прожил святую жизнь и изучил столько книг?
Добрый мой учитель приподнялся на локтях. Лихорадка, словно в насмешку, возвратила его лицу то выражение лукавой веселости, которое некогда так пленяло нас.
– Истинно, я изучал древних авторов, – проговорил оп. – Но мне довелось прочесть куда меньше, чем второму викарию его преосвященства, епископа Сеэзского. Хотя внешне и внутренне он походил на осла, но оказался еще более усердным книгочием, нежели я, ибо был он косоглаз и пробегал по две страницы сразу. Вот оно как, ваше блудодейственное преподобие! Что? Набегался, старый греховодник, по притонам в лунные ночи? Подружка твоя, священник, вылитая ведьма. Смотри, какая у нее борода! Это – супруга костоправа-брадобрея. У него знатные рога, так ему и надо, недоноску этому, чьи медицинские познания ограничиваются умением ставить клистир.
– Боже милостивый! Что он такое мелет? – вскричала г-жа Кокбер. – Должно быть, в него бес вселился.
– Немало мне доводилось слышать бреда, – заметил г-н Кокбер, – но ни один больной не вел столь злонамеренных речей.
– Вижу я, – произнес священник, – нам придется немало помучиться, прежде чем удастся приуготовить его к честной кончине. Натуре этого человека присущи язвительность и склонность к непристойностям, чего я поначалу не заметил. Он ведет речи, не подобающие священнослужителю, да еще тяжело больному.
– Тут виной горячка, – вмешался костоправ-брадобрей.
– Однако, – продолжал священник, – горячка эта, если ее не приостановить, может привести его прямехонько в ад. Он только что выказал полное неуважение к духовному сану. И все же я возвращусь увещевать его завтра, ибо мой долг, по примеру спасителя нашего, проявить к нему бесконечное милосердие. Но на этот счет у меня есть немалые сомнения. В довершение бед в моей давильне появилась трещина, а все работники заняты в виноградниках. Кокбер, не сочтите за труд сказать об этом плотнику; вы призовете меня к раненому, если состояние его внезапно ухудшится. Да, забот, как видите, хватает, Кокбер!
На следующий день г-ну Куаньяру настолько полегчало, что у нас зародилась надежда на его выздоровление. Учитель выпил бульона и даже сел, облокотившись на подушки. Он обращался к каждому из нас с присущими ему изяществом и добротою. Г-н д'Анктиль, который остановился на постоялом дворе Голара, посетил его и довольно некстати предложил сыграть в пикет. Добрый мой наставник, улыбнувшись, пообещал сразиться с ним на следующей неделе. Однако к исходу дня у него снова сделался жар. Он побледнел, в глазах его застыл невыразимый ужас; дрожа всем телом и щелкая зубами, он вскричал:
– Вот он, старый жидюга! Это – сын Иуды Искариота, которого тот прижил с ведьмой, принявшей обличье козы. Но он будет повешен на отцовской смоковнице, и внутренности его вывалятся наземь. Хватайте его… Он меня убивает! Мне холодно!
Минуту спустя, отбросив одеяло, больной пожаловался, что изнывает от жары.
– Меня нестерпимо мучит жажда, – проговорил он. – Дайте вина! Но остудите его. Госпожа Кокбер, скорее освежите его в водоеме, ведь день обещает быть жарким.
Стояла ночь, но в мозгу аббата путалось представление о времени.
– Живее, – торопил он г-жу Кокбер, – смотрите, только не окажитесь столь просты, как звонарь сеэзской кафедральной церкви: отправившись к колодцу, дабы вытащить оттуда бутылки с вином, которое он охлаждал, человек этот увидел в воде собственное отражение и принялся вопить: «Ко мне, господа, скорей, на помощь! Там внизу объявились антиподы, они выпьют все наше вино, если мы их вовремя не обуздаем».
– Да он весельчак, – заметила г-жа Кокбер. – Однако только что он делал на мой счет весьма непристойные предположения. Если бы я и изменяла Кокберу, то уж, конечно, не с их преподобием, принимая во внимание сан и возраст господина кюре.
Как раз в это мгновение в комнату вошел священник.
– Ну, как, господин аббат? – обратился он к моему наставнику. – В каком расположении духа вы находитесь? Что новенького?
– Благодарение богу, в мозгу моем нет ничего нового, – отвечал г-н Куаньяр. – Ибо, как изрек святой Иоанн Златоуст, – бегите новизны. Не ходите тропами непроторенными: стоит только раз сбиться с пути, и станешь плутать до гроба. Я – печальный пример тому. Я тем и погубил себя, что пустился неторной стезею. Послушался своего внутреннего голоса, и он вверг меня в бездну. Ваше преподобие, я жалкий грешник. Безмерность моих прегрешений гнетет меня.
– Вот истинно прекрасные речи, – воскликнул священник. – Это сам господь бог внушает их вам. Узнаю его неповторимый слог. Не желаете ли вы, чтобы мы приступили к спасению вашей души?
– С великой охотой, – отвечал г-н Куаньяр. – Ибо прегрешения мои ополчаются на меня. Я зрю среди них и великие, и малые, и кроваво-красные, и аспидно-черные. Зрю малорослые, что гарцуют на собаках и свиньях, зрю и другие, жирные, голые, с сосцами как бурдюки, с брюхом в огромных складках, с необъятными ягодицами.
– Может ли быть, – изумился священник, – что вы видите их столь отчетливо? Но если грехи ваши таковы, как вы утверждаете, сын мой, то лучше уж не описывать их, а попросту ненавидеть в душе своей.
– Уж не хотите ли вы, ваше преподобие, – продолжал аббат, – чтобы прегрешения мои походили на Адониса? Но хватит об этом. А вы, брадобрей, подайте мне питье. Знаком ли вам господин де ла Мюзардьер?
– Нет, сколько я припоминаю, – отвечал г-н Кокбер.
– Да будет вам известно, – продолжал мой добрый учитель, – он был весьма падок до женщин.
– Именно таким путем, – вмешался священник, – дьявол и берет обычно верх над человеком. Но куда вы клоните, сын мой?
– Сейчас поймете, – отвечал добрый мой наставник. – Господин де ла Мюзардьер назначил некоей девственнице свидание на конюшне. Она пришла, он же позволил ей уйти оттуда такой, какой она явилась. А знаете почему?
– Нет, – отозвался священник, – но оставим этот разговор.
– Напротив, – продолжал г-н Куаньяр. – Да будет вам ведомо, что он остерегся вступить с нею в плотское общение из боязни зачать жеребенка и навлечь на себя этим судебное преследование.
– Ах! – вырвалось у брадобрея. – Скорее уж должен он был бояться зачать осла.
– Вот именно, – подтвердил священник. – Но все это мало подвигает нас по пути в рай. Пора вернуться на стезю праведных. Ведь вы только что держали столь назидательные речи!
В ответ мой добрый наставник принялся петь довольно громким голосом:
Мы короля Луи повеселим:
В пятнадцать дудок мы ему дудим,
Ландериретта,
И вот уж в пляс пустилася метла,
Ландерира…
– Если вам хочется петь, сын мой, – заметил священник, – спойте уж лучше какой-нибудь добрый бургундский рождественский псалом. Так вы возрадуетесь духом и очиститесь.
– С превеликим удовольствием, – отвечал добрый мой учитель. – У Ги Барозе есть псалмы, которые, несмотря на их кажущуюся простонародность, блестят куда ярче бриллианта и стоят дороже золота. Вот этот, к примеру:
Студеные ночи стояли,
Как в мир наш спаситель пришел,
И в яслях его согревали
Дыханьем бычок и осел.
Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!
Костоправ, его жена и священник подхватили хором:
Немало быков и ослов
Мы в Галлии славной видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!
И добрый мой учитель продолжал голосом уже несколько ослабевшим:
Но главного мы не сказали:
Дыханием грея дитя,
Всю ночь без еды и питья
Бычок и осел простояли.
Немало быков и ослов
В парче и шелку мы видали,
Немало быков и ослов, —
Но был их удел не таков!
Потом он уронил голову на подушку и умолк.
– В этом христианине, – обратился к нам священник, – многое заслуживает похвалы, очень многое; еще совсем недавно я сам заслушался его прекрасных наставлений. Но я не могу не тревожиться за него, ибо все решает кончина, и никому не дано знать, что он прибережет для последнего часа. Господь по благости своей полагает наше спасение в едином миге; но только мгновение это должно быть последним, так что все и зависит от сего последнего мига, в сравнении с коим вся остальная жизнь – лишь звук пустой. Вот почему я и трепещу за нашего больного, ибо душу его яростно оспаривают ангелы и демоны. Но не следует отчаиваться в божественном милосердии.
* * *
Два дня мой добрый учитель провел в жестоком борении между жизнью и смертью. После чего он впал в крайнюю слабость.
– Надежды больше нет, – шепнул мне г-н Кокбер. – Взгляните, как голова его ушла в подушки и как заострился нос. Видите?
В самом деле, нос доброго моего учителя, некогда мясистый и багровый, походил теперь на выгнутый клинок и отливал свинцом.
– Турнеброш, сын мой, – сказал он мне голосом все еще ясным и сильным, но звук которого был мне вовсе не знаком. – Чувствую, что мне уже недолго жить. Ступай и призови сюда этого доброго пастыря, дабы он принял мою исповедь.
Священник был у себя в винограднике, я кинулся туда.
– Сбор винограда окончен, – сказал он мне, – и урожай оказался куда обильнее, чем я полагал; пойдемте же, я приму исповедь у этого страждущего.
Я проводил его к ложу доброго моего учителя и оставил наедине с умирающим.
По прошествии часа священник вышел к нам и сказал:
– Смею вас заверить, что господин Жером Куаньяр умирает, исполненный самых прекрасных чувств благочестия и смирения. Во внимание к его просьбе и рвению намереваюсь я причастить его святых тайн. Пока я стану облачаться в стихарь и эпитрахиль, вы, госпожа Кокбер, соблаговолите прислать в ризницу мальчика, что прислуживает мне ежеутренне во время обедни, и приготовьте комнату для приятия всеблагого господа.
Жена костоправа подмела пол, застлала постель белоснежным одеялом, придвинула к изголовью столик и покрыла его скатертью; она поставила на него два подсвечника с зажженными свечами и фаянсовую чашу со святой водою, в которой стояла веточка буксуса.
С дороги к нам донесся звук колокольчика, которым размахивал на ходу служка, и вскоре мальчик вступил в комнату с крестом в руках; за ним следовал облаченный в белые одеяния священник со святыми дарами. Все мы – Иахиль, г-н д'Анктиль, супруги Кокбер и я – опустились на колени.
– Pax huic domui [172]172
Мир дому сему (лат.).
[Закрыть]– возгласил священник.
– Et omnibus habitantibus in ea [173]173
И всем обитателям его (лат.).
[Закрыть], – подхватил служка.
После чего священник зачерпнул святой воды и окропил ею больного и ложе.
Он сосредоточенно помолчал с минуту и торжественно произнес:
– Сын мой, не желаете ли вы что-нибудь сказать?
– Желаю, господин кюре, – отвечал аббат Куаньяр твердым голосом. – Я прощаю убийце моему.
Тогда священнослужитель извлек из дароносицы остию и провозгласил:
– Esse agnus Dei, qui tollit peccata mundi [174]174
Се агнец божий, что принял на себя грехи человеческие (лат.).
[Закрыть].
Славный мой учитель ответил со вздохом:
– Как осмелюсь обратиться к господу моему я, кто всего лишь прах и пепел? Как дерзну предстать пред ликом его я, в ком нет ни на йоту благости, в коей мог бы я почерпнуть решимость? Как введу я его в обитель духа своего, я, столь часто оскорблявший взор спасителя, исполненный кротости?
И аббат Куаньяр получил последнее причастие в глубоком молчании, прерываемом лишь нашими рыданиями да трубным звуком, который, сморкаясь, издавала г-жа Кокбер.
После соборования добрый мой наставник сделал мне знак приблизиться и заговорил голосом слабым, но ясным:
– Жак Турнеброш, сын мой, откинь, по примеру моему, наставления, которые я внушал тебе в состоянии безумия, длившегося, увы, всю мою жизнь. Страшись женщин и книг, ибо они расслабляют наш дух и ввергают в гордыню. Смирись сердцем и разумом своим. Господь бог просвещает малых сих, они мудрецы мира сего. Он источник всякого знания. Сын мой, не слушай тех, кто подобно мне пожелает мудрствовать по поводу добра и зла. Не дай увлечь себя изысканностью и красотою их речей. Ибо царствие божие зиждется не на словах, а на добродетели.
Обессиленный, он умолк. Я схватил его руку, лежавшую поверх одеяла, покрыл ее поцелуями и оросил слезами. Я твердил, что он наш наставник, наш друг, наш отец и что я не мыслю жизни без него.
Долгие часы оставался я, убитый горем, у его изголовья.
Ночь он провел так спокойно, что во мне зародилась безумная надежда. В том же состоянии аббат пребывал и весь следующий день. Но к вечеру начал метаться и произносить слова, столь невнятные, что они навеки останутся ведомы лишь богу и ему.
В полночь учитель вновь впал в глубокое забытье, и в комнате раздавался лишь легкий шорох, который производили его ногти, царапавшие одеяло. Он уже никого не узнавал.
В два часа ночи он начал хрипеть: сиплое, учащенное дыхание, вырывавшееся из его груди, было слышно далеко на деревенской улице и так терзало мой слух, что еще несколько дней, последовавших за этой злосчастной ночью, мне все чудилось, будто я слышу этот хрип. На заре он сделал рукою знак, которого мы не смогли понять, и испустил глубокий вздох. Последний вздох. Лицо его приняло в смерти величественное выражение, соответствующее благородству духа, обитавшего в нем, чья утрата вовеки невозместима.
* * *
Валларский священник устроил г-ну Жерому Куаньяру торжественные похороны. Он отслужил по нем панихиду и возвестил отпущение грехов.
Добрый мой наставник был погребен на церковном кладбище. И г-н д'Анктиль дал у Голара ужин всем, кто принял участие в погребальной церемонии. Присутствующие угощались молодым вином и распевали бургундские песни.
На следующий день я вместе с г-ном д'Анктилем отправился поблагодарить священника за его благочестивые труды.
– Ах! Аббат Куаньяр принес нам великое утешение своей назидательной кончиной, – вскричал святой человек. – Не много видел я христиан, что умирали, преисполненные столь возвышенных чувств, и нам должно запечатлеть память о нем достойной надписью на его надгробье. Оба вы, милостивые государи, достаточно образованны и, конечно, справитесь с делом, я же позабочусь о том, чтобы эпитафия была вырезана на большом белом камне, с сохранением того вида и слога, который вы для нее изберете. Однако ж помните, что, заставляя глаголать камень, вы должны прославлять бога, и только его.
Я просил не сомневаться, что приступлю к делу с наивозможным усердием, а г-н д'Анктиль пообещал со своей стороны придать надписи блеск и изящество.
– Я хочу, – заявил он, – попытаться сложить ее французскими стихами, следуя образцам господина Шапеля [175]175
Шапель Клод-Эмманюэль (1626–1686) – французский поэт.
[Закрыть].
– В добрый час! – напутствовал нас священник. – Не полюбопытствуете ли вы, однако, взглянуть на мою давильню? Вино в этом году будет чудесное, а винограда я собрал столько, что достанет и для моих нужд и для нужд моей служанки. Увы! Не будь филоксеры, урожай был бы еще обильнее.
Отужинав, г-н д'Анктиль потребовал письменный прибор и приступил к сочинению французских стихов. Но вскоре, потеряв терпение, отшвырнул перо, чернильницу и бумагу.
– Турнеброш, – обратился он ко мне, – я сложил всего-навсего два стиха, да и то не уверен, хороши ли они; вот какими они вышли из-под моего пера:
Здесь лежит аббат Жером,
Все когда-нибудь умрем.
– Две эти строки, – сказал я ему, – хороши уж тем, что они не требуют третьей.
И всю ночь напролет я просидел над составлением латинской эпитафии. Вот что у меня получилось:
D. О. М.
Hic jacet
in spe beatae aeternitatis
Dominus Hieronymus Coignard
Piesbyter
Quondam in bellovacensi collegio
eloquentiae magister eloquentissimus
Sagiensis episcopi bibliothecarius solcrtissimus
Zozimi Panapolitani ingeniosissimus
translator
Opere tamen immaturata morte interceplo
periit enim cum lugdunum peteret
Judaea manu nefandissima
id est a nepote Christi carnificum
in via trucidatus
Anno aet LII.
Comitate fuit optima doctissimo convictu
ingenio sublimi
facetiis jucundus sententiis plenus
donorum dei laudator
Fide devotissima per multas tempestates
constanter munitus
Humilitate sanctissima ornatus
saluti suae magis intentus
quam vano et fallaci hominum judicio
Sic honoribus mundanis
nun quam quaesitis
sibi gloriam sempiternam
meruit.
В переводе эпитафия эта звучит приблизительно так:
Здесь покоится,
в надежде на вечное блаженство,
мессир Жером Куаньяр,
священнослужитель,
некогда красноречивый профессор красноречия
коллежа Бове,
весьма усердный библиотекарь епископа Сеэзского,
автор великолепного перевода Зосимы Панополитанского,
который остался, по несчастью, незавершенным,
ибо преждевременная смерть оборвала сей труд.
На 52 году жизни
презлодейская рука некоего иудея
поразила его кинжалом на Лионской дороге,
и он стал тем самым жертвой одного из потомков палачей
господа нашего Иисуса Христа.
Был он приятен в обращении,
учен в беседе,
отмечен возвышенным гением и щедро
рассыпал забавные шутки и прекрасные наставления,
воздавая хвалу господу и творениям его.
Сквозь жизненные бури пронес он
непоколебимую веру.
В своем воистину христианском уничижении,
более озабоченный спасением души своей,
нежели суетным и обманчивым мнением людским,
уже тем, что прожил без почестей в сей юдоли,
вознесен он ныне к престолу вечной славы.
* * *
Через три дня после того, как преставился славный мой наставник, г-н д'Анктиль решил отправиться в путь. Экипаж был починен, наш дворянин велел кучерам быть наготове к утру следующего дня. Общество этого человека никогда не было мне приятно. Состояние же скорби, в коем я находился, сделало его для меня непереносимым. Я не мог и подумать о том, что придется продолжать путь вместе с ним и с Иахилью. И я решил, приискав себе занятие в Турню или в Маконе, жить там, скрываясь до той поры, пока не уляжется буря и станет возможно возвратиться в Париж, где, я не сомневался, родители примут меня с распростертыми объятиями. Я осведомил г-на д'Анктиля о своем намерении и принес извинения в том, что не могу сопровождать его дальше. Сначала он пытался удержать меня с неожиданной любезностью, но затем охотно согласился на разлуку. Иахиль приняла эту новость не без огорчения; но, будучи от природы благоразумной, она поняла причины, по которым я решил ее покинуть.