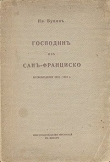Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 52 страниц)
В тот летний вечер, когда уже стемнело и вокруг фонаря «Малютки Бахуса» плясала роем мошкара, г-н аббат Куаньяр наслаждался прохладой на паперти храма св. Бенедикта Увечного. Он, как обычно, предавался размышлениям, когда подошла Катрина и села рядом с ним на каменную скамью. Мой добрый учитель любил воздавать хвалу господу в его творениях. Ему доставляло удовольствие смотреть на эту пригожую девушку, а так как он обладал умом веселым и цветистым, то стал говорить ей приятные слова. Он похвалил ее за то, что она умница и умна не только своим язычком, но и грудка у нее умная и все прочие статьи, а улыбается она не только устами и щечками, но всеми ямочками и прелестными изгибами своего тела; и потому-то так несносны скрывающие ее одежды, что они не позволяют видеть, как она смеется вся.
– Раз уж нам все равно положено грешить на этой земле, – говорил он, – и никто, кроме тех, что пребывают в гордыне, не может почитать себя непогрешимым, я хотел бы, милочка, лишиться господней благодати возле вас, если, конечно, на то будет ваша добрая воля. Для меня в этом было бы два неоценимых преимущества: во-первых, я согрешил бы с редким удовольствием и с несказанным наслаждением, во-вторых, могущество ваших чар было бы мне оправданием, ибо несомненно в Книге Суда написано, что прелести ваши неотразимы. И сие должно быть принято во внимание. Бывают неразумные люди, которые предаются блуду с женщинами некрасивыми и плохо сложенными. Поступая таким образом, эти несчастные рискуют погубить свою душу, ибо они грешат ради того, чтобы согрешить, и, усердствуя во грехе, творят зло. Тогда как такая прельстительная кожа, как у вас, Катрина, является оправданием пред очами всевышнего. Ваши прелести чудеснейшим образом смягчают вину, ибо она, будучи невольной, становится простительной. Скажу без утайки, милочка, возле вас я чувствую, как божья благодать покидает меня и стремительно уносится ввысь. Вот сейчас, когда я говорю с вами, она уже почти исчезла, от нее осталась только крохотная беленькая точка вон над теми крышами, где коты на карнизах предаются любви с яростным визгом и детскими воплями, меж тем как луна бесстыдно восседает на дымовой трубе. Все, что открыто моему взору в вашей особе, Катрина, волнует меня, а то, чего я не вижу, волнует еще более.
Слушая эти слова, Катрина опустила глаза и уставилась на свои колени, а потом украдкой скользнула блестящим взором по лицу аббата Куаньяра.
И нежнейшим голосом сказала:
– Я вижу, вы желаете мне добра, господин Жером, так пообещайте мне сделать то, о чем я вас попрошу; я буду вам за это так благодарна!
Мой добрый учитель пообещал. Кто бы не сделал этого на его месте!
Тогда Катрина с живостью заговорила:
– Вы знаете, господин Жером, что аббат Ла Перрюк, викарий прихода святого Бенедикта, обвиняет брата Ангела, будто тот украл у него осла; и вот теперь он подал на него жалобу духовному судье. А все это клевета и напраслина. Добрый брат просто взял осла на время, развозить реликвии по деревням. А осел дорогой потерялся. Реликвии-то потом нашлись. И это, конечно, самое главное, как говорит брат Ангел. Но аббат Ла Перрюк требует своего осла и слушать ничего не хочет. И добьется того, что бедного братца посадят в епархиальную темницу. Только вы один и можете смягчить гнев этого священника и уговорить его взять обратно свою жалобу.
– Но у меня, милочка, нет никакой возможности это сделать, – отвечал аббат Куаньяр, – да и ни малейшей охоты!
– Ах! – вздохнула Катрина, подсаживаясь к нему поближе и поглядывая на него с притворной нежностью. – На что бы я годилась, коли бы не могла внушить вам охоту! А что до возможности, то она у вас есть, господин Жером, она у вас есть. Вам не будет стоить никакого труда спасти бедного братца. Нужно только поднести господину Ла Перрюк восемь проповедей на великий пост и четыре на рождественский. У вас так складно выходят проповеди, что вам, должно быть, одно удовольствие их сочинять. Напишите двенадцать проповедей, господин Жером, напишите их вот теперь же. А я сама приду к вам за ними в вашу каморку на кладбище святого Иннокентия. Господин Ла Перрюк, который такого высокого мнения о вашей учености и заслугах, считает, что дюжина ваших проповедей стоит одного осла. И как только он получит всю дюжину, он возьмет свою жалобу обратно. Он сам это сказал. Ну, что для вас двенадцать проповедей, господин Жером? И я вам обещаюсь произнести аминь в конце последней. Ведь вы же мне пообещали, – прибавила она, обнимая его за шею.
– Ну, нет! – решительно сказал г-н Куаньяр, сбрасывая хорошенькие ручки, лежавшие на его плечах. – Отказываюсь наотрез. Обещания, которые даешь пригожей девушке, обязывают только нашу плоть и нарушить их нет греха. Не рассчитывайте, моя красавица, что я стану спасать вашего любезного бородача из рук духовного судьи. И если бы я взялся написать одну, две или даже дюжину проповедей, так это были бы проповеди против дурных монахов, которые позорят церковь и липнут, как мухи, к одежде святого Петра. Этот брат Ангел – мошенник. Он подсовывает благочестивым женщинам под видом реликвий бараньи и свиные кости после того, как сам с омерзительной жадностью обглодает их дочиста. Бьюсь об заклад, что на осле господина Ла Перрюка у него было перо из крыла архангела Гавриила и луч от звезды, которая указывала путь волхвам, а в какой-нибудь маленькой скляночке немножко звона тех самых колоколов, что звонили на колокольне храма Соломонова. Он неуч, он враль, и вы его любите. Вот три причины, по которым он мне не нравится. Предоставляю вам самой, милочка, судить, какая из них самая веская. Очень может быть, что это окажется наименее возвышенная, ибо, признаюсь, что я сейчас вожделел к вам с такой силой, которая отнюдь не подобает ни возрасту моему, ни сану, Но не извольте ошибаться: я весьма живо ощущаю, какой ущерб этот ваш любовник в монашеской рясе наносит церкви господа бога нашего Иисуса Христа, коей весьма недостойным членом я себя почитаю, И пример этого капуцина вызывает во мне такое отвращение, что у меня внезапно явилось желание поразмыслить над какими-нибудь прекрасными строками святого Иоанна Златоуста вместо того, чтобы тереться коленями о ваши коленки, чем я занимаюсь вот уж добрую четверть часа. Ибо похоть грешника преходяща, а слава господня длится во веки веков. Я никогда не придавал слишком большого значения плотскому греху. В этом мне можно отдать справедливость. Я не прихожу в ужас по примеру господина Никодема из-за такой малости, как шашни с хорошенькой девушкой. Но чего я не выношу, так это низости душевной, лицемерия, вранья, тупого невежества, словом, всего того, чем отличается ваш брат Ангел, ибо он истый капуцин. Якшаясь с ним, мадемуазель, вы привыкаете к такому грязному распутству, которое роняет вас в вашем звании веселой девицы. Я знаю, что в вашем ремесле приходится сносить много унижений и горестей, и все же это несравненно достойнее, чем быть капуцином. Этот мошенник грязнит вас, как он грязнит все, к чему прикасается, вплоть до сточной канавы на улице святого Иакова, которую он мутит своими ногами. Подумайте, мадемуазель, о всех тех добродетелях, коими вы еще могли бы украситься даже при своем сомнительном ремесле, а ведь и единая из них могла бы однажды открыть вам врата рая, не будь вы так слепо преданны и подчинены этой грязной скотине.
Не отказываясь от того, что вам как-никак полагается получать от гостя, вы все же могли бы блюсти себя, Катрина, украшаться верой, надеждой и милосердием, любить бедных и посещать больных, вы могли бы раздавать милостыню, утешать страждущих и радоваться невинно, созерцая небо, воды, леса и поля. Вы могли бы по утрам, распахнув окно, славить господа, внимая щебету птиц; в дни паломничества вы могли бы взойти на гору святого Валериана и там, у подножья креста, оплакивать тихими слезами свою утраченную невинность; словом, вы могли бы заслужить, чтобы тот, кто читает в сердцах людей, сказал: «Катрина – мое создание, и я узнаю ее по тем проблескам божественного света, который еще не совсем угас в ней».
Тут Катрина перебила его.
– Послушайте, аббат, – сухо сказала она, – с чего это вам вздумалось угощать меня проповедью?
– Да ведь вы только что просили у меня их целую дюжину, – ответил он.
Она рассердилась.
– Берегитесь, аббат. От вас зависит, будем мы друзьями или врагами. Согласны вы сочинить двенадцать проповедей? Подумайте, прежде чем ответить.
– Мадемуазель, – сказал аббат Куаньяр, – я в своей жизни не раз совершал поступки, достойные порицания, но только не тогда, когда я над ними думал.
– Стало быть, вы не хотите? Окончательно? Раз… два… так вы отказываетесь?.. Смотрите, аббат, я отомщу.
Она надулась и некоторое время сидела молча с сердитым лицом. И вдруг завопила:
– Перестаньте, господин аббат Куаньяр! В ваши годы, да еще в этом почтенном облачении, так приставать ко мне! Фу! господин аббат! Фу! Постыдитесь!
В то время, когда она вопила во все горло, аббат увидел, как на паперть взошла девица Лекэр, которая торговала прикладом в лавке «Три девственницы». Она пришла в этот поздний час на исповедь к третьему викарию церкви св. Бенедикта и, проходя мимо, отвернулась в знак глубочайшего отвращения.
Аббат невольно подумал, что месть Катрины оказалась скорой и верной, ибо добродетель девицы Лекэр, укрепившись с годами, сделалась столь отважной, что заставляла ее ополчаться против всех пороков в приходе и по семи раз на дню пронзать острием своего языка блудодеев с улицы св. Иакова.
Но Катрина еще и сама не подозревала, как ловко ей удалось отомстить. Она видела приближавшуюся девицу Лекэр. Но она не видела моего отца, который шел следом.
Мы пришли с ним на паперть, чтобы позвать аббата к «Малютке Бахусу». Батюшке нравилась Катрина: он просто из себя выходил, если ему случалось застать ее в объятиях какого-нибудь любезного кавалера. Он не заблуждался относительно ее поведения, но, как он говаривал, знать и видеть – совсем не одно и то же. Он ясно слышал вопли и крики Катрины. Человек он был горячий и не умел сдерживаться. Я очень испугался, как бы он во гневе не пустил в ход грубые ругательства и угрозы: мне уже представлялось, как он выхватывает свою шпиговальную иглу, которую он всегда затыкал за лямки передника, как почетное оружие, ибо очень гордился своим ремеслом.
Мои опасения оправдались лишь наполовину. Случай, когда Катрина проявила добродетель, не столько рассердил, сколько удивил отца, и чувство удовлетворения, охватившее его, пересилило гнев.
Он обратился к моему доброму учителю довольно учтиво и сказал ему с насмешливой строгостью:
– Господин Куаньяр, священники, которые домогаются общения с веселыми женщинами, теряют добродетель и бесчестят свое имя. И это справедливо даже в том случае, если они не получают за свое бесчестье никакого удовольствия.
Катрина поднялась и гордо удалилась с видом оскорбленной невинности, а мой добрый учитель с мягкой убедительностью шутливо возразил моему отцу:
– Превосходное рассуждение, мэтр Леонар, по все же не следует применять его без разбора и приклеивать ко всякому случаю, словно ярлык с ценой, который хромоногий ножовщик наклеивает на свои ножи. Не стану допытываться, чем, собственно, я заслужил, что вы сейчас применили его ко мне. Не достаточно ли будет, если я признаю, что заслужил его?
Непристойно распространяться о самом себе, и, чтобы говорить о своих отличительных свойствах, мне пришлось бы сперва побороть свою скромность. Я лучше позволю себе, мэтр Леонар, сослаться на пример достопочтенного Робера д'Абриссельского, который, посещая девиц легкого поведения, тем самым добился высоких заслуг. Можно еще припомнить святого Авраамия, сирийского отшельника, который не побоялся переступить порог злачного дома.
– Какой это святой Авраамий? – спросил батюшка, у которого уже все перепуталось в голове.
– Сядем-ка вот здесь, возле вашего дома, – сказал мой добрый учитель, – вы принесете нам кувшин вина, а я расскажу вам историю этого великого святого так, как она дошла до нас в сказаниях святого Ефрема.
Батюшка кивнул в знак согласия. Мы уселись втроем под навесом, и мой добрый учитель рассказал нам следующее:
– Святой старец Авраамий жил один в пустыне, в маленькой хижине. Но вот у него умер брат и оставил сиротку-дочь замечательной красоты по имени Мария. Будучи убежден, что жизнь, которую он ведет, вполне подходит и для его племянницы, Авраамий построил для нее келийку рядом со своей и поучал сироту через небольшое оконце, проделанное в стене.
Он тщательно следил за тем, чтобы она постилась, бодрствовала и распевала псалмы. Но однажды некий монах, который, как полагают, был лжемонахом, прокрался к Марии в то время, когда святой Авраамий размышлял над Священным писанием, и склонил ко греху юную девицу, а она после этого сказала себе:
«Раз уж я погибла для господа бога, лучше мне удалиться отсюда в край, где меня никто не знает».
И, покинув свою келью, она отправилась в соседний город, именуемый Эдессой, где были чудесные сады и прохладные фонтаны; это и поныне один из самых благодатных городов в Сирии.
А святой муж Авраамий тем временем по-прежнему предавался благочестивым размышлениям. Прошло уже несколько дней, как исчезла его племянница, и вот однажды, открыв окошко, он спросил:
– Почему, Мария, ты больше не распеваешь псалмов, которые ты так хорошо пела?
И, не получив ответа, он заподозрил истину и воскликнул:
– Свирепый волк похитил мою овечку!
В течение двух лет он пребывал в глубокой скорби, а затем до него дошли слухи, что его племянница ведет дурную жизнь. Решив действовать осторожно, он попросил одного из своих друзей побывать в городе и разузнать, что с ней сталось. Тот подтвердил, что Мария ведет дурную жизнь. Тогда святой муж попросил своего друга одолжить ему мирскую одежду и достать ему коня; затем, надев на голову широкополую шляпу и скрыв под нею свое лицо, он отправился в гостиницу, где, как ему сказали, проживала его племянница.
Долго он поглядывал по сторонам в надежде увидеть ее, но так как она не появлялась, он, прикинувшись беспечным, с улыбкой обратился к хозяину:
– Говорят, любезный хозяин, что у вас здесь есть красивая девица. Нельзя ли мне ее повидать?
Хозяин, человек услужливый, велел позвать Марию. И вот она появилась в таком наряде, который, по собственным словам святого Ефрема, красноречиво говорил о ее поведении, И святой муж при виде ее исполнился горести.
Однако он притворился веселым и заказал роскошное угощение. А Мария в тот день тосковала душой. Те, кто дарит удовольствия, не всегда вкушают их сами, и этот старик, которого она не узнала, ибо он не снимал своей шляпы, нисколько не веселил ее. Хозяин стал стыдить девушку за угрюмый вид, столь не подобающий ее ремеслу, но она, вздохнув, промолвила:
– Уж лучше бы господь бог дал мне умереть три года тому назад!
Святой Авраамий отвечал ей, как полагается галантному кавалеру, за какового его можно было принять по одежде.
– Малютка моя, – сказал он, – я пришел сюда не оплакивать твои грехи, а разделить с тобою любовь.
Но когда хозяин, наконец, оставил его наедине с Марией, он перестал притворяться и, сняв шляпу, промолвил, обливаясь слезами:
– Дитя мое, Мария! Разве ты не узнаешь меня? Ведь я – Авраамий, заменивший тебе отца,
Он взял ее за руку и всю ночь увещевал, призывая покаяться в своих грехах и искупить их. Но больше всего он старался уберечь ее от отчаяния и без конца повторял: «Дочь моя, один бог без греха!»
Мария от природы была кроткого нрава. Она согласилась вернуться к старцу. И едва стало светать, они отправились в путь. Она хотела было взять с собой свои наряды и украшения. Но святой муж убедил ее, что лучше все это оставить. Он посадил ее на коня и привез обратно в келью, где они снова зажили прежней жизнью. Но только на сей раз святой муж озаботился, чтобы келийка Марии не сообщалась с внешним миром и чтобы нельзя было из нее выйти иначе как через его келью; и вот таким-то образом, с божьей помощью, ему удалось уберечь свою овечку.
Такова история святого Авраамия, – заключил мой добрый учитель, поднимая чарку с вином.
– Замечательная история, – сказал мой отец, – я даже прослезился, так тронула меня несчастная судьба этой бедняжки Марии.
III. Правители
(Продолжение и конец)
В этот день мы с моим добрым учителем чрезвычайно удивились, повстречав у г-на Блезо в лавке «Под образом св. Екатерины» маленького человечка, желтого и худого, который оказался не кем иным, как прославленным памфлетистом Жаном Гибу. Мы были уверены, что он содержится в Бастилии, где уже привык обретаться. Но мы не замедлили узнать его, ибо на лице его еще остались следы мрака и тюремной сырости. Он перелистывал дрожащей рукой только что полученные из Голландии политические брошюры, а книгопродавец тревожно следил– за ним. Г-н аббат Жером Куаньяр снял перед г-ном Гибу шляпу с непринужденным изяществом, которое было бы еще заметней, если бы шляпа моего доброго учителя не пострадала накануне вечером во время потасовки под виноградным навесом «Малютки Бахуса».
Господин аббат Куаньяр выразил удовольствие, что видит снова столь даровитого человека.
– Вы не долго будете меня здесь видеть, – отвечал г-н Жан Гибу. – Я покидаю эту страну, где не могу жить. Я не в состоянии больше дышать отравленным воздухом этого города. Через месяц я обоснуюсь в Голландии. Нет сил выносить Флери после Дюбуа, и я, по-видимому, чересчур порядочен, чтобы быть французом. У нас дурные законы, и правят нами дураки и мошенники. А этого я не в силах терпеть.
– Это верно, – подтвердил мой добрый учитель, – государственные дела у нас ведутся из рук вон плохо, и среди должностных лиц много воров. Власть поделили между собой глупцы и негодники, и если я когда-нибудь соберусь написать о нашем времени, это будет небольшая книжечка, нечто вроде ApokolokynthosisСенеки-философа либо нашей довольно смачной «Менипповой сатиры» [200]200
…это будет небольшая книжечка, нечто вроде Apokolokynithosis Сенеки-философа либо нашей… Менипповой сатиры. – Apokolokynithosis («Отыквление») – сатира римского писателя I в. Сенеки, осмеивающая императора Клавдия. «Мениппова сатира» была написана в конце XVI в., в период религиозных войн во Франции и направлена против католической Лиги, возглавлявшейся герцогом Гизом.
[Закрыть]. Такая легкая и веселая манера больше подходит для этого предмета, нежели суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту [201]201
…суровая лапидарность Тацита или терпеливое глубокомыслие Де Ту. – Тацит Корнелий (ок. 55 – ок. 120) – древнеримский историк; Де Ту Жак-Огюст (1553–1617) – французский историк.
[Закрыть]. Я бы распространял этот памфлет в списках, чтобы его можно было легко спрятать под плащ и черпать в нем философское презрение к людям. Большинство лиц, стоящих у власти, он, вероятно, привел бы в негодование, но некоторые из них, сдается мне, наслаждались бы втайне тем, что их обливают грязью. Я сужу по тому, что мне однажды довелось слышать от одной знатной дамы, с которой я познакомился в Сеэзе в те дни, когда состоял в должности библиотекаря у господина епископа. Это была женщина уже не первой молодости, но еще не совсем остывшая от своих бурных похождений. Ибо надо вам заметить, что в течение двадцати лет она была самой известной распутницей в Нормандии. И вот, когда я расспрашивал ее, какое самое сильное наслаждение она испытала в жизни, она мне ответила:
– Наслаждение чувствовать себя обесчещенной.
И по этому ответу я понял, что она не лишена известной тонкости чувств. Я полагаю, что кое-кто из наших министров тоже не лишен этой тонкости, и если я когда-нибудь выступлю против них, то лишь затем, чтобы приятно пощекотать их пороки и бесстыдство. Но зачем мешкать, зачем откладывать осуществление столь блестящего замысла? Сейчас же спрошу у господина Блезо писчей бумаги и сяду писать первую главу новой «Менипповой сатиры».
Он уже протянул было руку к удивленному г-ну Блезо, но Жан Гибу быстрым движением остановил его.
– Поберегите этот превосходный замысел для Голландии, господин аббат, – сказал он, – и поедемте со мной в Амстердам, я вас пристрою к какому-нибудь торговцу лимонадом или к содержателю банного заведения, Там вы будете свободны и сможете по ночам писать свою «Мениппову сатиру», – вы примоститесь на одном конце стола, а на другом я буду сочинять свои памфлеты. Они будут полны яда и – кто знает? – быть может, мы общими усилиями и добьемся перемен у нас в королевстве. Роль памфлетистов в падении государств гораздо значительнее, чем это кажется: они подготовляют катаклизм, а восставший народ совершает его.
Какое это было бы торжество, – прибавил он свистящим голосом, стиснув свои черные зубы, изъеденные желчной слюной, – какая радость, если бы мне удалось сокрушить одного из тех министров, которые из подлой трусости заточили меня в Бастилию! Разве вам не хотелось бы, господин аббат, принять участие в столь благородном деле?
– Отнюдь, – отвечал мой добрый учитель. – Мне вовсе не желательно менять что-либо в государственном устройстве, и если бы я мог предположить, что мой Apokolokynthose или «Мениппова сатира» способны оказать такое действие, я бы никогда не стал их писать.
– Как! – вскричал разочарованный памфлетист, – не вы ли мне только сейчас говорили, что наше правительство никуда не годится?
– Разумеется, – сказал аббат. – Но я следую мудрому примеру сиракузской старухи, которая в те времена, когда Дионисий был более чем когда-либо ненавистен своему народу, ежедневно ходила в храм молить богов о продлении жизни тирана. Прослышав о такой удивительной преданности, Дионисий захотел узнать, чем она вызвана. Он призвал к себе старуху и стал расспрашивать ее.
– Я уже давно живу на свете, – отвечала она, – и видела на своем веку многих тиранов и каждый раз замечала, что плохому наследует еще худший. Ты – самый отвратительный из всех, кого я до сих пор знала. Из этого я заключаю, что твой преемник будет, если только сие возможно, еще ужаснее тебя; вот я и молю богов не посылать нам его как можно дольше.
Это была очень разумная старуха, и я, господин Жан Гибу, как и она, полагаю, что бараны поступают мудро, предоставляя стричь свою шерсть старому пастуху, из страха, как бы не пришел другой, помоложе, который станет стричь их еще короче.
У г-на Жана Гибу от этого рассуждения разлилась желчь, и он разразился горькими упреками.
– Какие недостойные речи! Какие негодные принципы! О господин аббат, как мало вы печетесь о благе общества и сколь недостойны вы того венка из дубовых листьев, который обещан поэтами доблестным гражданам! Вам следовало бы родиться в стране татар или турок, рабом какого-нибудь Чингис-хана или Баязета, а вовсе не в Европе, где насаждают принципы публичного права и философии. Как? Вы миритесь с дурным правительством и даже не желаете сменить его! В республике, построенной по моему плану, подобные убеждения карались бы по меньшей мере изгнанием и лишением прав. Да, господин аббат, в задуманную мною конституцию, в основу коей будут положены законы древних, я введу статью для наказания дурных граждан – таких, как вы. И я установлю кару для тех, кто мог бы содействовать благу государства и не сделал этого.
– Эге! – засмеялся аббат, – вы отбиваете у меня охоту жить в этой вашей хваленой республике. Ваши слова внушают мне опасения, не будут ли там чересчур принуждать.
– Там будут принуждать только к добродетели, – наставительно изрек г-н Жан Гибу.
– Вот видите, сколь права была сиракузская старуха, – сказал аббат, – и как следует опасаться, что после Дюбуа и Флери мы получим господина Жана Гибу! Вы мне сулите, сударь, правление насильников и лицемеров и, чтобы претворить в жизнь эти посулы, предлагаете мне стать продавцом лимонада или банщиком на амстердамском канале. Премного благодарен! Нет, лучше уж я останусь на улице святого Иакова, где можно пить прохладное винцо, поругивая министров. Неужели вы думаете прельстить меня обманчивой химерой этого правительства, состоящего из честных людей, которые возводят такие укрепления вокруг свободы, что вряд ли ею можно будет пользоваться.
– Господин аббат! – вскричал Жан Гибу, все более горячась. – И не совестно вам нападать на государственный строй, который задуман мною в Бастилии и о котором вы даже понятия не имеете!
– Сударь, – возразил мой добрый учитель, – мне не внушает доверия образ правления, рожденный заговором и мятежом. Оппозиция – плохая школа для правительства, а ловкие политики, пробившись таким образом к власти, прилагают потом все усилия, чтобы править согласно принципам, прямо противоположным тем, что они проповедовали ранее. Так было в Китае, да и в других местах. Они повинуются той же необходимости, какой подчинялись их предшественники. А если они что-либо и вносят нового, так разве свою неопытность. Вот вам одна из причин, сударь, которая заставляет меня предполагать, что новое правительство, почти ничем в сущности не отличаясь от того, что ему предшествовало, будет еще несноснее. Да разве мы уже не испытали этого на себе?
– Так, значит, сударь, – сказал г-н Жан Гибу, – вы оправдываете злоупотребления?
– Выходит, что так! – отвечал мой добрый учитель. – Правительства подобны винам: с течением времени они отстаиваются и становятся мягче. Даже и самые жесткие из них постепенно теряют свою терпкость. Я боюсь неотстоявшейся власти. Боюсь терпкой новизны республики. Если уж все равно надо жить под дурным управлением, то я предпочитаю монархов и министров, у которых рвение несколько поостыло.
Господин Жан Гибу нахлобучил шляпу на нос и распростился с нами в сильном раздражении.
Когда он ушел, г-н Блезо поднял глаза от своих счетов и, поправив очки, сказал моему доброму учителю:
– Вот уж скоро сорок лет, как я торгую книгами «Под образом святой Екатерины», и всякий раз для меня такое удовольствие слушать беседы ученых, посещающих мою лавку! Но только я не люблю, когда разговаривают о политике. Люди начинают горячиться и ссорятся по пустякам.
– Все это потому, – заметил мой добрый учитель, – что в этом деле нет никаких сколько-нибудь твердых основ.
– Есть во всяком случае одна, и никто не решится ее оспаривать, – возразил г-н Блезо, книготорговец, – ибо надо быть дурным христианином и плохим французом, чтобы не признавать божественной силы священной мирохранительницы Реймской и ее святого мира, коим помазывают наших королей на французский престол в качестве наместников Христа. Сие есть незыблемая основа монархии.