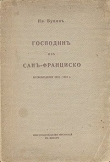Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 52 страниц)
Мы погрузились в бездну наслаждения, после чего божественная Иахиль спросила меня:
– Есть ли у вас гребень? Я растрепана, как ведьма.
– Нет у меня гребня, Иахиль, – ответствовал я; – я ведь ждал саламандру. Я обожаю вас.
– Обожайте, друг мой, но только берегитесь. Вы еще не знаете Мозаида.
– Как, Иахиль! Неужели он так страшен в свои сто тридцать лет, из которых семьдесят пять к тому же просидел в пирамиде?
– Я вижу, друг мой, вам наговорили разных небылиц о моем дядюшке, и вы имели наивность поверить им. Никто не знает его настоящего возраста; даже я сама не знаю, но сколько помню его, он всегда был стариком. Знаю только, что он крепок и обладает недюжинной силой. Он держал в Лиссабоне банкирскую контору, но убил христианина, которого застал с моей теткой Мириам. Он бежал, захватив меня с собой. И привязался ко мне с тех пор, как родная мать. Он обращается со мной, будто с малым ребенком, и плачет от умиления, глядя на меня спящую.
– Вы живете с ним вместе?
– Да, во флигельке на том конце парка.
– Знаю, туда ведет тропка мандрагор. Как могло статься, что я не встретил вас раньше? По какому велению злой судьбы я, живя в столь близком от вас соседстве, ни разу не видел вас? Как, я сказал «живя»? Осмелюсь ли я назвать жизнью прозябание, бывшее моим уделом до встречи с вами. Неужели флигелек стал вам тюрьмой?
– Вы правы, я живу затворницей и не могу отправиться по собственной воле ни на прогулку, ни за покупками или в комедию. Привязанность Мозаида лишает меня свободы. Он сторожит меня, как ревнивец, и, не считая полдюжины золотых чашечек, которые вывез из Лиссабона, любит во всем свете только меня одну. Он любит меня даже сильнее, чем любил мою тетушку Мириам, и потому убьет вас еще с большей охотой, чем того португальца. Я говорю вам это для того, чтобы призвать вас к осторожности и еще потому, что такое соображение не может остановить настоящего мужчину. Достаточно ли вы высокого происхождения, друг мой, из какой вы семьи?
– Увы, – вздохнул я, – мой батюшка посвятил себя некоему ремеслу и ведет некие торговые дела.
– Есть ли у него хотя бы какое-нибудь звание, доходная должность? Нет? Жаль. Придется любить вас ради ваших собственных достоинств. Но скажите мне правду: скоро ли вернется господин д'Астарак?
Услышав это имя и обращенный ко мне вопрос, я почувствовал, как в душу мою закралось ужасное подозрение. В моем уме мелькнула догадка, что кабалист с умыслом подослал ко мне прелестную Иахиль, дабы она разыграла для меня роль саламандры. Более того, в душе я упрекал ее за то, что она, должно быть, и есть нимфа, отдавшая свою благосклонность старому безумцу. Желая положить конец сомнениям, я в упор спросил ее, не является ли роль саламандры ее обычной ролью в замке гасконца.
– Я вас не понимаю, – ответила она, с невинным удивлением вскинув на меня глаза. – Вы говорите не хуже самого господина д'Астарака, и я подумала бы, что вы страдаете той же манией, если бы не испытала на себе, что вам чуждо его женоненавистничество. Господин д'Астарак не переносит присутствия женщины, и при каждой встрече и беседе с ним я испытываю непреодолимое стеснение. Однако ж сейчас я искала его, а нашла вас.
Успокоенный и счастливый, я вновь покрыл ее поцелуями. А она уселась напротив меня с таким расчетом, чтоб оказались видны ее черные чулочки, схваченные выше колен подвязками с бриллиантовыми пряжками, и это зрелище вернуло меня на тот путь, которому с удовольствием следовала Иахиль. Более того, она искусно и с немалым пылом поощряла меня в нашем странствии, и от меня не укрылось, что игра начинает особенно воодушевлять ее в ту минуту, когда мои силы приходят к концу. Тем не менее я постарался превзойти самого себя и, к огромной моей радости, избавил очаровательное создание от вовсе ею не заслуженного афронта. Думаю, она осталась довольна мной. Она села на софу и спокойно спросила:
– Вам действительно неизвестно, скоро ли возвратится господин д'Астарак? Признаюсь, я пришла попросить у него из назначенного дядюшке содержания небольшую сумму, которая мне нужна сейчас до зарезу.
Прося извинения за скудость, я вынул из кошелька три находившиеся там экю, и она соблаговолила принять их. Это все, что осталось от нечастых щедрот кабалиста, который, исповедуя презрение к деньгам, увы, забывал выплачивать мне обещанное содержание.
Я осведомился у мадемуазель Иахили, буду ли я иметь счастье вновь увидеть ее.
– Будете, – пообещала она.
И мы уговорились, что всякий раз, когда ночью ей удастся ускользнуть из-под строгого надзора, она станет приходить в мою комнату.
– Только запомните хорошенько, – сказал я, – моя комната четвертая по коридору направо, а пятую занимает мой добрый наставник аббат Куаньяр. Все прочие горницы, – добавил я, – выводят на чердак, служащий приютом для двух-трех поварят и целого полчища крыс.
Иахиль уверила меня, что постарается не ошибиться и тихонько постучит именно в мою дверь, а никак не в чужую.
– Впрочем, – заметила она, – ваш аббат Куаньяр, на мой взгляд, человек славный. Думаю, его бояться нам нечего. В тот день, когда вы приходили с ним к дядюшке, я видела его через глазок. Он показался мне весьма милым, хоть я и не расслышала его речей. Особенно приятно поразил меня его нос – такие бывают лишь у людей остроумных и одаренных. Поэтому владелец его несомненно человек одаренный, и я не прочь завести с ним знакомство. В обществе умных людей можно многого набраться. Обидно только, что он не угодил дядюшке своими вольными речами и насмешливым нравом. Мозаид его ненавидит, а к ненависти у него положительно талант, о котором не может и помыслить христианин.
– Мадемуазель, – заметил я, – господин аббат Жером Куаньяр преученейший человек и, что еще важнее, славится философским складом ума и доброжелательностью. Он знает людей, и вы совершенно справедливо ждете от него доброго совета. Я свято руковожусь его мнениями. Но скажите, не заметили ли вы также и меня тогда во флигельке, когда глядели, по вашим словам, через глазок?
– Заметила, – сказала Иахиль, – и не скрою, сразу вас отличила. Но пора возвращаться к дядюшке. Прощайте.
После ужина г-н д'Астарак не преминул спросить меня про саламандру. Его любопытство несколько смутило меня. Я отвечал, что встреча превзошла все мои ожидания, но что я долгом своим почитаю соблюдать скромность, приличествующую в такого рода приключениях.
– Напрасно вы, сын мой, думаете, – возразил он, – что скромность так уж необходима в подобных делах. Саламандры вовсе не настаивают на сохранении тайны, ибо отнюдь не стыдятся своих чувств. Одна из этих нимф, та, что дарит меня своим расположением, весь досуг в мое отсутствие посвящает сладостному для нее занятию: она вырезывает наши затейливо переплетенные инициалы на деревьях, в чем вы можете легко убедиться сами – осмотрите стволы пяти или шести сосен, стройные верхушки которых видны отсюда. Но заметили ли вы, сын мой, что любовь подобного рода – поистине небесная любовь, – не только не оставляет после себя усталости, но и дает сердцу новые силы? Не сомневаюсь, что после всего случившегося с вами вы посвятите ночные часы трудам и переведете не менее шестидесяти страниц из Зосимы Панополитанского.
Я признался, что, наоборот, чувствую неодолимое влечение ко сну, каковое г-н д'Астарак приписал потрясению первой встречи. Итак, сей великий муж остался при убеждении, что я вступил в общение с саламандрой. Как ни мучила меня совесть за обман, я был вынужден к этому обстоятельствами, и коль скоро сам философ обманывал себя за милую душу, мог ли я хоть на йоту увеличить груз его заблуждений. Потому я с миром отправился почивать и, улегшись в постель, задул свечу, тем закончив самый упоительный из всех доселе прожитых мною дней.
* * *
Иахиль сдержала слово. На следующую ночь она тихонько постучала в мою дверь. Мы расположились в моей спальне с гораздо большим удобством, чем в кабинете г-на д'Астарака, и то, что произошло при нашем первом знакомстве, оказалось ребяческой забавой в сравнении с тем, на что вдохновила нас любовь при этой второй встрече. Иахиль вырвалась из моих объятий лишь на заре и перед разлукой тысячу раз поклялась в новой и скорой встрече, называя меня при этом душенькой, своей жизнью и котиком.
В тот день я поднялся очень поздно. Когда я спустился в библиотеку, мой учитель уже корпел над папирусом Зосимы; он держал в одной руке перо, а в другой – лупу, и картина эта умилила бы любого почитателя наук.
– Жак Турнеброш, – сказал он мне, – главная трудность таких занятий заключается в том, что нет ничего легче, как принять одну букву за другую, и в расшифровке письмен мы можем преуспеть лишь в том случае, если составим таблицу начертаний, приводящих к ошибкам; иначе, не приняв нужной предосторожности, мы рискуем допустить грубейшие промахи к вечному позору и справедливой хуле. Сегодня я уже совершил ряд смехотворных ошибок. Надо полагать, причина этого кроется в смятении духа, в каковом нахожусь я с самого утра вследствие ночных приключений, о коих я вам сейчас поведаю.
Проснувшись на заре, я возымел желание глотнуть доброго белого вина, которое, если вы помните, я хвалил вчера господину д'Астараку. Ибо существует, сын мой, меж белым вином и пением петуха некая тайная взаимосвязь, восходящая еще ко временам Ноя, и я уверен, что если бы апостол Петр в ту святую ночь, которую он провел во дворе первосвященника, хлебнул бы чуточку мозельвейна или пусть даже орлеанского вина он не предал бы Христа [147]147
…если бы апостол Петр… не предал бы Христа. – По евангельской легенде, апостол Петр был первым, кто признал Христа, и тот сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на сем камне я построю церковь свою». Но он же предсказал, что Петр предаст его, прежде чем прокричит петух. И действительно, в трудную минуту Петр трижды отрекся от своего учителя, в чем впоследствии горько каялся и был прощен Христом после его воскресения.
[Закрыть], прежде чем вторично пропел петух. Но не следует, сын мой, ни в коем случае сожалеть об этом недостойном поступке, ибо пророчества должны неукоснительно сбываться, и если бы Петр, он же Кифа, не совершил в ту ночь величайшей низости, не быть бы ему ныне в сонме величайших праведников рая, не стать бы краеугольным камнем святой нашей церкви к великому конфузу честных, в мирском понимании этого слова, людей, зрящих ключи к вечному своему блаженству в руке трусливого негодяя. О спасительный пример, отрешающий человека от обмана, суетности тщеславия и наставляющий его на путь спасения! О, сколь целесообразно устроена религия! О божественная мудрость, возвышающая смиренного и нищего духом во посрамление гордецу! О чудо! Тайна сия велика есть! К вечному позору фарисеев и законников простой рыбарь с Тивериадского озера, ставший за свою непроходимую подлость предметом насмешек судомоек, гревшихся с ним вместе во дворе первосвященника, мужлан и трус, предавший своего учителя и свою веру перед девицами, несомненно куда менее миловидными, чем горничная супруги сеэзского судьи, днесь носит на челе тройную корону, на пальце – папский перстень, вознесен превыше всех архиепископов, королей и даже императора и облечен правом отпускать или не отпускать грехи; самый уважаемый мужчина, самая почтенная дама не попадут на небеса без его разрешения. Но подскажите мне, будьте добры, Турнеброш, сын мой, на чем бишь это я прервал свой рассказ, когда в сети его затесался святой Петр, князь апостолов? Припоминаю, что я говорил о чарке белого вина, которую опрокинул на заре. В ночной рубашке я спустился в буфетную и из поставца, ключ от которого благоразумно припрятал еще с вечера, извлек бутылочку и распил ее не без удовольствия. После чего, подымаясь по лестнице, я между вторым и третьим этажом повстречал девушку в ночном наряде, спускавшуюся по ступеням. Она, как видно, насмерть перепугалась и бросилась от меня по коридору. Я пустился вслед за ней, настиг ее, схватил в объятия и поцеловал в порыве внезапного и непобедимого влечения. Не порицайте меня, сын мой; на моем месте вы сделали бы то же, а возможно, и более того. Эта красивая девица похожа на горничную супруги судьи, только взгляд ее еще живее. Она даже крикнуть не посмела. И шепнула мне на ухо: «Пустите меня, пустите меня, вы с ума сошли!» Взгляните-ка, Турнеброш, до сих пор у меня на руке видны следы ее ноготков. О, если бы удалось мне сохранить столь же неприкосновенным вкус поцелуя, которым она меня подарила!
– Как, господин аббат, – воскликнул я, – неужели она поцеловала вас?
– Можете не сомневаться, сын мой, – отвечал мой добрый учитель, – на моем месте вы получили бы такой же поцелуй, при том условии, конечно, что сумели бы, как и я, воспользоваться счастливым случаем. Кажется, я уже говорил вам, что крепко держал ее в объятиях. Она пыталась вырваться, хотела кричать и боялась, она жалобно шептала: «Пустите меня, молю вас! Уже светает, еще минута, и я погибла!» Даже варвара, и того тронул бы ее страх, растерянный вид и грозящая ей опасность. Я же отнюдь не варвар. Я дал ей свободу в обмен на поцелуй, который она тут же запечатлела на моих устах. Поверьте слову: ни разу в жизни не доводилось мне вкушать более сладостного лобзания.
Тут, прервав свой рассказ, мой добрый учитель поднял от бумаг нос, чтобы зарядить его понюшкой табака; заметив мое смущение и грусть, он счел их знаком изумления.
– Жак Турнеброш, конец моего рассказа удивит вас куда сильнее, – продолжал он. – Итак, к великому своему сожалению, я выпустил красотку, но, влекомый любопытством, последовал за ней. По ее пятам я спустился с лестницы, видел, как пересекла она прихожую, выскользнула через калитку, выводящую в поле, к которому примыкает главная часть парка, и побежала по аллее. Я бежал за ней следом. Я справедливо рассудил, что не может же она явиться к нам издалека, в ночной рубашонке и ночном чепце. Она свернула на тропку мандрагор. Тут любопытство мое возросло, и я тоже приблизился к флигельку, занимаемому Мозаидом. В это мгновение в окне показалась фигура богомерзкого еврея все в том же балахоне и в том же огромном колпаке, и я невольно подумал о тех деревянных уродцах, которые ровно в полдень появляются на цоколе башенных часов, столь же старинных и столь же забавных, как и сами церковные башни, где они водружены, – появляются к вящему удовольствию мужиков и к выгоде причетников.
Он обнаружил мое присутствие среди густой листвы как раз в ту самую минуту, когда наша прелестница, не уступающая в быстроте Галатее, шмыгнула во флигелек; словом, могло показаться, будто я преследовал красотку по примеру сатиров, о коих мы с вами как-то беседовали, разбирая прекрасные строки Овидия. Да и туалет мой усугублял сходство, ибо, надеюсь, я уже сказал вам, Турнеброш, что был я в одной ночной рубашке. При виде меня глаза Мозаида сверкнули. Из-под полы своей грязной желтой хламиды он вытащил стилет, довольно миленький стилетик, и стал в окне размахивать рукой, которая, признаюсь, по виду вовсе не кажется такой уж дряхлой. Тем временем он осыпал меня двуязычной бранью. Да, да, Турнеброш, сын мой, грамматические познания позволяют мне утверждать, что ругался он на двух языках; испанские, а скорее португальские проклятия перемежались с древнееврейскими. Я был вне себя, так как мне не удавалось уловить их точный смысл, поскольку языки эти мне незнакомы, хотя я отличу их от прочих благодаря некоторым присущим им звукосочетаниям. Но, надо полагать, он обвинял меня в намерении соблазнить эту девицу, а она, должно быть, и есть его племянница Иахиль, о которой, если помните, не раз упоминал господин д'Астарак, в связи с чем хула его в известной мере прозвучала даже лестью, ибо таким, каким я стал ныне, сын мой, в силу беспощадного бега времени и утомления – следствия беспокойной моей жизни, – я уже не могу рассчитывать на благосклонность юных девственниц. Увы! Никогда более не вкушу я от сего лакомого блюда, разве что стану епископом. О чем и сожалею! Но не следует с излишним упорством цепляться за преходящие мирские блага, научимся отказываться оттого, в чем нам отказано. Итак, Мозаид, размахивая стилетом, извлекал из свой глотки хриплые звуки, перемежавшиеся с пронзительным визгом, так что хула и поношения воздавались мне в тоне песнопений или кантилен. И не хвалясь, сын мой, скажу, что был я обозван распутником и совратителем весьма торжественно, как бы с амвона. Когда вышеупомянутый Мозаид исчерпал свои проклятия, я постарался дать ему достойную отповедь, тоже на двух языках. По-латыни и по-французски ответил я ему, что он сам человекоубийца и святотатец, коль скоро душит невинных младенцев и оскверняет святое причастие. Свежий утренний ветер, овевавший мне ноги, напомнил, что я стою перед окном в одной рубашке. Это привело меня в некоторое замешательство, ибо, согласитесь, сын мой, что человек, забывший надеть панталоны, не совсем приготовлен к тому, чтобы вещать святую истину, громить заблуждения и бичевать пороки. Тем не менее я сумел нарисовать перед ним ужасающую картину его преступлений и пригрозил ему судом божьим и судом человеческим.
– Как, мой дорогой учитель, – воскликнул я, – значит, этот Мозаид, у которого такая миленькая племянница, удушал новорожденных младенцев и осквернял святое причастие?
– На сей счет ничего не знаю, – отвечал г-н Жером Куаньяр, – да и не могу ничего знать. Но, будучи сыном своего народа, он причастен к сим преступлениям, и потому я вправе был сказать ему это, и никто не упрекнет меня в том, что я его оскорбил. Понося этого нехристя, я рикошетом метил в его извергов-прадедов и прапрадедов. Ибо вы сами знаете, что говорят о евреях и их гнусных обрядах. В старинной Нюренбергской хронике имеется изображение евреев, закалывающих младенца, и в знак своего бесчестия они должны носить на одежде цветной круг или кружок, чтоб их узнавали с первого взгляда. Я все же не верю, что они ничтоже сумняшеся и каждодневно убивают по младенцу. И сомневаюсь также, что все эти израильтяне так уж стремятся осквернить святое причастие. Обвинять их в этом – значит полагать, что они столь же глубоко, как и мы сами, верят в божественное происхождение господа нашего Иисуса Христа. Ибо нет кощунства без веры, так что иудей, осквернивший святое причастие, тем самым подтвердил бы свое безоговорочное признание таинства пресуществления. Пусть, сын мой, такие побасенки повторяют глупцы, и если я бросил их в лицо этому непотребному Мозаиду, то повиновался при том не столько духу здравой критики, сколько властному голосу гнева и досады.
– Ах, сударь, – сказал я, – за глаза хватило бы попрекнуть Мозаида португальцем, которого он убил из ревности, ибо он действительно настоящий убийца.
– Как! – вскричал мой добрый наставник. – Мозаид убил христианина? В его лице, Турнеброш, мы имеем опасного соседа. Но из утреннего происшествия вы выведете те же заключения, что и я. Совершенно бесспорно, что племянница Мозаида – подружка нашего господина д'Астарака, из чьей спальни она и пробиралась на заре, когда я застиг ее на лестнице. Я слишком привержен святой религии и не могу не сожалеть о том, что столь приятная особа принадлежит к расе, распявшей Иисуса Христа. Ибо – увы! – бесспорно, сын мой, что сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири [148]148
…сей мерзкий Мардохей приходится дядей сей Эсфири… – Эсфирь, по библейской легенде, – красавица иудейка, воспитанница Мардохея, выбранная в жены персидским царем.
[Закрыть], которой нет нужды умащать себя в течение полугода миррой, дабы стать достойной царского ложа. Наш старый ворон-алхимик меньше всего может соответствовать подобной красе, и я бы не прочь поволочиться за ней.
Понятно, что Мозаид бережет ее как зеницу ока, ибо если в один прекрасный день она появится при дворе или на театральном представлении, назавтра же весь свет будет у ее ног. А хотелось бы вам, Турнеброш, увидеть ее?
Я ответил, что хочу этого страстно, и мы оба углубились в наши греческие папирусы.
* * *
В тот вечер, когда мы вдвоем с добрым моим учителем проходили улицей Бак, стояла немыслимая жара, и г-н Жером Куаньяр сказал мне:
– Жак Турнеброш, сын мой, не склонен ли ты свернуть налево на улицу Гренель и зайти в кабачок? Не забывай, что мы не сразу найдем такой, где отпускают вино по два су за кувшин. Я совсем обезденежел и полагаю, сын мой, что и ты не в лучшем положении по вине господина д'Астарака, который, быть может, и делает золото, но забывает давать его своим секретарям и слугам, чему свидетельство наши карманы. Положение, в которое мы попали благодаря ему, поистине плачевно. У меня гроша ломаного нет, и придется пуститься на разные хитрости, чтобы выбраться из беды. Легко нести бремя нищеты, когда ты невозмутимостью духа равен Эпиктету, стяжавшему себе на этом пути неувядаемую славу. Но испытания нищеты утомили меня и прискучили мне своим постоянством. Чувствую, пришло время обратиться к иным добродетелям и научиться владеть богатствами так, чтобы они не завладели тобой, а это является наиболее благородным состоянием, до которого может подняться душа философа. Надеюсь в ближайшем времени разбогатеть немного с целью показать, что благоденствие не вредит мудрости. Я ищу лучшие к тому способы, и ты, Турнеброш, застаешь меня в думах о преуспеянии.
Пока мой учитель с обычным своим благородным изяществом распространялся на эту тему, мы поравнялись с хорошеньким особнячком, где г-н де ла Геритод поселил мамзель Катрину. «Вы узнаете мое жилище, – сказала она мне тогда, – по увитому розами балкону». Уже вечерело, и я не мог различить роз, но зато мне показалось, что я обоняю их аромат. Пройдя еще несколько шагов, я увидел и саму Катрину, – с кувшином в руке, она стояла у окна и поливала цветы. Узнав меня, она засмеялась и послала мне воздушный поцелуй. Вслед за тем чья-то рука, высунувшаяся из-за оконной створки, дала Катрине звонкую пощечину, чего она, видимо, никак не ожидала, ибо выпустила из рук кувшин, и он в падении своем чуть не раскроил голову доброго моего наставника. Затем заушенная прелестница исчезла, а заушатель, заняв ее место у окна, перевесился через решетку и крикнул мне:
– Благодарите бога, сударь, что вы не капуцин! Не могу я терпеть, чтобы моя любовница посылала поцелуи этому смрадному псу, что бродит день и ночь под ее окошком. Сейчас мне хоть не приходится краснеть за ее выбор. На мой взгляд, вы человек порядочный, и, сдается, мы уже с вами где-то встречались. Сделайте милость, зайдите к нам. Стол давно накрыт. Вы весьма обяжете меня, если согласитесь отужинать со мной, это касается и господина аббата, которого чуть не убили кувшином и который отряхивается сейчас, как дворняга под ливнем. После ужина перекинемся в картишки, а когда рассветет, отправимся в поле и перережем друг другу глотки. Но это будет лишь выражением чистейшей учтивости с моей стороны и знаком моего к вам, сударь, уважения, ибо, откровенно говоря, эта девка не стоит удара шпаги. Да я эту мошенницу и видеть больше не хочу.
Я узнал в говорившем того самого г-на д'Анктиля, которого уже видел давеча, когда он подуськивал своих слуг колоть в зад братца Ангела. Со мной он говорил вежливо и обращался как с дворянином. Я не преминул оценить благорасположение г-на д'Анктиля, выразившееся в готовности перерезать мне глотку. Мой добрый учитель тоже не устоял против такой обходительности. Стряхнув с себя последние капли воды, он промолвил:
– Жак Турнеброш, сын мой, нельзя пренебречь столь любезным приглашением.
Навстречу нам уже спускались двое слуг, неся в руках зажженные факелы. Они провели нас в залу, где на столе, освещенном двумя серебряными канделябрами, был готов холодный ужин. Г-н д'Анктиль пригласил нас садиться, и мой добрый учитель повязал салфетку вкруг шеи. Он уже подцепил было на вилку жареного дрозда, как вдруг до нашего слуха донеслись жалобные стоны.
– Не обращайте внимания, – посоветовал нам г-н д'Анктиль, – это ревет Катрина, которую я запер в спальне.
– Ах, сударь, простите ее, – ответил мой добрый учитель, взирая не без грусти на птичку, поддетую на трезубец его вилки. – Самая вкусная пища, будучи приправлена слезами и стенаниями, становится горше полыни. Неужели можете вы спокойно слышать женский плач? Простите ее, ведь вся ее вина заключается в том, что она послала поцелуй юному моему ученику, который был ее соседом и приятелем еще в те времена, когда оба они прозябали в серости и достоинства этой красотки были оценены лишь узким кругом посетителей «Малютки Бахуса». Поступок поистине невинный, если, конечно, любое человеческое деяние, а особенно деяние женщины, может быть вообще невинным и совершенно чистым от первородного греха. Позвольте присовокупить, сударь, что ревность есть чувство первобытное, прискорбный пережиток варварских нравов, коему нет места в душе изящной и высокородной.
– Господин аббат, – ответил г-н д'Анктиль, – откуда вывели вы заключение о том, что я ревную? Я не ревнив. Но не потерплю, чтобы женщина насмехалась надо мною.
– Все мы игралище ветров, – со вздохом промолвил мой добрый наставник. – Все смеется над нами – и небеса, и звезды, и дождь, и зефиры, и тень, и свет, и женщина. Соблаговолите разрешить Катрине отужинать. Она хороша собой и украсит наше общество. Даже все прегрешения – этот поцелуй и прочее – не умаляют для нашего глаза ее прелестей. Измена не уродует женского облика. Природа, которая с такой охотой украшает женщин, равнодушна к их проступкам. Так последуйте же ее примеру, сударь, и простите Катрину.
Я присоединился к просьбам моего учителя, и г-н д'Анктиль согласился вернуть пленнице свободу. Он подошел к двери, откуда доносились стенания, приоткрыл ее и окликнул Катрину, которая ответила на зов еще более громкими стонами.
– Господа, – обратился к нам любовник, – вот глядите, она лежит ничком на кровати, зарывшись головой в подушки, и при каждом приступе рыданий нелепо вскидывает крупом. Прошу вас, полюбуйтесь. Вот из-за чего мы так страдаем и делаем столько глупостей!.. Катрина, иди ужинать.
Но Катрина не шелохнулась и зарыдала еще пуще. Г-н д'Анктиль взял ее за руку, приподнял за талию. Она вырывалась. А он настаивал:
– Ну, идем, идем, крошка.
Однако Катрина не пожелала покинуть облюбованную позицию и судорожно цеплялась за борта кровати и тюфяки.
Ее любовник потерял терпение и грубо заорал, уснащая свою речь проклятиями:
– Вставай, шлюха!
При этих словах Катрина поднялась с постели и, улыбаясь сквозь слезы, взяла его под руку и вышла в залу с видом блаженствующей жертвы.
Она уселась между господином д'Анктилем и мной, склонила головку на плечо своего любовника, а ножкой нащупала под столом мой башмак.
– Господа, – проговорил наш хозяин, – прошу извинить меня за невоздержанное выражение своих чувств, о чем я, впрочем, не сожалею, ибо именно этому я обязан честью принимать вас здесь. Я в самом деле не желаю терпеть бесконечные капризы этой милашки, и с тех пор, как застал ее с капуцином, со мной шутки плохи.
– Друг мой, вас ослепляет ревность, – возразила Катрина, пожимая под столом своей ножкой мою. – Знайте же, что мне но вкусу один только господин Жак.
– Шутит, – буркнул г-н д'Анктиль.
– Не сомневайтесь, – подтвердил я. – Она любит только вас, это сразу видно.
– Могу сказать, не хвалясь, – заметил он, – я сумел внушить ей кой-какое чувство. Но она кокетка.
– Выпьем! – возгласил аббат Куаньяр.
Господин д'Анктиль пододвинул к моему учителю большую, оплетенную соломой бутыль и воскликнул:
– Вы, аббат, человек церковный, черт побери, объясните же хоть вы нам, почему женщины так любят капуцинов?
Господин Куаньяр утер губы и промолвил:
– Причина этому та, что капуцины и в любви хранят смирение и ни от чего не отказываются. А вторая причина та, что природные их инстинкты не сдерживаются ни размышлением, ни соображениями учтивости. У вас, сударь, прекрасное вино.
– Вы мне оказываете незаслуженную честь, – возразил г-н д'Анктиль. – Это вино господина де ла Геритода. Я располагаю его любовницей. И тем паче могу располагать его винным погребом.
– Совершенно справедливо, – подхватил добрый мой наставник. – Я вижу, сударь, вы выше людских предрассудков.
– Вы преувеличиваете мои достоинства, аббат, – отвечал г-н д'Анктиль. – Там, где человек незнатный остановится в нерешительности, я в силу своего происхождения чувствую себя непринужденно. Обыкновенный смертный волей-неволей должен взвешивать свои поступки. Он подчинен недвусмысленным требованиям порядочности, дворянин же взыскан честью драться во имя короля и ради собственного удовольствия. Это обстоятельство освобождает его от необходимости стеснять себя различными пустяками. Я служил под началом господина Виллара, я принимал участие в войне за наследство [149]149
Я служил под началом господина Вилляра, я принимал участие в войне за наследство… – «Война за испанское наследство» (1701–1704), в которой французский король Людовик XIV выступил с агрессивными притязаниями на престол Испании и ее владения, окончилась поражением Франции. Виллар Луи-Гектор – маршал, командовавший в этой войне французскими войсками в Италии.
[Закрыть]и рисковал ни за что ни про что сложить голову в битве при Парме. Надеюсь, я заслужил хотя бы право сечь своих слуг, надувать своих кредиторов и отбивать у своих друзей, если мне заблагорассудится, их жен или даже их любовниц.
– Благороднейшая мысль, – промолвил мой добрый наставник, – вы, как я вижу, ревниво охраняете привилегии знати.
– Мне неведомы, – продолжал г-н д'Анктиль, – громкие фразы, которые действуют на воображение толпы и которые, на мой взгляд, уместны лишь тогда, когда нужно припугнуть робких и согнуть в бараний рог обездоленных.
– В добрый час! – произнес аббат.
– Я не верю в добродетель, – отозвался его собеседник.
– И вы правы, – подтвердил мой учитель. – По самому своему устройству животное, именуемое человеком, приходит к добродетели лишь путем искажения своей природы. Сошлюсь для примера на миленькую девицу, что ужинает за одним столом с нами: взгляните на ее прекрасную головку, красивую грудь, дивно округлый живот, не говоря уж обо всем прочем. Ну, есть ли у этой особы такой укромный уголок, куда могла бы она поместить хоть крупицу добродетели! Да нет там такого места, слишком все это упруго, сочно, крепко сбито и выпукло. Добродетель, подобно ворону, гнездится среди развалин. Она облюбовывает себе жилье среди морщин, на впалой груди. Я и сам, сударь, размышляя с отроческих лет над возвышенными истинами религии и философии, я и сам сумел ввести в себя чуточку добродетели лишь через бреши, пробитые во мне страданием и годами. Да и то получалось, что всякий раз я набирался не так добродетели, как гордыни. Потому и приобрел я привычку возносить нашему создателю такую мольбу: «Упаси меня, боже, от добродетели, коль скоро уводит она меня от святости». Ах, святость, вот к чему должно и можно нам стремиться! Вот приличествующая нам цель! Да приблизимся мы к ней в положенный час. А пока давайте выпьем.
– Признаюсь, я не верую в бога, – заметил г-н д'Анктиль.
– А вот за это, – промолвил аббат, – я вас пожурю. Человек должен веровать в бога и во все истины, преподаваемые святой нашей церковью.
Тут г-н д'Анктиль громко воскликнул:
– Вы насмехаетесь над нами, аббат, и, видно, почитаете нас уж совершенными глупцами. Ну нет! Говорю вам, я не верую ни в бога, ни в дьявола, я никогда не посещаю церковных служб, за исключением службы о здравии короля. Проповеди, произносимые с амвона, – бабьи сказки, и годились в те времена, когда моя бабушка видела аббата Шуази, который в женском платье раздавал освященные просфоры в Сен-Жак-дю-О-Па [150]150
Шуази Франсуа-Тимолеон (1644–1724) – французский писатель, аббат; он действительно до тридцатилетнего возраста носил женское платье.
[Закрыть]. В ту пору, возможно, религия и существовала. А теперь ее, слава те господи, нет.