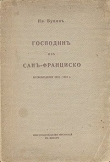Текст книги "2том. Валтасар. Таис. Харчевня королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец"
Автор книги: Анатоль Франс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 52 страниц)
Итак, стоя на Новом мосту, мы услыхали бой барабанов. Это набирали под ружье солдат в армию; сержант-вербовщик, лихо подбоченясь, важно выступал во главе дюжины солдат, у которых на штыках были нанизаны колбасы и булки. Столпившиеся вокруг мальчишки и оборванцы глазели на него, разинув рты.
Сержант, подкрутив усы, громко огласил воззвание.
– Не стоит слушать, – сказал мне мой добрый учитель. – Только время терять. Этот сержант выступает от имени короля, у него нет никакого дара выдумки. Если хотите услышать настоящие речи на эту тему, ступайте в какой-нибудь кабачок на Скобяной набережной, где эти мошенники завлекают лакеев да деревенских простаков. Вот там этим плутам приходится быть краснобаями. Помнится, как-то в юности, еще при покойном короле, мне довелось услышать поистине потрясающую речь одного такого торговца людьми, который закупал свой товар на Нищем Доле, его отсюда хорошо видать, сын мой. Он набирал людей для отправки в колонии. «А ну, молодцы, – говорил он, – вы, наверно, слышали не раз о благословенной счастливой стране изобилия, – чтобы попасть в этот обетованный край, надобно отправиться в Индию, а там уж всего вдоволь – сколько душе угодно! Желаете вы золота, жемчугов, алмазов? Ими там улицы мостят, только нагнись да подбирай. Да и нагибаться-то не надо! Дикари их вам наберут. Я уж не говорю про кофе, лимоны, гранаты, апельсины, ананасы и тысячи других замечательных плодов, которые растут сами собой, без всякого ухода, как в раю земном. Ежели бы передо мной были девки да ребятишки, я бы им порассказал обо всех этих лакомствах, но ведь я с мужчинами говорю!» Не стану уж повторять, сын мой, всего, что он там разглагольствовал о славе, но, поверьте, что силой убеждения он не уступал Демосфену, а красноречием превзошел самого Цицерона. Наслушавшись его, пятеро или шестеро из этих бедняг отправились помирать в болотах от желтой лихорадки. Вот оно и выходит, что красноречие – опаснейшее оружие, и чары искусства, направлены ли они к добру, или ко злу, – одинаково обладают неодолимым могуществом. Возблагодарите господа, Турнеброш, за то, что он, не наделив вас никакими талантами, избавил вас от опасности стать когда-нибудь бичом народов. Люди, угодные богу, сын мой, узнаются по тому, что они лишены разума; я на себе убедился, что живость ума, коей меня наградило небо, – это непрестанная угроза моему спокойствию как здесь, на земле, так и в жизни будущей. А что было бы, если бы в груди моей обитало сердце Цезаря, а в голове – его разум? Мои вожделения не различали бы пола, и я был бы недоступен чувству жалости. Я бы разжег в своей стране и далеко за ее пределами множество неугасимых войн. Хорошо еще, что этот великий Цезарь обладал благородной душой и некоторой мягкостью. Он умер благопристойно от меча своих добродетельных убийц. О день Мартовских Ид, навеки злосчастный день, когда сии брутальные назидатели прикончили этого пленительного изверга! Я почитаю себя достойным оплакивать божественного Юлия рядом с его матерью, Венерой, и ежели я называю его извергом, то лишь любя, ибо его ровный дух был чужд каких-либо крайностей, за исключением властности. Он обладал врожденным чувством ритма и меры. В юности он с одинаковым пылом предавался наслаждениям плоти и утехам грамматики. Он был оратором, и красота его несомненно оживляла нарочитую сухость его речей. Он любил Клеопатру с той же геометрической четкостью, какую он вносил во все свои замыслы. Его сочинения, как и его поступки, отмечены духом ясности. Он был другом порядка и мира даже в самой войне; чуткий к гармонии, он был столь искусным законодателем, что даже мы, варвары, и поныне живем под сенью величия его власти, которая сделала мир тем, чем он является ныне. Ты видишь, сын. мой, что я не скуплюсь воздать ему хвалу и выразить свою приверженность. Полководец, диктатор, верховный жрец, он лепил мир своими прекрасными руками. А я, бывший преподаватель красноречия коллежа в Бове, секретарь оперной дивы, библиотекарь его преосвященства епископа Сеэзского, писец при кладбище святого Иннокентия и наставник сына вашего родителя из «Харчевни королевы Гусиные Лапы», – я составил превосходный каталог редких рукописен, сочинил несколько пасквилей, о коих лучше не упоминать, и написал на оберточной бумаге размышления, отвергнутые издателями; все же я не поменял бы свою жизнь на жизнь великого Цезаря. Слишком дорого это обошлось бы моей невинности. По мне, лучше быть человеком безвестным, бедным и презираемым, каков я и есть на самом деле, нежели возноситься на вершины и открывать новые судьбы человечеству, к коим надо идти кровавым путем.
Этот вербовщик-сержант, который, как вы слышите, сулит беднякам по су в день, не считая хлеба и мяса, наводит меня, сын мой, на глубокие размышления касательно войны и войска. Кем-кем я не был на своем веку, но только не солдатом, ибо военное ремесло всегда внушало мне отвращение и ужас присущими ему чертами рабства, тщеславия и жестокости, кои как нельзя более претят моей миролюбивой натуре, моей необузданной любви к свободе и моему разуму, ибо он, здраво рассуждая о славе, знает настоящую цену славе оружия. Я уж не говорю о моей неодолимой склонности к размышлениям, которой весьма досаждали бы упражнения с саблей и ружьем. И вам должно быть понятно, что я, отнюдь не стремясь быть Цезарем, не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом [222]222
…не желаю также быть ни Фанфан-Тюльпаном, ни Сердцеедом… – Фанфан-Тюльпан – популярный персонаж старинных французских песенок, солдат-гуляка, задира и весельчак; Сердцеед – солдат-волокита.
[Закрыть]. И я не скрою от вас, сын мой, что военная служба представляется мне самой страшной язвой цивилизованных народов.
Это чувство философа. А посему нет никакой вероятности, что его когда-либо будут разделять многие. В действительности, и короли и республика всегда будут находить столько солдат, сколько понадобится для их парадов и войн. Я читал у господина Блезо в его лавке «Под образом святой Екатерины» трактаты Макиавелли [223]223
Я читал… трактаты Макиавелли… – Николо Макиавелли (1469–1527) – итальянский писатель, автор политического трактата «Государь»; здесь он оправдывает любые средства для достижения сильной монархической власти, в которой видит единственную силу, способную политически объединить Италию.
[Закрыть]в прекрасных пергаментных переплетах. Они их заслужили, сын мой; и я со своей стороны бесконечно уважаю этого флорентинца за то, что он первый отринул в деяниях государственных мужей основу справедливости, на коей они никогда не воздвигали ничего иного, кроме прославленных злодейств. Сей флорентинец, видя отчизну свою отданной на милость наемных солдат, подал мысль о национальном и патриотическом войске. В одном из своих сочинений он говорит, что, по справедливости, все граждане должны заботиться о безопасности родины и быть солдатами. В той же лавке господина Блезо я слышал, как эту идею поддерживал господин Роман, который, как вы знаете, чрезвычайно печется о нравах государства. Он мыслит только об общем и целом и не успокоится до тех пор, пока все частные интересы не будут принесены в жертву интересу общественному. Так вот, Макиавелли и господин Роман желают, чтобы все мы были солдатами, поскольку мы все граждане. Не стану утверждать подобно им, что это справедливо. Но не скажу также, что это несправедливо, ибо справедливость и несправедливость зависят от того, как к сему подойти, а это уж такой вопрос, который надо предоставить софистам.
– Как! дорогой учитель! – воскликнул я с горестным удивлением, – вы полагаете, что справедливость зависит от доводов софиста и что наши действия справедливы или несправедливы в зависимости от доказательств ловкого говоруна? Это утверждение так меня потрясает, что я даже и сказать не умею.
– Турнеброш, сын мой, – отвечал г-н аббат Куаньяр, – не забывайте, что я говорю о справедливости человеческой, которая отнюдь не похожа на справедливость божественную и по существу своему прямо противоположна ей. Люди всегда утверждали понятие справедливого и несправедливого не иначе, как красноречием, которое одинаково способно приводить доводы «за» и «против». Бы хотите, быть может, сын мой, чтобы справедливость опиралась на чувство, но берегитесь, ибо такая опора годится лишь на то, чтобы построить скромный домашний приют, шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой [224]224
…шалаш старого Эвандра или хижину, где обитал Филемон со своей Бавкидой. – Эвандр – один из легендарных предков древних римлян. Упоминается в «Энеиде» Вергилия. Филемон и Бавкида – супружеская чета, дожившая в любви и согласии до глубокой старости. Воспеты римским поэтом Овидием в его «Метаморфозах».
[Закрыть]. Но дворец законов, твердыня государственных установлений, требует иного фундамента. Простодушной природе не под силу выдержать одной сие неправедное бремя, эти грозные стены воздвигаются на прочных устоях древней лжи лукавым и свирепым искусством законодателей, судей и монахов.
Бессмысленно вопрошать, Турнеброш, сын мой, справедлив или несправедлив какой-нибудь закон, и это так же верно в отношении военной службы, как и других установлений, о коих нельзя сказать, хороши они по сути своей или плохи, ибо нет сути вне господа бога, от кого все ведет свое начало. Вам следует остерегаться, сын мой, этого рабства словесного, коему люди поддаются с такой покорностью. Знайте же, что слово «справедливость» ровно ничего не значит, кроме как в богословии, где оно обладает страшной выразительностью. И знайте, что господин Роман не что иное, как софист, коль скоро он доказывает, что должно служить монарху. Однако я полагаю, что если какой-нибудь монарх повелит всем гражданам стать солдатами, все ему подчинятся, не скажу – с кротостью, но с веселием. Я заметил, что человеку более всего по душе ратное дело, ибо это то, к чему он естественно склонен по своим инстинктам и вкусам, а они у него не все хороши. И за редкими исключениями, к коим отношусь и я, человека можно определить как животное с ружьем. Оденьте его в нарядную форму и дайте надежду подраться, – и он будет доволен. Поэтому-то мы и почитаем ратную службу самым благородным занятием, что, конечно, в некотором смысле даже верно, ибо оно самое древнее, и первые люди на земле уже вели войну. Кроме того, военное ремесло еще и тем под стать природе человеческой, что тут не надо думать, а мы, разумеется, и не созданы для того, чтобы думать.
Мышление – это болезнь, свойственная лишь некоторым особям, и если бы она распространилась, то быстро привела бы к уничтожению рода человеческого. Солдаты живут скопом, а человек животное общественное. Они носят мундиры голубые с белым, голубые с красным и серые с голубым, ленты, плюмажи и кокарды, в коих красуются перед девками, как петух перед курицей. Они идут на войну и на мародерство, а человек по природе своей вор, распутник, разрушитель и в высшей степени падок до славы. Вот эта-то любовь к славе и заставляет главным образом наших соотечественников французов хвататься за оружие. И безусловно во мнении людском только военная слава и обладает блеском. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать сочинения историков. Всякий простит вояке Тюльпану, что он не превзошел в философии Тита Ливия.
XI. Армия
(Продолжение)
Мой добрый учитель продолжал свою речь так:
– Надобно не упускать из виду, сын мой, что люди, связанные друг с другом в долгом беге времени одной цепью, из коей они видят лишь несколько звеньев, присваивают понятие благородства разным обычаям низкого, варварского происхождения. Их невежество способствует их тщеславию. Они строят свою славу на давних бедствиях, а доблесть оружия ведет свое начало от дикости первоначальных времен, о коих сохранилась память в библии и творениях поэтов. Что же в сущности представляет собой эта военная каста, застывшая в своей надменности высоко над нами, как не выродившихся последышей жалких звероловов, которых поэт Лукреций [225]225
Лукреций Кар (I в. до н. э.) – римский философ-материалист, автор поэмы «О природе вещей».
[Закрыть]описал так, что не знаешь, люди это или звери. Достойно удивления, Турнеброш, сын мой, что война и охота, одна мысль о коих должна была бы преисполнять нас стыдом и угрызениями совести, напоминая о низменных потребностях нашей природы и укоренившемся в нас зле, могли, наоборот, сделаться предметом людской гордости и что христианские народы и поныне чтут ремесло мясника и палача, когда оно переходит из рода в род, и что в конце концов у просвещенных наций именитость граждан измеряется количеством убийств и злодеяний, которые, так сказать, накопились в их крови.
– Господин аббат, – спросил я у моего доброго учителя, – а не думаете ли вы, что ратное ремесло почитается благородным из-за опасностей, с коими оно сопряжено, и из-за храбрости, какую при этом надлежит проявлять?
– Сын мой, – отвечал мой добрый учитель, – если бы действительно звание человека почиталось благородным сообразно опасностям, с коими оно сопряжено, я бы, не колеблясь, сказал, что крестьяне и батраки – самые благородные люди в государстве, ибо они всякий день рискуют умереть от изнеможения и от голода. Опасности, коим подвергаются солдаты и полководцы, не столь многочисленны и далеко не столь длительны; за всю жизнь это разве что несколько часов, и все дело заключается в том, чтобы не дрогнуть под нулями и ядрами, которые убивают не так верно, как нищета. Сколь же надо быть легкомысленным и тщеславным, сын мой, дабы прославлять солдатское ремесло более, нежели труд пахаря, и ценить разрушения войны выше мирных занятий.
– Господин аббат, – спросил я еще, – а вы не считаете, что солдаты необходимы для безопасности государства и что мы должны почитать их из признательности за то, что они нам полезны?
– Правду сказать, сын мой, война – это потребность человеческой природы, и нельзя представить себе народы, которые бы совсем не дрались, то есть, другими словами, не состояли бы из человекоубийц, грабителей и поджигателей. Нельзя также представить себе монарха, который в какой-то мере не был бы узурпатором. Его бы слишком порицали и презирали за то, что он равнодушен к славе. Вот то-то и есть, что война необходима человеку; она гораздо более свойственна ему, чем мир, который есть не что иное, как передышка между войнами. Потому-то монархи и посылают свои войска одно против другого по самым пустячным поводам и ничтожным причинам. Они ссылаются на свою честь, а она у них чрезвычайно чувствительна. Достаточно дуновения, чтобы на ней появилось пятно, и смыть его можно только кровью десяти, двадцати, тридцати, а то и сотни тысяч человек, смотря по населенности государства. А ведь если вдуматься, мыслимо ли представить себе, каким образом честь монарха может быть обелена кровью этих несчастных? Вот тут-то и начинаешь понимать, что все это – одни слова, лишенные всякого смысла; но люди готовы убивать друг друга ради слова. А еще более надобно удивляться тому, что монарху приносит честь и славу захват чужой земли и что злодеяние, за которое какого-нибудь головореза карают смертью, становится достойным похвал, ежели его с самой зверской жестокостью совершает монарх при помощи своих наемников.
Высказав все это, мой добрый учитель достал из кармана табакерку и заложил в нос оставшиеся крохи табаку.
– Господин аббат, – спросил я его, – а разве не бывает войн справедливых, которые ведутся за правое дело?
– Турнеброш, сын мой, – отвечал он мне, – просвещенные народы довели несправедливость войны до чрезмерных крайностей и сделали ее совершенно бесчестной и вместе с тем невероятно жестокой. Первые войны велись племенами из-за владения плодородными землями. Так израильтяне завоевали Землю Ханаанскую. Их толкнул на это голод. А с ростом цивилизации войны ведут, дабы завоевать колонии и фактории, как это видно на примере Испании, Голландии, Англии и Франции. Наконец немало было таких королей и императоров, которые и вовсе без нужды прибирали к рукам целые области и разоряли да опустошали их безо всякой пользы для себя, если не считать воздвигнутых ими там пирамид и триумфальных арок. Такое злоупотребление войной особенно гнусно, ибо невольно наводит на мысль, что либо люди, по мере совершенствования в науках, становятся все злее и злее, либо – и это, пожалуй, вернее, – что война есть насущная потребность человеческой природы и люди воюют просто ради того, чтобы воевать, даже когда война не имеет никакого смысла.
Эта мысль глубоко удручает меня, ибо я по своему сану и по складу ума склонен любить моих ближних. А что меня сейчас уж совсем приводит в уныние, Турнеброш, сын мой, так это сделанное мной открытие, что табакерка моя пуста, а табак – самое мое уязвимое место: из-за него мне больше всего приходится страдать от нищеты.
Чтобы отвлечь его мысли от этой маленькой слабости и вместе с тем почерпнуть от его учености, я спросил его, не кажется ли ему, что междоусобная война – это самая мерзкая из войн.
– Она и в самом деле мерзостна, – отвечал он мне, – но вовсе уж не так бессмысленна, ибо когда граждане схватываются друг с другом, им все же видней, из-за чего они вступили в драку, чем когда они идут войной на чужеземцев. Мятежи и внутренние распри обычно порождаются крайней нищетой народа. Они вызваны отчаянием, и это единственный выход, оставшийся у бедняков, которые таким путем могут добиться облегчения своей участи, а иногда даже и некоторой власти. Надо заметить, сын мой: чем обездоленнее мятежники и, следовательно, чем более они заслуживают оправдания, тем меньше у них шансов одержать победу. Изголодавшиеся, отупевшие, вооруженные только своей яростью, они не способны на широкие замыслы и осторожное предвидение, так что монарху нетрудно бывает их усмирить. Труднее подавить бунт людей знатных, который поистине внушает отвращение, ибо его нельзя оправдать необходимостью.
– А в конце-то концов, сын мой, внутренняя либо внешняя, война всегда омерзительна и полна зла, которое мне ненавистно.
XII. Армия
(Продолжение и конец)
– Сын мой, – добавил мой добрый учитель, – я сейчас покажу тебе, как ремесло этих несчастных солдат, которые будут служить королю, сочетает в себе позор и славу человека. Поистине война снова уводит нас вспять и возвращает к нашему природному зверству; она является следствием той свирепости, которая и роднит нас со зверями; я имею в виду не только львов или петухов, которые проявляют ее с такой великолепной гордостью, но и всяких птах вроде синиц или соек с их чрезвычайно драчливым нравом или даже насекомых, как осы и муравьи, которые сражаются с таким ожесточением, что даже у самих римлян не найти подобных примеров. Основные причины войны одни и те же, что у человека, что у зверя. И тот и другой бросается в драку, чтобы отнять либо удержать добычу, защитить свое гнездо или берлогу или завладеть самкой. В этом между ними нет никакой разницы, и похищение сабинянок в точности напоминает битвы оленей, которые по ночам орошают кровью лесные чащи. Мы только ухитрились приукрасить эти низменные и естественные побуждения понятием чести, которым и наделяем их безо всякого разбора. Если мы полагаем, что воюем ныне за какие-то высоко благородные цели, то все это благородство основывается исключительно на расплывчатости наших представлений. Чем менее ясна, проста и очевидна цель войны, тем гнуснее и омерзительнее война. А коли и вправду, сын мой, люди дошли до того, что убивают друг друга ради чести, то это – верх извращенности. Мы превзошли в жестокости диких зверей, ибо звери не причиняют друг другу зла без насущных причин. И правильно будет сказать, что человек в своих войнах злее и противоестественнее, чем быки и муравьи в своих драках. Но это еще не все. Войска ненавистны мне не столько тем, что они повсюду сеют смерть, сколько невежеством и глупостью, которые они приносят с собою. Нет худшего врага всякого искусства или науки, нежели военачальники наемных или добровольных отрядов, и обычно эти полководцы не менее невежественны в полезных науках, чем их солдаты. Привычка навязывать свою волю силой делает солдата неспособным к выразительной речи, которая рождается необходимостью убеждать людей. Поэтому солдат считает себя вправе презирать слово и знания. Помнится мне, когда я был библиотекарем у господина епископа Сеэзского, знавал я одного старика полковника, поседевшего на ратной службе; он слыл храбрым воякой и гордился своим глубоким шрамом, который шел у него через все лицо. Это был бесшабашный удалец, который перебил на своем веку немало людей и изнасиловал не одну монашенку, по при этом безо всякой злобы. Он был знаток военного дела и строго следил за выправкой своего полка, который маршировал на парадах лучше всех других. А в общем, это был душевный малый и отличный товарищ, с которым приятно посидеть за бутылкой вина, как я имел случай убедиться в харчевне «Белого коня», где мы с ним нередко сиживали вместе. Как-то раз вечером я пошел проводить его на занятия, которые заключались в том, что он учил своих солдат определять страны света по звездам. Сначала он огласил приказ господина де Лувуа касательно сего предмета [226]226
… приказ господина де Лувуа касательно сего предмета… – Де Лувуа – военный министр французского короля Людовика XIV.
[Закрыть], и так как он его повторял наизусть вот уже лет тридцать, то прочел без запинки, вроде как «Отче наш» или «Богородицу». В приказе сем говорится, что солдатам надлежит прежде всего найти в небе Полярную звезду, поскольку она стоит неподвижно относительно других звезд, которые вращаются вокруг нее в направлении, обратном движению часовой стрелки. Но он сам плохо понимал, что он произносит, ибо, повторив два-три раза одну фразу весьма повелительным тоном, он вдруг наклонился к моему уху и прошептал:
– Черт возьми! аббат, да покажите вы мне эту шлюху – Полярную звезду! Разорви меня дьявол, но я не могу различить ее в этой куче огарков, которые понатыканы в небе.
Я тут же научил его, как надо находить звезду, и показал на нее пальцем.
«Ого! – воскликнул он, – высоко взмостилась, мерзавка! Отсюда, где мы стоим, нельзя и глядеть, вывихнешь шею!» И он тотчас же скомандовал своим офицерам отвести солдат на пятьдесят шагов назад, чтобы им легче было смотреть на Полярную звезду.
То, что я тебе рассказываю, сын мой, я слышал собственными ушами, и ты согласишься со мной, что у этого рубаки было довольно наивное представление о мироздании и, в частности, о звездных параллаксах. И, однако, он носил королевские ордена на своем великолепном расшитом мундире и пользовался в государстве гораздо большим почетом, нежели ученый служитель церкви. Вот этой-то грубости я и не переношу в военщине.
Тут мой добрый учитель остановился, чтобы перевести дух, и я спросил его, не думает ли он, что, невзирая на все невежество этого полковника, надо как-никак иметь немало ума, чтобы выигрывать сражения. На это он мне ответил так:
– Турнеброш, сын мой, если подумать, каких трудов стоит собирать и вести за собой войска, сколько требуется знаний для атаки или обороны какого-нибудь места и сколько надобно сметливости, дабы успешно вести бой, то следует признать, что только почти сверхчеловеческий гений, каким обладал Цезарь, способен на такие дела, и диву даешься, что были на свете люди, которые совмещали в себе все качества истинного полководца. Хороший военачальник знает не только характер страны, но и нравы и занятия жителей. Он удерживает в памяти бесконечное количество мелких подробностей, из коих постепенно слагает себе обширное, ясное представление. Он может по внезапному вдохновению изменить молниеносно во время битвы планы, начертанные им заранее и тщательно обдуманные; он должен быть крайне осмотрительным и вместе с тем весьма отважным; мысль его то движется с глухой медлительностью крота, то взмывает ввысь подобно орлу. Все это действительно так. Но подумай, сын мой, когда два войска сталкиваются в бою, одно из них должно быть побеждено, откуда следует, что другое должно победить, даже если военачальник, командующий им, не обладает всеми достоинствами великого полководца или хотя бы одним из них. Я согласен, что бывают искусные полководцы, а бывают и просто удачливые, и слава их не меньше. Как в этих уму непостижимых стычках различить, что здесь от искусства, а что от удачи? Но ты заставил меня отклониться от предмета, Турнеброш, сын мой! Я хотел показать тебе, что ныне война – это позор человечества, а было время, когда она возвышала его. Навязанная государствам силой необходимости, она была великой наставницей рода человеческого. Благодаря ей люди воспитали в себе те добродетели, коими создаются и держатся города. Война научила людей терпению, стойкости, презрению к опасности и благородному самопожертвованию. В тот самый день, когда наши пращуры своротили каменные глыбы и соорудили ограду, дабы, укрывшись за ней, защищать своих жен и быков, было положено основание первому человеческому обществу и обеспечено развитие ремесел. Великое благо, коим мы обладаем, – отчизна, родной город, священный Urbs [227]227
Град (лат.).
[Закрыть], чтимый римлянами превыше богов, – это дитя войны.
Первый город был укрепленной оградой; вот в этой-то грубой кровавой колыбели были взлелеяны великие законы, прекрасные ремесла, знания и мудрость. Вот почему истинный господь пожелал называться богом воинств.
Все это я говорю тебе, Турнеброш, сын мой, не для того, чтобы ты записался в солдаты у этого сержанта-вербовщика и возымел желание стать героем и получать в среднем по шестьдесят палочных ударов в день.
В том-то и дело, что в нашем современном обществе война обратилась в наследственный недуг, в извращенное влечение к жизни дикарей, в преступное ребячество. Монархи наших дней, и в особенности покойный король, оставят по себе навеки позорную славу потому, что они превратили войну в игру и забаву своих дворов. Мне грустно подумать, что нам не дожить до конца этой заранее условленной бойни.
– Что же касается будущего, непроницаемого будущего, позволь мне, сын мой, представить его себе более сообразным присущему мне духу кротости и справедливости. Будущее – удобный приют для наших мечтаний! Там, как в стране Утопии [228]228
Там, как в стране Утопии… – Утопия – фантастическая страна всеобщего равенства и счастья, описанная в книге «Остров Утопия» (1516) английского гуманиста Томаса Мора.
[Закрыть], мудрец с радостью предается своим построениям. Я хочу верить, что настанет время, когда народы обретут мирные добродетели. Возрастающая мощь орудий войны сама по себе позволяет мне прозреть отдаленное предзнаменование всеобщего мира. Армии увеличиваются непрестанно и в силе и в числе. Наступит день, когда они поглотят целые народы. И тогда это чудовище погибнет от обжорства. Оно слишком раздуется и лопнет.