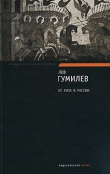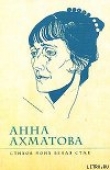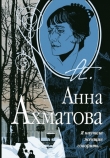Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Словом, в рассуждении изящных искусств почвы для взаимопонимания, а значит, и охоты к размену чувств и мыслей между двадцатидвухлетней Анной (пока еще не Ахматовой) и двадцатишестилетним Амедео (пока еще не совсем Модильяни) практически не было. Даже спустя полвека, имея в своем распоряжении множество искусствоведческих исследований, Анна Андреевна не в состоянии сказать что-нибудь интересное или хотя бы внятное о тех работах, какие видела в его мастерской и на выставке в галерее в 1911 году.
Не думаю также, чтобы Ромео и Джульетта в исполнении особ царского дома часами простаивали в египетском отделе Лувра, как утверждает А.А. Дотошные искусствоведы выяснили, что увлечение Модильяни Египтом относится к более позднему времени. В 1910 и 1911 годах он если и бредил, то негритянскими скульптурными примитивами, а они были выставлены не в Лувре, а в этнографическом музее. Вряд ли Анна Андреевна могла разделить эту страсть. Африкой и африканскими примитивами она была сыта по горло у себя в Царском Селе. Гумилев завалил ими весь дом, две картинки, за неимением свободного места, пришлось повесить даже в ее комнате. Впрочем, и египетский отдел Лувра не исключается: надо же было убедить молоденькую русскую, что тот Египет, от которого после устроенной Рябушинским московской выставки Ван Донгена пришли в восторг ее соотечественники, не настоящий. Вот как описывает юная племянница Владислава Ходасевича, начинающая художница Валентина, впечатление, произведенное на нее, да и на всех москвичей, ван-донгенской «Египтянкой»: «Картина меня поразила… Все остальное на выставке вдруг исчезло… Я видела вкомпонованную в прямоугольник холста женщину с головой, повернутой в профиль, с огромным, обведенным черной чертой египетским глазом, дальше – шея, плечо и из чего-то пламенеющего оранжево-желтого (может, это задранная причудливо юбка) нога в оранжевом чулке, видная от выше колена до икры. Все так скомпоновано, что и не на йоту не переместишь! Чудо! Но это же был Ван Донген, которого в Париже сразу «угадали» и закупали торговцы и вскоре признал весь мир».
Столь же бурно восхищалась Валечка Ходасевич и живописью «мирискусников», особенно их признанными всем миром театральными шедеврами: «Мои русские друзья меня совершенно забаловали: в «Гранд-опера» объявлены спектакли балетной труппы Дягилева – и, как это ни было трудно, раздобыли три билета. Какая радость! Танцевали и Анна Павлова, и Нижинский, и Карсавина, и этого было достаточно, а все окружение, постановка, художники! Непревзойденный тогда творец балетного костюма – Бакст…» И нет, повторяю, никаких оснований предполагать, что художественные предпочтения Анны Андреевны Гумилевой-Горенко были более «продвинутыми»! А если это так, то чем же все-таки задержала внимание художника чужая и наверняка, согласимся с самооценкой А.А., малопонятная ему русская дама? Вначале, похоже, тем, что была выразительной моделью для его «скульптурных рисунков». Современники в один голос утверждают, что Модильяни часами просиживал и в «Ротонде», и в других монпарнасских кафе в бесконечном ожидании подходящей натуры. «Жадной погоней за интересной натурой» объясняют мемуаристы и его постоянные блуждания по ночному Парижу. Не исключается, конечно, и банальный мужской интерес, но это наверняка лишь приправа, поскольку в чем в чем, а в этом (в красивых и опытных женщинах для необременительного секса) недостатка у него в те годы не было, а вот избыток наверняка был. Несмотря на строгое домашнее воспитание, попав в Париж, Модильяни моментально раскрепостился, дабы не отличаться от типичных представителей интернациональной богемы. В очерке Ахматова упоминает, что ей известны воспоминания одного из друзей Моди – Фрэнсиса Карко. Правда, не уточняет, почему из множества свидетельств запомнились именно эти. На мой же взгляд, эти мемуары потому и запомнились, что объяснили то, чему Анна объяснения не находила. Вот что писал Фрэнсис Карко об отношении Модильяни к женщинам:
«Женщины, на которых производила сильное впечатление его замечательная красота, очень быстро в него влюблялись. То были большей частью иностранки или совсем простые девушки. Но Моди бросал их раньше, чем они успевали привязать его к себе. Он рвал все, что ему казалось цепью…» Стать исключением из этого правила удалось, как известно, только двум его возлюбленным. Эксцентричная англичанка Беатрис Хестингс, дама состоятельная и самостоятельная, поэтесса, журналистка, певица, циркачка, почти три года удерживала Модильяни «бездны мрачной на краю». К этой же поре относится, кстати, и расцвет его творчества. Затем появилась юная художница – тихая девушка из приличной французской семьи Жанна Эбютерн. На ней-то Амедео де-факто и женился, хотя не успел оформить этот союз де-юре. Судя по всему, Ахматова, работая над воспоминаниями, ревниво сравнивала себя с обеими. С Жанной тайно, с экстравагантной и отчаянно смелой англичанкой – открыто. Беатрис Хестингс удостоилась в ахматовском очерке характеристики столь уничижительной и несправедливой, что В.Я.Виленкин вынужден был это мнение оспорить, при всем своем пиетете к авторитету Ахматовой. И соперничество, и ревность задним числом были, скажем честно, беспочвенными. Ни на ту, ни на другую роль – властной и сильной подруги (вариант Беатрис) или тихой, навсегда влюбленной жены (вариант Жанны) – мадам Гумилева не годилась. Зато у нее было то, чего у них не было и быть не могло.
Есть у Гумилева удивительные стихи – про таинственное «Шестое чувство»:
Так век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Век за веком… Его жене не нужно было ложиться под скальпель «природы и искусства»! Анна-провидица родилась с органом для шестого чувства, чувства поэзии. И Модильяни, видимо, это учуял, ибо не только любил поэзию, но и владел тем, что называют «чувством огня над словом». Мог, например, ночью ворваться в семейный дом, в котором когда-то приметил сборник Верлена, и до утра читать его. И не про себя – вслух! Да так громко, что соседи чуть было не вызвали домовладельца, дабы сдать нарушителя спокойствия в полицейский участок. Трудно назвать мемуариста, который не отметил бы (с разной степенью удивления) эту странноватую для нелитератора особенность. Вот два факта, но число аналогичных свидетельств можно с легкостью увеличить.
Илья Эренбург: «Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который бы так любил поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Бодлера, и Рэмбо…»
Жак Лившиц: «Когда я теперь думаю о Модильяни, он почему-то всегда ассоциируется у меня с поэзией. Потому ли, что меня с ним познакомил поэт Макс Жакоб? Или потому, что когда Макс нас знакомил… Модильяни вдруг начал в полный голос читать наизусть „Божественную комедию“?.. И позднее, когда мы были уже давно знакомы, Модильяни часто поражал нас своей любовью к поэзии, иной раз в самые неподходящие для этого моменты».
Никогда больше Амедео Модильяни не встретит человека, который столь же твердо, как эта малопонятная ему чужестранка, был бы убежден, что нет и не может быть жизненной ситуации, для стихов неподходящей. А если этот человек еще и женщина, и притом юная и прелестная, и к тому же явно неравнодушная, пусть и не к его живописи, но к нему… Этого более чем достаточно – и для того, чтобы влюбившись, – «не слишком, а слегка», сдаться в плен, и столь же легко – вырваться из плена. Русская Анна нисколько не походила на скучающих иностранок, на которых производила сильное впечатление его замечательная красота, но Модильяни разорвал и эту цепь, причем, судя по всему, до того, как поэзия жизни обернулась жизненной прозой, то есть банальной связью. Конечно, это только предположение. В воспоминаниях о художнике есть смутное указание на то, что летом 1911 года Модильяни вдруг пропал. Оставил свои холсты в какой-то гостинице, неподалеку от мастерской, той самой, куда Анна Андреевна приходила с охапкой маленьких красных роз, и растворился в парижском тумане. Вынырнул он из тумана неизвестности лишь в августе 1911-го в маленькой нормандской деревушке, где его тетка по матери Лора Гарсен сняла дом в надежде, что осень у моря поправит здоровье любимого племянника. Вот только вряд ли внезапное исчезновение Моди имело какое-то отношение к Анне Гумилевой. Госпожа Гарсен вспоминала впоследствии, что в то лето родные трижды высылали ему деньги на дорогу, а Дэдо никак не мог вырваться из Парижа из-за вцепившихся в него кредиторов…
Словом, на поверхности – сплошная разность. Но ежели копнуть глубже и глянуть дальше, окажется: в чем-то главном Анна и Амедео страшно похожи. Как и Модильяни, Ахматова почти на равных будет зачислена в круг открывателей новых путей в искусстве (по определению Ю.Н.Тынянова – новаторов). Но при этом, как и Модильяни, сохранит «архаический» ненасытный интерес к не общему всем переживанию. Да и с формальной стороны (старомодная наивность в сочетании со сложной простотой) резко выделят именно эту пару в агрессивно-футуристическом искусстве начала века. Они в нем оба – беззаконные кометы. Даже отношение коллег во многом подобно. В человеческом плане – почти любовное («О, как меня любили ваши деды!..»); в творческом – слегка снисходительное. Ахматова, к примеру, утверждала, что критики стали глядеть на нее более-менее внимательно только после того, как «Вечер» затвердила наизусть читающая публика. Впрочем, в дальнейшем снисходительное полувнимание критики, словно по воздуху, стало передаваться и читателям стиха. Да, ее любили, но – «почти стыдясь любви своей».[12]12
Очень характерно в этом плане свидетельство Д.Е.Максимова. Вспоминая кумиров поэтической молодежи конца двадцатых – начала тридцатых годов, Максимов приводит длинный список тогдашних «властителей дум», от Блока до Вагинова. Ахматовой в этом элитном списке нет. Конечно, Ахматова в нем все-таки присутствует, но незримо, на правах какой-то аномалии: «Эпоха расцветала невиданной поэзией, связанной с поэзией предшествующей и противопоставленной ей. Блок, Мандельштам, Пастернак, конечно, Маяковский, подальше – Хлебников, позже – Заболоцкий притягивали с особенной силой. Любопытствовали к Вагинову, интересовались символистами, Гумилевым, Анненским, Клюевым и наряду с ними – Тихоновым, Асеевым, Сельвинским…»
[Закрыть]
Впрочем, все это – и книга, и критики, и слава – в будущем. А пока, повторимся, и Ахматова не Ахматова, и Модильяни еще не совсем Модильяни. И что бы ни развело в 1911 году «возлюбленную пару» после месяца более чем приятного для обеих сторон общения, «развод» был настолько бесповоротен, что Модильяни ни разу не поинтересовался у приезжавших из России художников и поэтов о судьбе героини своего летнего увлечения. Ни у Александры (Аси) Экстер, ни у Максимилиана Волошина, ни у того же Эренбурга, с которым, как следует из воспоминаний Ильи Григорьевича, регулярно общался с 1912-го по лето 1917 года. Предполагаю, что и Анна Андреевна преспокойненько «вынула» бы из своей памяти романтическое приключение, если бы… Если бы этот воздушно-платонический роман, совпавший с ее внезапной и длительной, почти на три месяца, отлучкой в Париж, и в самом деле не стал причиной слишком многих ее бедствий.
Интермедия вторая (июнь 1910– июль 1911)
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала…
Анна Ахматова
Напрягите воображение и представьте себе положение Гумилева в лето 1911 года. Он только что вернулся домой после полугодового путешествия в Африку. Обрадовал жену тем, что наконец-то расхвалил ее новые стихи, объявил, гордясь, что она поэт и нужно делать книгу, а она… Вместо того чтобы эту книгу делать, а также сдавать экзамены на историко-филологических женских курсах, куда по его настоянию записалась еще осенью, укатила в город, в котором почти скучала всего год назад…
Узнав, что супруга «дядюшки» в Париже, слепневские барышни зашептались. Хорошо, что хоть матушка ни о чем не спрашивает, видимо, решив, что нравная невестка наказывает ее сына «за Африку». В этом отношении Анна Ивановна была на стороне Анны Андреевны и очень-очень надеялась, что ночная кукушка в конце концов выбьет из сына опасную дурь. Но дни летели, надвигался день рождения Анны, и Николай, уверенный, что жена приедет хотя бы к 11 июня, завалил ее светелку белой сиренью. Уже в начале июня писал приятелю: «Аня, наверно, скоро вернется» (письмо к В.И.Иванову из Слепнева в Петербург от 3 июня). Миновал июнь, катился к макушке лета июль – но ни Анны, ни писем от нее не было…
Словом, если поступки и эмоции Модильяни нам более-менее понятны, то понять Анну Андреевну труднее. Чтобы понять, естественно, на уровне психологического допущения, потому что настоящей, последней правды мы все равно не узнаем, попробуем собрать и сопоставить все то, к сожалению, очень немногое, что известно о жизни Ахматовой в промежутке между двумя ее Парижами – с первых чисел июня 1910 года, то есть с возвращения из свадебного путешествия, по 13 июля (по старому стилю) 1911-го – в этот день беглянка наконец-то доберется до тверского имения Гумилевых.
По некоторым сведениям, на обратном пути из Франции, в начале июня 1910 года, Анна задержалась в Киеве, а Николай Степанович отправился в Слепнево. Биографы Ахматовой предполагают: разлучение молодоженов – следствие взаимных разочарований. Результат тайных неудовольствий, будто бы начавшихся уже во время медового месяца. Вряд ли это соответствует истине, иначе Ахматова не стала бы говорить Лукницкому, что в Париже они с Колей были очень дружны. Никаких трений, как уже упоминалось, не заметил между ними и С.К.Маковский, один из главных свидетелей по делу Черубины де Габриак, после которого среди «аполлоновцев» за Гумилевым закрепилась репутация «повесы из повес». О том, что разлучение было мнимым (любимое словцо Ахматовой), свидетельствуют и ее стихи свадебного года, обращенные к киевской кузине Марии Александровне Змунчилло. Мария Александровна, Наничка, хорошо относилась к Гумилеву и очень старалась, чтобы брак все-таки состоялся. Кому-кому, а уж ей наверняка было приятно узнать, что Аннушка (в стихах) вспоминает месяц своей свадьбы с удовольствием и даже с несвойственной ей растроганностью:
Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы…
Вероятнее предположить, что разлучились «молодожены» по причине будничной, но по тем патриархальным временам немаловажной. Николаю Степановичу надо было как-то загладить перед матерью свое ослушание, объяснить, почему самовольно, не получив полагающегося родительского благословения, слишком поспешно женился. Во всяком случае, расстались они мирно, а проявлять свой «трудный характер» Анна стала позднее, после Киева, когда пришлось, как и было договорено, не сидеть в Царском, а ехать в Слепнево.
Началось, как водится, с мелочи, которую она тут же возвела в превосходную степень: Николай Степанович по совету матери, препоручив доставку жены в Слепнево своему племяннику Коле Сверчкову, даже не встретил их в Бежецке! Ничего нарочитого, направленного против «нежеланной невестки» в распоряжении свекрови наверняка не таилось. Анна Ивановна Гумилева – человек разумный. Что сделано, то сделано. Поживем – увидим. А что золотую карету за «новобрачной» не выслала, так нету кареты, а лошади все в поле – страда. Да и какие это лошади – клячи рабочие. Зато бежецкие ямщики мигом домчат. С ветерком и колокольцами. Опять же неизвестно, с каким поездом господа прибудут, а Николай дома нужен: свадьба не свадьба, а объявили большой родственный сбор. Слава богу, погода наладилась, столы для парадного обеда можно на вольный воздух вынести – столовая маленькая, а на большой террасе еще сыро.
Все вроде бы правильно, но Анна надулась. Народу незнакомого тьма, и все заняты чем-то своим, непонятным и неинтересным. Вдобавок как стали рассаживаться, Николай почему-то не к ней, а к кузинам присоединился. И вообще – что за порядки? Чинно, степенно… У них в семье, да и у родичей, что маминых, что отцовых, все наспех, по-быстрому: как-нибудь. А здесь? Сонное царство какое-то!
У Гумилевых, особенно летом, в деревне, и в самом деле жить не торопились и «как-нибудей» не уважали. «Жизненный уклад в большом доме, – вспоминает Екатерина Чернова, внучка одной из сестер первой свекрови Анны Андреевны, – был несколько старомодный и даже торжественный. Все члены семьи собирались в столовой, но не садились на свои каждому определенные места, пока не входила Варвара Ивановна. Она была старшая, и разница в возрасте между ней и Анной Ивановной была большая. Анна Ивановна рассказывала, что на свадьбе Вареньки она сидела у невесты под юбкой. Варвара Ивановна немножко стилизовала себя под Екатерину Вторую, и в семье любили отмечать это сходство. Была она ниже ростом, чем Анна Ивановна, полная, но не расплывшаяся, держалась прямо и величественно, волосы седые, совершенно белые, и на них черная наколка; когда она входила в столовую, к ней подходила Анна Ивановна, старшая сестра обнимала ее, а остальным делала общее приветствие. Тогда можно было садиться за стол. Разговор был общий, но младшие не начинали его, а только отвечали на вопросы старших».
В старости и в Анне Андреевне начнут находить сходство с импозантной императрицей, и она, хотя и не совсем всерьез, будет обыгрывать, а иногда и разыгрывать королевствующий образ – стилизуя себя под Екатерину Вторую. Подчеркнуто прямая спина. Чересчур яркие и обильные седые волосы. Слишком величественные повороты головы и полужесты маленьких изящных рук… Не вспоминала ли при этом Анна Андреевна слепневские торжественные обеды и королевствующую сестрицу свекрови? Если и вспоминала, то наверняка с удовольствием, не то что в молодости, при первых встречах с новыми родственниками…
Еле-еле дождавшись «перемены декораций» (чай решено было пить в столовой), Анна улизнула по-английски в свою светелку. В сердцах с грохотом задвинула щеколду. И чемодан распаковывать не стала. Николай, часа через три, поднялся по шаткой лесенке. Потоптался перед запертой дверью, да так и ушел – несолоно хлебавши. На цыпочках, стараясь не скрипеть рассохшимися ступеньками. А из сада, большого, фруктового, что за дорогой, долго еще доносился красивый девичий голос. Свежий, влажный и немного насмешливый:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…
Кто же из барышень Кузьминых-Караваевых так хорошо поет? Ольга или Маша? Кажется, все-таки Ольга…
Будить Анну к завтраку не пришлось. Проснулась сама. Ни свет ни заря. Но из-под одеяла не вылезла: ждала. Николай не появился. А когда внизу засуетились, очнувшись от покойного, по-слепневски сладкого сна, навела красоту, спустилась и с порога, полусолгав свекрови, что надо срочно показаться дантисту, приказала Коле-маленькому отвезти ее к петербургскому поезду. Гумилев, с утра пораньше ускакавший к соседям – звать в гости на вечер, вернувшись к обеду, жены не застал. Хотел было ехать за ней, но умная мать отсоветовала: пережди день-другой, пускай остынет и вылечит зуб. Пережидал. Анна не вернулась. Пришлось ехать мириться. Помирились. Даже съездили вместе в Павловск. Но мир продолжался недолго.
К Гумилеву, воспользовавшись отсутствием «старших», съехалась картежная холостая компания. Играли всю ночь, потом весь день отсыпались. Николай Степанович, сильно проигравшийся, был не в духе. К тому же с утра пораньше, пока другие «отдыхали», обложился книгами и картами. Осень-де не за горами, а осенью, мол, непременно уедет в Африку. Книги про Африку все больше французские. Во французском Гумилев, несмотря на два парижских года, не силен. То и дело приходилось лезть в словари. Анна могла бы помочь, но закапризничала и отказалась. Муж обиделся и стал насмешничать. Не зло, добродушно, дескать, лень прежде тебя родилась. А тут еще Кузмин, как выигравший, послал за шампанским. Шампанское развязало ему язык, и он, чтобы не скучала, решил повеселить молодую хозяйку рассказом о прошлогоднем романе ее мужа с легендарной Черубиной де Габриак.
Про приключение Гумилева с мадемуазель Ч. Анна Андреевна впервые узнала от Толстого. Еще в Киеве. До свадьбы. Но Алексей изображал происшествие в комических красках: хромоножка и дурнушка заварила кашу, перессорила порядочных мужиков. И быть бы кровавой дуэли, ежели б Волошин не потерял калошу. А стреляться без калош, как человек осмотрительный и отчасти немецкого происхождения, наш коктебельский башневладелец, сама знаешь, Аннушка, не мог…
Кузмин рассказывал иначе. Мол, все было настоящим. И роман. И дуэль. А Елизавета Дмитриева, она же Черубина де Габриак, хотя и с изъянцем, в разврате толк знает.
Попытавшись выяснить у Николая, какая из версий больше похожа на правду, Анна неожиданно для себя нарвалась на такой бешеный взрыв ненависти, что даже оробела. Что должна была натворить та странная женщина, чтобы ее Коля, никогда ничего дурного не сказавший ни об одной из своих пассий, так взорвался? Однако задать мужу этот вопрос не посмела. Да у него и часа свободного не было, по уши в делах.
Так и не дождавшись этого свободного часа, Анна, осердясь, укатила в Киев. Коротая бессонную ночь, пыталась сочинять стихи, но перестук колес не совпадал с внутренним ритмом. А на рассвете, в полудреме, привиделось: Николай на чужом, сером в яблоках, жеребце, холеном, гладком, не чета слепневским рабочим меринам. Красуется. И не перед ее окном! Из ее боковушки Анна Ивановна называет эту клетушку светелкой – лица всадника не видно. Однако со спины, на высокой лошади, муж красив, даже слишком красив! «А ты думал… я тоже такая… Что можно… забыть… меня… Что я брошусь, моля и ры-да-я… под копыта твое-го ко-ня…»
…В коридоре засуетились. Поезд притормозил. Стихи остановились. До самого Киева, как ни старалась, – ни строчки. И в Киеве то же самое: обезголосела. Так и просидела весь август, забившись с ногами в угол дивана, букой и несмеяной. Ссорилась с сестрой, дерзила матери. Словно заколдовали, и из замужней элегантной дамы стала пятнадцатилетней дурындой. И боялась смотреть в зеркало. Как только вошла в переднюю, снимая новую шляпку (Наничка, насмешничая, назвала сие французское изобретение «шаплеткой»), глянула победоносно в зеркало и испугалась. Кожа несвежая. Под глазами круги. Губы в запекшейся шершавости. Попробовала пошутить: фу, какой морд! И на такой морд Париж оборачивался? Не получалось. Сидела и ждала. Наконец принесли письмо, короткое, как телеграмма: «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, я уезжаю в Африку». Все. Ни просьб, ни сантиментов. Если хочешь… Ну, что ж, хочу. По приезде выяснилось, что Николай слукавил, до отъезда еще почти месяц. Отъезд запланирован, оказывается, на 15 сентября. Тринадцатого устроили прощальный вечер, но Гумилев сдал билет: Анна Ивановна, приболев, задерживалась в Слепневе. Не простившись с матерью, Николай Степанович уезжать не хотел, слишком помнил, чего стоил отцу его предыдущий африканский вояж…
Наконец и Анна Ивановна добралась до Царского, и двадцать второго, неделей позже намеченного, все-таки уехал. Минимум на четыре месяца. А скорее всего на полгода. Про четыре месяца сказано было Анне. Матери Николай назвал другой срок: не раньше марта.
Как же прожила Анна Андреевна, пока еще не Ахматова, эти бесконечно длинные полгода? Судя по стихам, правда, поздним, написанным на склоне лет, в начале «плодоносной осени», – беспечально:
Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.
В той же беспечальной тональности описаны месяцы «соломенного вдовства» и в «Автобиографических заметках», начатых во второй половине пятидесятых: «Осенью 1910 г. Гумилев уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, д. Георгиевского). Как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от „Кипарисового ларца“. Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла… Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали… 25 марта 1911 г. старого стиля (Благовещенье) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку… В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: „А стихи ты писала?“ Я, тайно ликуя, ответила: „Да“. Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: „Ты поэт – надо делать книгу“».
На самом деле возвращение Анны Андреевны из провинции в столицу, равно как и творческая история «Вечера», было роковым образом омрачено, окрашено в цвет траура полугодовым «соломенным вдовством». А особенно тем, что и первое замужнее Рождество, и первый семейный Новый год ей пришлось встретить в амплуа «полуброшенной новобрачной». Анна Андреевна суеверно относилась к такого рода датам. Максима любимого ею Лермонтова – «Во всякой жизни промелькнуло чувство, пробежало событие, которое никто, никогда и никому не откроет, а оно-то самое важное и есть, оно-то и дает по обыкновению направление и мыслям, и поступкам» – наверняка приложима к той ситуации, в которой она оказалась осенью 1910 года. Сказать, что утаенное Анной чувство – обида, а событие – отъезд мужа, – еще ничего не сказать, поскольку чувство было сложносоставным, а событием стал не столько сам отъезд, сколько отъезд в сочетании с множеством сопутствующих ему открытий. А что, если Николай – прирожденный бродяга и из их брака ничего не выйдет? Не получится даже такого странного союза, как у четы Блоков? Если бы провидческая догадка не промелькнула в жизни Анны Андреевны, вряд ли в ее записной книжке появилось бы такое горькое семистишие:
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.
Наверняка доходили до Анны Андреевны и домашние толки о влюбленности Николая Степановича в Машеньку Кузьмину-Караваеву. Нет, она не ревновала или почти не ревновала, скорее, терялась в догадках. Ее четкий и здравый ум никак не мог совместить одновременность (а выходило именно так!) мужниных любовных историй. С Черубиной де Габриак. С Машенькой. И с ней, Анной. Спать с одной, слыть красиво влюбленным в другую, добиваться руки третьей? Да еще и уверять ее: «Я понял, что в жизни меня интересует только то, что имеет отношение к вам…» Вдобавок Валя Тюльпанова, знать ничего не знавшая ни о мнимой испанке, ни о слепневских амурах Гумилева, в припадке откровенности назвала и еще одно имя – своей товарки по царскосельской гимназии, Лиды Аренс. Анна не поверила. О трех дочерях адмирала Аренса – Анне, Зое и Верочке – Николай ей и вправду что-то говорил, а об адмиральской племяннице Лиде – никогда. Ни единого слова. Но Валя клялась-божилась: все наши знают, Лида из-за романа с Гумилевым даже из дома ушла. Так кто же на самом деле тот, за кого она выходила замуж? Не по любви-страсти, а в надежде на опору, защиту и постоянство? Любовник Черубины, соблазнитель Лиды Аренс, нежный воздыхатель несчастной Машеньки Кузьминой-Караваевой?
Не будем забывать и о сугубо бытовых и крайне щекотливых оттенках ситуации, в какую Николай Степанович поставил жену своим отъездом: без родных, без друзей, в чужой среде и без какого-либо твердого занятия. Конечно, Анна Андреевна и виду не подает, что обижена, оскорблена и растеряна, но именно эти чувства определяют направление ее поступков и осенью 1910-го, и зимой-весной 1911-го…
Хотя Ахматова и утверждала в процитированной чуть выше «Автобиографической прозе», что после отъезда мужа осталась в его доме в полном одиночестве, это не соответствует истине. Вместе со свекровью, одной семьей, постоянно жила вдовая ее падчерица Александра Сверчкова с двумя детьми, семнадцатилетним Николаем и тринадцатилетней Марусей. А как только Николай Степанович уехал, в доме прочно осел его старший брат Дмитрий. И с Колей-маленьким, и с Марусей Анна Андреевна поладила. А вот с Дмитрием, особенно с супругой его, тоже, напомним, Анной и тоже Андреевной, вся разница в масти, отношения сразу же и навсегда не сложились. Старшая, белокурая, невестка, особа недалекая и педантичная, инстинктивно выдавливала младшую, черную худую овцу, из общесемейного распорядка, из-под «уютного домашнего кустика», сообщая (всему свету по секрету): «В дом влилось много чуждого элемента». Обратим внимание: не просто чужого – чуждого. Хотя вся вина «элемента» заключалась лишь в том, что «элемент» поздно вставал, войдя в столовую, говорил: «Здравствуйте все», за столом как бы отсутствовал, а вечером либо что-то писал, запершись в своем «будуаре», либо уезжал в Петербург и ночевал незнамо где, то ли у отца, то ли у подруги детства. Сильно не нравились Анне-блондинке и частые отлучки Анны-брюнетки в град Киев. Сколько денег на ветер! А деньги-то не ее – Колины, то есть общие, из-под уютного кустика, из семейной копилки!
Поведение Анны-брюнетки в зиму 1910/11 года и впрямь странновато для новобрачной. Даже для «полуброшенной». Уж очень «эмансипировалась»! Полгода назад от мужа ни на шаг не отходила, а после его отъезда что ни вечер – в гости, а ежели на Башню, к Вячеславу Иванову, так и до утра. До того расхрабрилась, что самостоятельно, за десять дней до возвращения Гумилева, 16 марта 1911 года, не имея в активе ничего, кроме публикации стихотворения «Старый портрет» (Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни. 1911. № 3), обратилась к влиятельному критику Г.И.Чулкову с письменной просьбой поговорить с Вячеславом Ивановым о ее приеме в «Общество ревнителей художественного слова» при редакции журнала «Аполлон». Да и в Киеве А.А. не просто побывала, а практически прожила более трех месяцев – с середины октября до начала декабря, затем весь январь. Ностальгических эмоций ни к городу горькой своей юности, ни к тамошним родственникам Анна Андреевна не испытывала. Зато они, родственники, теперь, когда бедная Аня заявлялась из столицы, нарядная и с подарками, внезапно нахлынувшей семейственной приязни не скрывали. К тому же все здесь было дешевле, чем в Царском. А главное, теплее. Позднеосенний и раннезимний Петербург она, мерзлячка, выносила с трудом. Имелось про запас и еще одно сугубо киевское преимущество: если родственные объятия становились слишком тесными и мешали стихам, можно было снять на неделю-другую комнату. Даже ту самую, с отдельным выходом в сад, откуда прошлым апрелем они с Николаем уезжали в Париж. Лучшей в ее жизни уже не будет. Особенно уютно в ней осенью – благодатной, изнемогающей от обилия цветов и фруктов.
Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе.
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.
И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: «Seigneur, avez pitié de nous».
Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи…
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые плащи.
Последний луч, и желтый, и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,
И, как во сне, я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.
В стихах про комнату с букетом георгин речь идет о золотой покойной осени. Зиму же, диктуя Лукницкому хронику своей жизни, Ахматова назовет «беспокойной». Не объяснив, правда, причины беспокойства. Зачем? Дескать, об этом уже рассказали стихи!