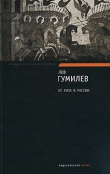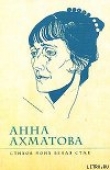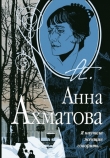Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Анна замолчала. Ни Андрей, брат, ни Валя Тюльпанова не могли ее разговорить, а Колю Гумилева она избегала. Но он все-таки ее находил, нарочно подружился с Андреем, ради нее уговорил родителей устроить на Пасху домашний бал. Уж лучше бы не устраивал! Едва войдя к Гумилевым, Анна сразу поняла – в этой семье все иначе, чем у них. Здесь дети – и свои мальчики Митя и Коля, и внуки от старшей вдовой дочери отца – главные люди. Николай и раньше рассказывал, что отец не только разрешил ему не ехать на дачу, когда открывали в Царском Селе памятник Пушкину, но и сам отвез на тот праздник, хотя что ему, корабельному врачу, кроме книг про путешествия, ничего не читавшему, Пушкин? Теперь-то Гумилев и сам перезнакомился со всеми столичными книжниками, а когда был маленьким, родители, заметив у младшего сына страсть к чтению, договорились со знакомым букинистом, чтобы тот за небольшую плату давал им книги «с возвратом». Возвращали не все, стоящее непременно приобреталось и содержалось в отменном порядке, где бы Гумилевы ни жили. А места жительства приходилось менять часто, и все из-за сыновей. Когда выяснилось, что Николай по состоянию здоровья не может учиться в казенной гимназии, продали дом в Царском Селе и переехали в Петербург, чтобы мальчик мог ходить в частную гимназию с щадящим режимом. А вскоре опять перебрались, и не куда-нибудь, а в Тифлис (у старшего сына Дмитрия врачи обнаружили туберкулезный очаг в легком). В Тифлисе Степан Яковлевич, хотя было ему сильно за шестьдесят, устроился на службу, чтобы оплачивать теплую, с удобствами, квартиру. То же с дачами: сначала приобрели Поповку, маленькое, без хозугодий, имение под Петербургом. Лошадей тем не менее держали, и только для того, чтобы Коля с товарищами мог играть в ковбоев!.. Едва наладили дачный быт, опять вмешались врачи: дескать, в Петербургской губернии сыро и холодно, надо переменить климат. Гумилевы, люди и немолодые и небогатые, тут же продали Поповку, чтобы купить дачу под Рязанью. Не для себя, для детей…
Матери Николая, Анне Ивановне, читать некогда. На ней дети, дом, огород, оранжерея, сад. Но все равно: каждую книжку на столе у сыновей просмотрит – чтобы, не дай бог, ерундой голову не забивали и глаза попусту не транжирили, у младшего и так со зрением нелады, астигматизм. И если б только о здоровье пеклись – любую искорку увлечения не гасили, а изо всех сил раздували, как воскресный самовар! Чуть увлекся Коля зоологией, а в дому – целый зверинец. И белка, и белые мыши, и птицы, и морские свинки!
После того «бала» Анна стала возвращаться из гимназии другой, тайной, долгой дорогой. Она не завидовала «мальчикам Гумилевым», но видеть их, особенно Колю, не хотелось: такие благополучные, ухоженные, залюбленные, пироги-соленья, пышки-варенья… Гумилев ее все-таки выследил, подкараулил в парке, выскочил из кустов, как бог из машины, оживленный, веселый, и говорил, говорил… О Париже, в который поедет, как только кончит гимназию. Об Африке. О сборнике стихов, для которого уже и название придумал – «Путь конквистадоров». А деньги на издание дает мать. И вдруг сделался прежним – чопорным и торжественным, взял за руку, повел к своему вечному дубу и… сделал старорежимное, словно героине семейного романа, предложение: «Я прошу вас, Анна…» И тут уж она заговорила. Его женой? Да как он смеет? У него и так есть все: и свой дом, и отец, и у него никогда никто не умирал! Париж? Африка? Какая Африка, когда столько горя? Стреляют, вешают, бросают бомбы… Путешествовать хорошо, если в душе – тишина, а когда взрывают, следует сидеть на месте, забиться в угол и замереть. Чтобы все забыли, что ты – есть.
Он повернулся и ушел. И не сказал ни единого слова.
Мгновение назад она ненавидела его: сопляк, начитавшийся Ницше! А сейчас ненавидела себя: черная, злая, вздорная. И если бы он обернулся… Он не обернулся.
В год гибели, перед самым арестом, в стихотворении «Мои читатели» Николай Гумилев вспомнит первую свою беду и обиду: они определили стиль его поведения и в жизни, и в творчестве:
Много их, сильных, злых и веселых,
…………………………………
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои стихи в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда кругом свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во всей Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
Не простит себе своей первой женской вины и бессмысленной, безответственной жестокости и Анна Ахматова. В «Поэме без героя», начатой в сороковом году, в возрасте, какой почитаемый ею Данте называл серединой дороги жизни, она, вспоминая себя в юности, скажет сурово, просто, бесслезно: «С той, какою была когда-то… снова встретиться не хочу».
11 июня 1905 года Ане Горенко исполнилось шестнадцать лет. А первого августа, проводив мать и малышей в Киев, к старшей сестре, Анна и Андрей уехали к родственникам в Евпаторию. Ехали долго, почтовым, экономили деньги. Андрей пытался утешать сестру. Вот кончат гимназию, начнут зарабатывать, купят дом и опять соберутся все вместе. Как в Царском. И даже лампу отыщут такую, какая была в детстве, желто-керосиновую, а не масляную. И кажется, верил в то, что говорил. Но она-то знала: и рассеяние, и бездомность навсегда. Горько саднила и еще одна утрата – разлучение с Царским Селом, а значит, и с Петербургом. Судьба вдруг и разом отняла у нее все: отца, свой дом, свой сад, пусть с лопухами и крапивой, но сад, свою комнату, а главное – отечество, в том самом пушкинском смысле слова: «Нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село». А это как дышать одним легким.
Мы почти ничего не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю. Целое пятилетие – с августа 1905-го по апрель 1910-го – покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой подробности. Судя по ее письмам к мужу старшей сестры Сергею фон Штейну, Анна пыталась «наложить на себя руки». А вот о том, что толкнуло ее на такой странный при ее жизнелюбии поступок, и ему не рассказала. Ситуацию могли бы прояснить стихи кризисных лет, но они, как уже упоминалось, уничтожены. Сожжена и многолетняя – с 1906-го по 1910-й переписка с Гумилевым. И все-таки попробуем, собрав по крупице обрывки фактов, реконструировать предполагаемые обстоятельства.
Летом 1906 года, получив аттестат зрелости и издав на средства родителей «Путь конквистадоров», Николай Степанович перед отъездом в Париж успел повидаться со старшим братом Анны. О чем говорили молодые люди и возникало ли в беседах имя Примаверы (под этим именем Анна фигурирует в ранней прозе Гумилева), мы не знаем. Но, видимо, Андрей, приехав в Киев, где Анна сдавала вступительные экзамены в здешнюю гимназию (евпаторийская оказалась хуже некуда), посоветовал сестре сделать шаг к примирению. Этот шаг Анна сделала лишь осенью. Летом ей было не до Гумилева: 15 июля 1906 года умерла Инна. К горю примешивалось унижение: чтобы похоронить жену, Сережа Штейн вынужден был подать прошение о вспомоществовании в счет жалованья. Мать умершей ничем не могла ему помочь.
Гумилев письму, первому после объяснения в Екатерининском парке, обрадовался несказанно, завязалась переписка. В конце апреля 1907 года проездом из Парижа в Царское Село он появился в Киеве, где теперь у своей двоюродной сестры Марии Александровны Змунчилло жила Анна. Отношений на этот раз они, кажется, не выясняли: Хлоя сдавала выпускные экзамены, Дафнис спешил пройти медицинскую комиссию на предмет отбывания воинской повинности. Кроме того, планировал, завернув в Москву, нанести визит Брюсову, с которым регулярно обменивался литературными соображениями. Договорились, что встретятся летом или осенью в Севастополе. Получив вольную (был признан «неспособным к армейской службе по причине врожденного астигматизма глаз»), Николай тут же двинул на юг к Анне. Снова сделал устное предложение, в подтверждение многочисленных письменных, но вновь получил отказ, правда, не столь резкий, как в Царском под дубом. Для Гумилева реакция Анны было неожиданностью. Неожиданной кажется она и нам, поскольку, благодаря счастливой случайности известно, что писала «неневестная невеста» Гумилева всего несколько месяцев назад, в феврале 1907-го, Сергею фон Штейну. Как видно из этих писем, Анна очень ждала встречи с Гумилевым.
2 февраля 1907. Киев
Милый Сергей Владимирович… я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь… Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года. И я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю… Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда это произойдет. Это – тайна, я даже Вале ничего не писала.
Февраль 1907. Из Киева
Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, когда приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas… Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно!»
Следующее, от 13 марта 1907 года, письмо Ани Горенко к Сергею Владимировичу также наполнено Гумилевым. На этот раз обсуждается издаваемый Николаем Степановичем журнал «Сириус» и опубликованное в нем ее стихотворение «На руке его много блестящих колец…». О чувствах речи не то чтобы нет, но их затушевывает нетерпеливая надежда на перемену скитальческой судьбы. Впервые Анна открыто говорит о том, что ей хочется в Петербург, «к жизни, к книгам», что южные ее города, еще недавно казавшиеся романтическими и поэтическими, грубы и грязны. На мартовское письмо Анны Сережа Штейн не ответил. Переписка оборвалась. Но поздней осенью, а может быть, и ранней зимой 1907 года, письмо без даты, уже в Севастополе, у нее вновь появилось желание поговорить со своим конфидентом, на этот раз не о Гумилеве, а о своей странной болезни и о намерении убежать за границу: «…Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что и Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа.
Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных вещей на память о ней… Не говорите никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею… Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать…»
Тяжелая легочная болезнь – бронхит, перешедший в плеврит, при семейной предрасположенности к туберкулезу – вполне реальная причина вспышки отчаяния. И все-таки, думается, корень беды не в физическом недуге, а душевном потрясении, истинная причина которого утаена и от Сергея Владимировича, и от Николая Степановича. Видимо, в Севастополе, куда Анна Горенко уехала сразу же после окончания гимназии, и именно летом, пока Гумилев утрясал свои проблемы в Москве и Петербурге, с ней произошло нечто такое, что круто изменило и жизненные ее планы, и взятые на себя обязательства. Когда Николай Степанович, как и договаривались в письмах, приехал в Крым, ни о свадьбе, ни о возможности брака речи уже не было. Это печальное для обоих свидание у самого моря запечатлено Гумилевым в стихотворении «Отказ»:
Царица иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»…
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.
Гумилев вернулся во Францию (июль 1907 г.) с опечаленным сердцем. О его состоянии свидетельствует стихотворение, написанное в Париже 19 сентября того же года:
На камине свеча догорала, мигая,
Отвечая дрожаньем случайному звуку.
Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.
Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
Об обрывках давно миновавших событий,
И шептал: «О, убейте меня, о, повесьте,
Забросайте камнями, как пса задавите!»
В набегающем ужасе странной разлуки
Ударял себя в грудь, исступленьем объятый,
Но не слушались жалко повисшие руки
И их мускулы, дряблые, словно из ваты.
Он молился о смерти… навеки, навеки
Успокоит она, тишиной обнимая,
И забудет он горы, равнины и реки,
Где когда-то она проходила живая!
Но предателем сзади подкралось раздумье,
И он понял: конец роковой самовластью.
И во мраке ему улыбнулось безумье
Лошадиной оскаленной пастью.
Нестерпимая мука от странной разлуки усугублялась беспросветной нищетой. Все деньги, врученные ему матерью, Николай истратил на поездку в Севастополь. Не видя иного выхода, он решил утопиться, для чего пешком отправился в Нормандию: уж если топиться, то не в вонючей Сене, как клошары, а в открытом море. Утопиться Гумилеву не удалось. Его арестовали за бродяжничество. По возвращении в Париж он занял денег у полузнакомого ростовщика и снова отправился в Киев, твердо решив, что на этот раз добьется вразумительного и прямого решения – либо «да», либо «нет». Анна сказала: «нет». Через двадцать лет, рассказывая историю первого своего замужества Лукницкому (Лукницкий, напоминаю, собирал материалы для биографии Гумилева), Анна Андреевна назовет этот отказ окончательным («Так продолжалось до 1908 г., когда, приехав к А.А, получил окончательный отказ…»). И хотя, как мы знаем, окончательным отказ не стал – через два года Аня Горенко станет женой Николая Гумилева, – и Ахматова не оговорилась, и Лукницкий не ослышался. Тому Коле, каким Аня Горенко его знала по Царскому Селу, та Аня и впрямь отказала окончательно. Не кокетничая, не играя роль жестокой царицы, не прикидываясь капризным ребенком. Больше того, чтобы отрезать путь к отступлению, призналась: в ее жизни есть мужчина, с которым она была близка. И хотя, испугавшись страшных Колиных глаз, спохватилась и принялась уверять отставного жениха, что ничего такого не было, что оговорила себя нарочно, Гумилев ей не поверил. После его смерти томимая чувством вины, А.А. призналась Лукницкому, что по малодушию долго морочила Николаю Степановичу голову: то признавалась, что с тем человеком все было (уж если выходить замуж за друга юности, то надо рассказать о своих грехах честно, как на исповеди), то лукавила, уклоняясь от слишком уж прямого ответа на прямой вопрос.
Об обстоятельствах, при которых происходило расставание Дафниса и Хлои, мы можем составить некоторое представление, вчитавшись в стихотворение Ахматовой «Протертый коврик под иконой…». Конечно, это не зарисовка с натуры и не дневниковая замета. И все же характер отношений в момент «окончательного отказа» изображен, именно изображен, а не просто назван, на редкость откровенно. Видимо, именно поэтому Анна Андреевна и не называла «Протертый коврик…» среди вещей, посвященных Гумилеву:
Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
Из бедной этой комнаты вышел шатаясь, чтобы не возвращаться больше, нелепый и нескладный гимназист, автор осмеянного критикой «Пути конквистадоров», золотой рыцарь, трогательно влюбленный в «Деву Луны». Он покончит с собой в Париже в декабре 1907 года. А тот Гумилев, которого случайно подобрали в Булонском лесу возле глубокого рва, окружавшего старинное крепостное сооружение, и чудом возвратили к жизни, был совсем, совсем другим. Решительно не похожим ни на отчаявшегося бродягу, за которого его приняли полицейские в Нормандии, ни на «мальчика веселого», помогавшего Ане Горенко выбирать елочные игрушки в алмазный сочельник 1903 года. В знаменитом стихотворении «Память» Гумилев писал:
Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Возвращение почти с того света освободило его душу от детских одежд, мешавших стареть и расти. Гумилев сбросил их, как змеи старую кожу. В январе, несмотря ни на что, вышел его второй поэтический сборник «Романтические цветы» с посвящением Анне Горенко. Посвящение было вписано в наборный экземпляр до событий лета – осени 1907 года, но Гумилев не стал его вымарывать, тем паче что, едва придя в себя, получил от Анны жалкое и виноватое письмо (Андрей Горенко, которого Гумилев заманил-таки в Париж, телеграммой известил сестру о драме в Булонском лесу). На обратном пути в Россию, на этот раз насовсем, Николай Степанович неожиданно для себя сошел с поезда в Киеве, видимо, истолковав вспышку вины и жалости «ушедшей невесты» как отмену «окончательного отказа», и напоролся на очередной «окончательный отказ».
Пора было начинать другую жизнь. Жизнь без Анны.
Интермедия первая (1908–1910)
Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печалей в пути…
Анна Ахматова
Вернувшись в Царское, Николай Степанович немедленно, чтобы не терять год, подал прошение о зачислении в Петербургский университет. Съездил также в Тверскую губернию, в наследственное имение Львовых сельцо Слепнево. После смерти крестного Л.И.Львова Слепнево унаследовали сестры адмирала, в том числе и мать Гумилева Анна Ивановна. Тогда же, видимо, Николай познакомился с внучками старшей своей тетки Марией и Ольгой. Так и не решив, в которую из двух влюбиться, воротился в Царское, где между делом приволокнулся за самой пикантной из «девочек Аренс» (у адмирала Евгения Аренса, военного коменданта Царского Села, было несколько хорошеньких дочерей). Родители были так счастливы, что блудный сын наконец-то при них, да еще и поступил в университет, что сделали ему дорогой подарок: дали деньги на турпоездку в Египет. На обратном пути из Африки Гумилев опять задержался на сутки в Киеве, но, кажется, для того только, чтобы показать Анне, что наступил-таки конец ее «роковой» над ним власти. Говорили в основном о написанных ею стихах. Гумилев слушал внимательно, но хвалить не стал. Во-первых, текстов было слишком мало. Во-вторых, стихи были наивнее и младше нынешней Анны минимум на пять лет. Ей скоро двадцать, а вирши пятнадцатилетней.
Перед самым отъездом из Парижа, жаркой весной 1908 года, этого нового, сбросившего тесную кожу Гумилева видел Алексей Николаевич Толстой. Он и оставил его замечательный по выразительности портрет:
«"…Они шли мимо меня, все в белом, все с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них – мне было покойно, я думал: "Вот она, смерть". Потом я стал думать: "А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет"… Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, – белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом я наконец приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу на траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук… Опираясь о землю, чтобы подняться, я ощутил маленький, с широким горлышком пузырек – он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал на ладонь яд, я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда. Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того… была одна девушка…"
Мы сидели в кафе, под каштанами… Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Руки его лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой… В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом… Обо всех этих заманчивых вещах Гумилев мне рассказывал глуховатым голосом, сидя прямо и опираясь на трость… Часто проходили дожди. И в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев… Так я никогда и не узнал, из-за чего он хотел умереть. Теперь окидываю взглядом его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, его возбуждала ее близость. Он был мужественен и упрям. В нем был налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен – капитан призрачного корабля с облачными парусами…»
Воспоминания Толстого приоткрывают крайне важную черту в характере Гумилева: он никогда и ни с кем не был до конца откровенен. Почти шапочному знакомому в мельчайших подробностях описал свое состояние в момент попытки самоубийства, а из-за чего хотел умереть, не счел необходимым объяснить. Даже Анна Андреевна и та считала, что у ее первого мужа был какой-то особый вид скрытности. В записи П.Н.Лукницкого это мнение Анны Андреевны сформулировано так: «Николай Степанович никогда – это его особенность – не давал другим узнать своей сущности, своих мыслей, своих мнений, своих знаний, своей биографии». Как это ни странно, в числе других оказывалась и Анна, даже тогда, когда Гумилев утверждал: во всем мире его интересует только то, что так или иначе связано с ней. К примеру, он никогда ничего не говорил жене ни о Машеньке Кузьминой-Караваевой, ни о своих чувствах к ней. Лукницкий, как биограф Гумилева, очень интересовался этим романом своего героя. Но Анна Андреевна ничем не могла ему помочь, несмотря на то что эта история развертывалась у нее на глазах в течение почти двух летних сезонов и не втайне от нее Гумилев ездил к больной Маше в санаторию, где та умирала от чахотки. Ничего не скрывал – и тем не менее умудрился оставить самое пристрастное и внимательное лицо в полном неведении относительно сущности происходящего!
Тайной за семью печатями остался для Ахматовой и другой добрачный роман Гумилева, хотя он еще более важен для его биографии, чем романтическая влюбленность в смертельно больную кузину. Я имею в виду историю отношений Николая Степановича с поэтессой Елизаветой (Лилей) Ивановной Дмитриевой, вошедшей в историю Серебряного века под псевдонимом Черубина де Габриак. Долгие годы Елизавета Ивановна тщательно скрывала правду о своем романе с Гумилевым. И потому, что у нее был официальный жених. И потому, что правда не вписывалась в ее давние отношения с Максимилианом Волошиным. Истина чуток приоткрылась лишь в 1926 году. В письме Елизаветы Ивановны к критику и библиографу Евгению Архипову, страстному поклоннику ее поэзии! «В первый раз, – пишет Дмитриева, – я увидела Н.С. в июле 1907 года в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледный, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал голубую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н.С. читал стихи (из "Романтических цветов"). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик. Н.С. купил для меня такой букет… Вот и все. Больше я его не видела, но запомнила. Запомнил и он. Весной уже 1909 года в Петербурге я была с большой компанией на какой-то художественной лекции в Академии художеств, – был и Максимилиан Волошин, который казался мне тогда недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н.С., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер моей жизни. Мы поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н.С. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга… Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть». «Не слушаясь и не кроясь я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Н.С. на альбоме, подаренном мне».
Добавим: весной 1909 года Елизавета Ивановна не могла не вспомнить полузабытого парижского знакомца. Ведь ее заново знакомили не просто с «юношей бледным со взором горящим», а с сотрудником самого модного в Петербурге журнала «Аполлон»! В ту весну впервые за много лет Гумилев чувствовал себя почти свободным от «самовластья» бывшей невесты. Оттого и держался свободнее, смелее и даже развязнее. В знак освобождения вписал в альбом новой своей пассии стихи, использовав сочиненную для Анны дарственную…[6]6
Ранней весной 1907 г., отослав Анне свою фотографию, а также бодлеровские «Цветы зла», Н.С. сделал на книге такую надпись: «Лебедю из лебедей – путь к ее озеру».
[Закрыть]
Как и многие поэты, Гумилев частенько переадресовывал стихи. Дабы произвести впечатление на очередную даму сердца, одаривал любовным посланием, написанным для другой женщины. Случай Лили Дмитриевой сложнее. Окрестив новую возлюбленную поэтическим именем («подруга из породы лебедей»), никому, кроме Анны, не принадлежавшим, Гумилев не просто отрекался от невесты и тем самым отрезал пути к возвращению. Все тогдашние его пассии, за исключением, разумеется, Примаверы, в подруги конквистадору не годились. Одна Лиля была существом особой, как и Гумилев, породы. Ничуть не смущаясь, она рассказывала ему о том, о чем «кавалерам» не рассказывают. И смотрела при этом прямо в глаза, как если бы читала в его уме: «Люди, которых воспитывали болезни, совсем иные – особенные». Как и Николай, она в детстве и отрочестве тяжко хворала. Как и он, силой воли сумела преодолеть недуг и, несмотря на некрасивость и хромоту (последствия костного туберкулеза), имела массу поклонников.
Анна Андреевна, обсуждая этот таинственный роман с Лукницким, призналась, что ее всегда удивлял странный выбор Николая. Но это чисто женский взгляд. Мужчины воспринимали Дмитриеву в другом ракурсе, потому и замечали другое: «Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы "сексом"» (из воспоминаний И.Гюнтера, немецкого поэта и переводчика, работавшего в «Аполлоне»).
Еще интереснее выглядит двадцатидвухлетняя Елизавета Ивановна на литературном портрете, сделанном Максимилианом Волошиным в 1908 году: «Тонкий профиль, маленьким бледным треугольником выдвигающийся из-под спущенных волос. Змеистый рот с немного поднимающимися углами и так же скошенная стремительная линия и в очерке лба и постановке глаза». В то время ни Волошин, ни Дмитриева еще не предполагали, что их отношения зайдут настолько далеко, что Максимилиан затеет бракоразводный процесс, чтобы на законных основаниях соединить свою жизнь с жизнью некрасивой девушки с сияющими глазами и змеящимся ртом, а она, правда не без колебаний, вынуждена будет ему отказать. Но все это в будущем, пусть и не слишком далеком, а в настоящем – странноватый треугольник. Известный поэт, человек солидный и женатый, покровительствует начинающей поэтессе, девице экзальтированной и ученой – знает староиспанский, изучает греческий, собирается осилить премудрости санскрита, славно переводит, да и сама, кажется, сочиняет стихи… За девицей не прячась волочится Гумилев, но Гумилев волочится за каждой юбкой. Девица не сводит восторженных глаз с Волошина, Волошин глядит далеко и мимо, а главное, торопится в свой Коктебель. Ни у кого нет ни повода, ни охоты следить за развитием «молодой и сильной страсти», чем любовники и пользуются. «Мы стали часто встречаться, – вспоминая весну 1909 года, пишет Дмитриева, – все дни были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся розовому городу».
Словом, роман как роман, в формате начала века, равно как и совместная, вдвоем, поездка в Коктебель, к Максу. «Все путешествие туда, – продолжает Дмитриева, – я помню как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени "Николай", – а он меня, как зовут дома, «Лилей» – "имя, похожее на серебристый колокольчик", как говорил он».
Высадившись в Феодосии и предусмотрительно пообедав (у Волошиных, как язвили в Петербурге, принимают радушно, но кормят травой на воде), наняли линейку под парусиновым навесом и добрались до Коктебеля лишь на закате. Максимилиана дома не оказалась. У него был очередной, после вчерашнего шторма, приступ «каменной болезни». Даже не переодевшись, вышли на пляж, и Лиля была сражена. Волошин бродил по пустынному пляжу, показавшемуся ей самым красивым в мире, – в белом полотняном балахоне, на босых ногах – сандалии, борода – колечками, на лбу – тонкий ремешок, концы которого прячутся в золотом буйстве волос. В закатном солнце он был как две капли воды похож на златокудрого Зевса. Ошеломление довершил осмотр дома. Как и петербургская квартира Иванова, жилище Зевса именовалось Башней, но это была истинная Башня. Поначалу на самом берегу моря Волошин выстроил большую и светлую мастерскую, потом пристроил второй этаж, затем террасу, заказав местным плотникам соответствующую мебель. Получилось нечто среднее между средневековой крепостью и архаическим маяком. Если сидеть за столом, земли не видно – только море и Карадаг. Стены увешаны акварелями хозяина, а ложе, именно ложе, а не диван или кровать, покрыто рыжей, нарочито грубой выделки шкурой. А когда по узкой лестничке взобрались на второй этаж, восхищения не сдержал даже Гумилев: тысячи томов на разных языках! Оценил Гумми, как зорко подметила Лиля, и собранную Волошиным коллекцию сувениров: баскский нож, самаркандские четки, кастаньеты, купленные в Севилье, и, разумеется, яшмы и аметисты Карадага, выброшенные волнами на коктебельские пляжные просторы. Были тут и отполированные морем затейливые, похожие на чертенят корни деревьев. Гумилев усмехнулся, Лиле они понравились. Максимилиан это заметил и сказал тихо, чтобы третий, уже явно лишний, не расслышал: «Как я рад, что тебе полюбились мои „габриаки“». С этого тебе все и началось. Лето, море, солнце, присутствие соперника взбудоражили Зевса. На втором году знакомства он вдруг разглядел в некрасивой хромоножке и чересчур восторженной поклоннице своих многочисленных талантов вполне привлекательную и отчаянно смелую женщину. И недели не прошло, как перед Елизаветой Ивановной вопрос был поставлен ребром: либо я, либо Гумилев. Дмитриева предпочла бы сохранить обоих, любовь втроем представлялась ей соблазнительным вариантом, но этот номер не прошел.