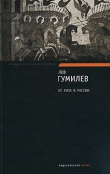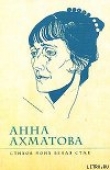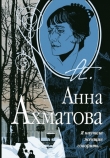Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Вторую часть этой истории излагать в интерпретации Е.И.Дмитриевой нет никакого смысла: правды там не наскребешь и на два гроша. Елизавета Ивановна, к примеру, старается доказать, что Гумми ни о ком, кроме нее, не думает и не вспоминает, тогда как он ежедневно, с утра пораньше, бегает на почту, не скрывая, что ждет какого-то важного письма. Действительно, уезжая в Коктебель, Николай просил Анну сообщить ему туда о своих планах на лето. Вопреки обыкновению, слегка, видимо, задетая «равнодушием» отставного жениха при их последнем свидании в Киеве, девица Горенко ответила не мешкая. Дескать, после экзаменов на юридических курсах поедет с матерью в Одессу, но у кого они там остановятся, пока не решено. Не получив обещанного уточнения, Николай Степанович в нетерпении пишет ее брату – заметьте, из Коктебеля! В самый разгар тутошних амурных переплетений! Письмо сохранилось: «Есть шанс думать, что я заеду в Лустдорф. Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы скоро туда переезжаете… Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получаю… Если Анна Андреевна не получила моего письма, не откажите передать ей, что я всегда готов приехать по ее первому приглашению телеграммой или письмом».
И хотя приглашения не последовало, по получении от Андрея телеграммы с адресом Анны, не попрощавшись, по-английски, Николай Степанович исчезает из Коктебеля, чтобы через пару суток оказаться в Лустдорфе.
Спокойно переждав приступ «законного гнева», спокойно же разъяснил: заглянул, мол, ненадолго, потому как уезжает сегодня же вечером. Женится брат, Митя, свадьба – 5 июля. Анна смилостивилась и даже вызвалась проводить непрошеного гостя на железнодорожный вокзал. В трамвайчике он все-таки спросил, без обычного, впрочем, надрыва: уж не любит ли она его, если потащилась по этакой жаре в город. Слегка растерявшись, Анна ответила неожиданно для себя серьезно: не любит, но считает выдающимся человеком. Гумилев расхохотался. Она обиделась и из паровичка не вышла, хоть и обещала поужинать с ним в привокзальном ресторанчике. Николай Степанович, не дожидаясь, пока трамвайчик увезет единственно дорогое ему лицо обратно к самому морю, властно помахал сомлевшему от зноя извозчику. Жест был уверенным, мужским, точным. Машинист дал отходной гудок. Паровичок закряхтел. С натугой завертелись колеса. Заскочивший на ходу франт, по виду приезжий, вертел головой, прикидывая, как бы половчее приклеиться к хорошенькой барышне. А барышня беззвучно шевелила губами: строка была слишком длинной, хотелось сделать короче, короче не получалось:
А, это снова ты! Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным…
От стихов отвлекала загаданная Николаем очередная загадка. Почему не упомянул об «Аполлоне»? В Одессе с весны разговоры идут: в Петербурге затеяли новый «шикарный» журнал. Сергей Маковский, художественный критик и искусствовед, нашел богатого мецената. Аполлонята всюду держатся кучкой. На вернисажах. Премьерах. В ресторанах. И поглядывают так, как будто говорят граду и миру: отныне парадом искусств будем командовать мы. Молодые. И сильные.
Александр Митрофанович Федоров, дачный сосед приютившей Горенок тетушки, успешный литератор и бонвиван, божится, что это не молвь, а чистой воды явь. Своими глазами видел. Своими ушами слышал. И между прочим, Анечка, юный ваш обожатель, господин Гумилев, в «Аполлоне» не на последних ролях. Корней Чуковский пронюхал, обижен, хоть виду и не подает. Почему не он будет отвечать за поэзию? Или, скажем, Вячеслав Великолепный? Имя! Или: Волошин? Авторитет! О Корнее даже злодей Суворин речет: надежда нашей критики. А что такое ваш Гумилев? «Романтические цветы»? Чуковский хихикает: чушь собачья. А у нашего Чука нюх собачий. Простите за плохой каламбур, прелесть моя…
Эстетическая программа новорожденного «Аполлона» мало заботила литературную Одессу, зато сильно возбуждало выловленное в желтой прессе заявление учредителей: журнал начинается с парадной лестницы. Мы объявляем войну редакционным хижинам и прокуренным шалашам!
Несмотря на свои почти сорок, Александр Митрофанович был живчик. Крепкий, всегда красиво и ровно загорелый, ростом, правда, не вышел. Но в море роста не видно. Выныривая, она кричала: «Федоров, сознайтесь, вы тоже немножечко грек?» «Какой я грек, – хохотал Федоров, подплывая до неприличия близко и делая вид, что хочет утопить ее, – я, мамзель Наяда, до гробовой доски – Митрофаныч!»
Стряхнув его руку, мамзель Наяда, стоя в воде и заглядывая негреку в глаза, подначивала; «Ежели Митрофаныч, так почему же они, ну эти, ваши вчерашние гости, говорили про вас: как молодой бог?» – «А потому, деточка, что в море я и впрямь – молодой бог…»
Почти молодой бог пробовал подкатываться к ней и на суше, но Анна ежилась и от поцелуйчиков уклонялась: на суше от него всегда пахло обедом.
Девица Горенко, характеризуя своего первого взрослого «ухажера», попала в яблочко: по гастрономической части Митрофаныч тоже был почти бог. Вера Николаевна Муромцева, познакомившаяся с Федоровым в апреле 1907 года, так описывает прием, который тот устроил своему знаменитому другу Ивану Бунину на даче за Большим Фонтаном: «Позвали к заставленному всяческими закусками и бутылками столу. Ян, быстро окинув стол глазами, сказал с упреком:
– А красного-то вина нет!
Через пять минут перед ним поставили бутылку Удельного ведомства (то есть извлеченную из царских винных погребов. – А.М.). Он схватил ее и поцеловал. Хозяева были в отличном расположении духа. Александр Митрофанович недавно вернулся из столиц, где удачно устроил свои дела: новый роман печатается в «Современном мире», только что вышла отдельным изданием «Природа» (где выведены одесские художники)… Теперь он, – вообще большой оптимист, возлагал на будущее особенно радужные надежды, собирался, между прочим, совершить новое путешествие. Я никогда не видела такого счастливого человека, как Федоров, – ему все свое казалось самым лучшим и самым прекрасным».
А.М. Федорову посвящено стихотворение пятнадцатилетней Ани Горенко «Над черной бездной я с тобою шла…». Поскольку ни в одном комментарии к нему нет никаких указаний на обстоятельства места, в которых оно возникло, процитирую еще один фрагмент из воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной. Из него следует, что этот «самый счастливый человек» обожал прогулки при луне и упоминаемая в стихотворении «черная бездна» – всего лишь высокий морской берег.
«– Пойдем посмотрим на море, – предложил Ян.
И когда мы с радостью вышли на воздух, воскликнул:
– Боже, как хорошо! И никогда, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу…
Мы… прошли вперед. Немного спустились к морю и очутились около сквозной беседки. Вокруг было так хорошо, что несколько минут мы молчали; ночь была мутная, нежная. Слабый шум моря доносился до нас».
Гумилев не был «несчастным писакой». И в Африку ездил не затем, чтобы извлечь из африканской охоты «какую-то пользу». И Сергей Константинович Маковский, доверив юнцу поэзию и критику «Аполлона», эту разницу между ним и, скажем, Вячеславом Ивановым или Максимилианом Волошиным если и не осознавал, то интуитивно чувствовал. Вот как много лет спустя объяснил он свой неожиданный, удививший литературную общественность обеих столиц выбор: «Я познакомился с Гумилевым 1 января 1909 года на вернисаже петербургской выставки „Салон 1909 года“. Гумилев вернулся перед тем из Парижа – он поступил на романо-германское отделение филологического факультета. Он был в форме: длинном студенческом сюртуке „в талию“, с высоким темно-синим воротником. Подтянутый, гладко причесанный, с пробором, совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого „студиозуса“. Он был нарядно независим в движениях, в манере подавать руку. С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового поэтического кружка. Гумилев стал ежедневно заходить ко мне и нравился мне все больше и больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с каждым встречным, чувство достоинства. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно – будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о котором он прежде не знал, – тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель без обиняков».
Сразу же после свадьбы Митя с женой укатили в Слепнево. Митина Анна, тоже, кстати, Андреевна, от свадебного путешествия в Европу наотрез отказалась. То ли по скромности, то ли от жадности. Засобиралась и матушка, обустраиваться в наследном дворянском гнезде. Степана Яковлевича оставили в Царском: совсем обезножел. Да он и не рвался. Жениных родичей сын сельского дьячка не то чтобы стеснялся, а по возможности сторонился – слишком уж часто о столбовом своем дворянстве вспоминали. Николай, чтобы не бросать отца на прислугу, решился было доживать злосчастное лето в городе, благо нежаркое, и в «Аполлоне» дел невпроворот. Через несколько дней выяснилось, что его материалы в полной боевой готовности – хоть завтра вези в типографию. Пошатавшись по книжным лавкам и поймав себя на неотвязных мыслях об Анне, отправился вслед за родичами в Тверскую губернию. Еще две ночи тоски, и двинется, рассудку вопреки, по накатанному маршруту – в сторону южную. Ну, нет, только не это! Набил книгами привезенную из Египта огромную суму и взял билет до Бежецка.
Измотанный бессонницей, едва оказался в вагоне, Гумилев отключился, а когда кондуктор его растолкал, никак не мог сообразить, где он и зачем. Полупроснулся только тогда, когда, уже на ходу, ему выбросили из окна забытую в поезде сумку. Собрав выпавшие книги, огляделся в ночи: в самом дальнем углу привокзального пятачка дремал, притулившись к облучку, владелец диковинного экипажа. Разбудив мужика, Гумилев убедился, что коляска почти антикварная. На таких, похоже, еще Александр Сергеевич по Тверской губернии с барышнями прогуливался…
С антикварной, пушкинских времен коляски и началось…
Анне Ахматовой, когда летом 1917 года по стечению обстоятельств оказалась в Слепневе, почудится, будто ненароком села не в поезд, а в прикинувшуюся поездом машину времени:
Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем, как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.
О том, что и он, запрыгнув в не тот трамвай, «заблудится в бездне времен», напишет и Гумилев, но позднее. В «Заблудившемся трамвае». Первое же свое путешествие в иной век он пережил в Слепневе летом 1909 года…
По случаю нечаянной радости (Анна Ивановна уже смирилась с тем, что младший сын в деревне не появится) для утреннего чаепития достали из бабушкиного сундука праздничный сервиз. Принимая из рук матери стародавнюю, с легкой трещинкой, невесомую чашечку, Николай легко и радостно включился в игру, вмиг догадавшись: спектакль под девизом «Месяц в деревне» затеян еще до его приезда и в ожидании его. Все роли разобраны и выучены, кроме той, какая в домашнем театре отведена лично ему. Надлежало лишь угадать фигурантку, назначенную Провидением на роль героини. Осторожно, медленно, словно старинный, в сафьяне, альбом, он перелистал обращенные к нему девичьи лица. И, разумеется, угадал, хотя и не без некоторой досады: Маша! Будь он автором и режиссером, предпочел бы партнерствовать с младшей из калужских кузин – у Ольги дивный, оперной силы голос. Но это была бы совсем-совсем другая пьеса, не та, в которую он зачем-то угодил, прикатив в Слепнево в коляске пушкинской поры…
Вспоминая свое медовое лето, жена Дмитрия Гумилева утверждала, что деверь был без ума от старшей из девочек Кузьминых-Караваевых: «Помню, Маша ("высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная") всегда одета была с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который был ей к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, "чтобы Машенька не дышала пылью". Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода с книгой в руках».
Что муж относился к калужской кузине не по-родственному, не отрицала и Анна Ахматова. Не опровергала и семейных преданий об обаятельной женственности Машеньки, несмотря на сохранившиеся фотографии, преданию явно не соответствующие. И, думаю, не только потому не опровергала, что слишком хорошо знала, как часто фотографии лжесвидетельствуют. Шестое чувство подсказывало: в этой истории есть нечто, трезвому рассудку не открывающееся…
Уезжая в середине июля 1909 года из Петербурга, Гумилев договорился с Маковским, что поэтический отдел в первом номере «Аполлона» будут открывать стихи Иннокентия Анненского, в ту пору широкой публике не известного. Маковскому стихи не слишком нравились, и вряд ли бы он согласился с предложением самого юного из сотрудников, если бы не хотел насолить Валерию Брюсову – своему главному в журнальном деле сопернику, редактору московских «Весов» (Брюсов подборку И.Ф.Анненского зарубил, чем сильно снизил свой рейтинг в глазах Гумилева, пока лишь в мыслях и планах). Иннокентий Федорович, по образованию античник, по роду деятельности переводчик и педагог, по месту жительства – царскосел, был счастлив и растроган вниманием поэтической молодежи. Но пока Гумилев, твердо убежденный, что директор его гимназии – большой поэт, прохлаждался в Слепневе, ситуация на Мойке, 24, где обосновался «Аполлон», решительно переменилась. «Аполлоновцы» в полном составе как одурели от русских стихов испанской аристократки Черубины де Габриак, присылаемых в редакцию в раздушенных конвертах. Первым потерял голову главный редактор.
«Лето и осень 1909 года, – вспоминал впоследствии Сергей Константинович, – я оставался в Петербурге – совсем одолели хлопоты по выпуску первой книжки «Аполлона». В одно августовское утро пришло письмо, подписанное буквой "Ч.", от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи – приложено было их несколько – на выбор. Стихи меня заинтересовали… Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, на редкость изящным, и запахом пряных духов, и засушенными травками богородицыных слезок, которыми были переложены траурные листки. Адреса для ответа не было. Но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным, никогда, кажется, не слышал я более обворожительного голоса. Не менее привлекательна была и вся немного картавая, затушеванная речь: так разговаривают женщины, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости. Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами редакции… Промелькнуло несколько дней – опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой… Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и я на них обратил внимание своих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать».
Сделаем уточнение: хором решили не просто печатать, а немедленно, непременно в первом же номере – вместо уже одобренных, уже подписанных в набор стихов Анненского! Гумилев был в бешенстве, несмотря на то что загадка Черубины заинтриговала и его. Раздушенные письма все продолжали и продолжали поступать, продолжались и телефонные беседы. Никто уже не сомневался, что она несказанно прекрасна, и требовали от главреда, чтобы тот непременно разыскал обольстительную госпожу Ч.
Между тем обладательница обворожительного голоса и бронзоватых кудрей, а также автор стихов, пленивших «аполлоновцев», минимум раз в неделю появлялась в редакции. И не одна, в почтительном сопровождении соавтора, Максимилиана Волошина. Представляя сотрудникам журнала госпожу Дмитриеву, Волошин сообщил, что его протеже в некотором роде тоже испанка, ибо переводит со староиспанского поэзию св. Терезы. Увы, влюбленные в Черубину господа на подсказку не прореагировали и на Елизавету Ивановну внимания не обращали.
По плану, разработанному еще в Коктебеле, где и были сочинены совместными усилиями Макса и Елизаветы творения Черубины де Габриак, через два месяца испанке надлежало исчезнуть. К исходу сентября Маковский получил в раздушенном конверте горестную новость. Черубина де Габриак уведомляла дорогого С.К.М., что по состоянию здоровья срочно уезжает за границу. Может, месяца на два, а может, и навсегда.
На этом история первого в России коллективного секса по телефону наверняка бы и закончилась, если бы не одно непредвиденное, не предусмотренное Волошиным обстоятельство. Бедная Лиза, кажется, впервые в жизни самым обыкновенным образом, по-бабьи влюбилась. И в кого? В самого неромантического из очерубиненных «аполлоновцев» – Сергея Константиновича Маковского. Дело, однако, осложнялось тем, что эту не литературную, а самую что ни на есть банальную влюбленность надо было тщательно скрывать. Во-первых, от Маковского, господина счастливо женатого и вполне респектабельного. Во-вторых, от Макса Волошина, уверенного, что Лиля, как и в Коктебеле, ослеплена его необычайностью. В-третьих, от жениха. А главное, от Гумилева, пристально и с большим удивлением наблюдавшего за загадочным поведением героини весеннего своего романа. Однажды на редакционной вечеринке Николай Степанович, не сводя глаз с рыжеватых кудрей, с Елизаветы Ивановны, прочел якобы обращенные к Черубине стихи:: «Твой лоб в кудрях отлива бронзы, Как сталь, глаза твои остры…» Лиля замерла, последняя строфа ее почти испугала:
И близок бой, рога завыли,
Сверкнули золотом щиты.
Я вызван был на поединок…
Уходила Елизавета Ивановна почти в панике: в капризных секс-откровениях Черубины не было ничего, что вызвало бы в мужчине, «самце», как про себя определила она реакцию Гумми, столь сильные, воинственные, явно мстительные эмоции! Я вызван был на поединок… И близок бой? Надо что-то срочно предпринимать! Не придумав ничего более умного, бедная Лиза пустила по кругу безотказный сюжетик. Дескать, Николай Степанович несколько раз делал ей брачное предложение, а она… За первым слушком, с перерывом в неделю, последовал второй. Якобы Гумилев, когда у него в мужской компании спросили в упор, правда ли это, ответил, увы, совсем не по-рыцарски. Поиметь, мол, поимел, а замуж не звал, на сексопатках порядочные люди не женятся. Следующим актом сценария, сочиненного экс-подругой «из породы лебедей», была сцена очной ставки. Гумилев, явившись в назначенное место без опоздания, на задаваемые адвокатами Дмитриевой вопросы отвечать отказался. Конфиденты возмутились и объявили: молчание обвиняемого квалифицируется как добровольное признание вины. Елизавета Ивановна успокоилась. Успокоился и Волошин. И вдруг неожиданно, по собственному почину, в дело Гумилева вмешался Алексей Толстой. Коктебельский проект «обкатывался» втайне от него, но при нем, а нюх у будущего «красного графа» был гениальный. Включившись в ситуацию, он без особого труда узнал в эротических опусах Черубины стихи, читанные Елизаветой Ивановной в приморской Башне. Естественно, слегка переиначенные, однако ж вполне различимые. Угадал и руку редактора, о чем, возмущенный происходящим, и доложил Маковскому. Дескать, кабы не Макс, хромоножка на столь рискованную авантюру ни за что б не решилась. Посовещавшись, постановили: Дмитриеву не нервировать, а Волошину от дома, то бишь журнала, категорически отказать.
Решив, что Маковского науськал Гумилев, Максимилиан заявился в мастерскую художника Александра Головина, где по случаю выхода первого номера «Аполлона» был объявлен «большой сбор». Волошина, естественно, не приглашали, но так как все были уже подшофе, то и сделали вид, что ничего неприличного в его появлении нет. Воспользовавшись ситуацией, Зевс подошел к Гумилеву вплотную и, хорошо размахнувшись, дал пощечину, да такую увесистую, что Николай Степанович от неожиданности еле удержался на ногах. Кончилось вызовом на дуэль. По счастью, оба остались живы, хотя стрелялись всерьез и в нехорошем, по выбору потерпевшего, месте – на Черной речке. Вот как описал этот последний в «некалендарном» XIX веке литературный поединок Алексей Толстой:
«Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко… Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему (Гумилеву. – А.М.) в произнесении им некоторых неосторожных слов, – было ложно: этих слов он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал… Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти… Выехав за город, мы оставили автомобили и пошли на голое поле, занесенное снегом… Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов… и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег…
Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: "Я приехал драться, а не мириться". Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: раз, два (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: "Я требую, чтобы этот господин стрелял!" В. проговорил в волнении: "У меня была осечка". – "Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого… " В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащих рук пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. "Я требую третьего выстрела", – упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу. Перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».
ЧП на Черной речке произошло 22 ноября 1909 года. Через три дня Гумилев, прихватив Алексея Толстого, еще не перешедшего в прозу, и двух поэтов, Петра Потемкина и Михаила Кузмина, уехал в Киев – авторский вечер «Аполлона» под эгидой «Острова искусств», назначенный на 26 ноября, был оговорен заранее.
Когда Гумилев, приоткрыв занавес, оглядывал зал, первое женское лицо, остановившее его внимание (при наведении на резкость), оказалось лицом Ани Горенко. В третьем ряду. Второе кресло справа. Не дожидаясь окончания вечера, вышел в фойе и ловко перехватил ее на выходе. Шли молча и быстро. Перед ярко освещенным подъездом гостиницы «Европейская» Николай Степанович слегка замедлил шаги: «Может, зайдем? Хотя бы на чашку кофе…» Кофе почему-то не несли невероятно долго. Анна не подымая глаз знакомым движением вертела на пальце тоненькое золотое колечко. Гумилев пригляделся: то самое! Первый его жениховский подарок! Только бы не нарваться на очередное «не надо…». Не удержался. Она подняла глаза, но смотрела мимо и куда-то далеко. Николай повернул голову: к их столику мерзейшей походкой профессионального гомика направлялся черно-белый официант. «Нет или да?» – полушепотом, но быстро и легко, как в детстве, при игре в шарады, переспросил Гумилев. Не меняя позы и не переводя взгляда, Анна ответила: «Да».
Через много лет, рассказывая Павлу Лукницкому о встрече с Николаем Степановичем осенью 1909 года в Киеве на вечере «Острова искусств», Анна Андреевна сошлется на письмо Николая Степановича. О том же письме упоминает и в «Записных книжках» (запись по случаю пятидесятилетней годовщины кофепития в гостинице «Европейская»): «Письмо (Н. Ст. Гум.), которое убедило меня согласиться на свадьбу (1909). Я запомнила точно одну фразу: "Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам"». Аргумент, скажем прямо, не убедительный. Обстоятельства, в которых Н.С. неожиданно получил согласие на сто первое брачное предложение, самым решительным образом его дискредитируют, ибо уже 29 ноября 1909 года он снова, прямо из Киева, уехал в Африку. Любой другой в его положении либо отказался бы от поездки, либо хотя бы повременил с отъездом. Гумилев не сделал ни того, ни другого. Даже оставшиеся дни осчастливленный жених носился по городу как угорелый, закупая нужное для двухмесячного путешествия снаряжение. Тюки оказались столь увесистыми, что друзья-поэты решили проводить африканца до Одессы и собственноручно погрузить на пароход. Это ли не доказательство, что Николай заблуждался, уверяя неневестную свою невесту, что в мире его интересует лишь то, что имеет отношение к ней? Нет, нет, Ахматова не лукавит. Она лишь смещает акценты. На самом деле убедило ее не содержание письма, а день его получения.
Накануне этого дня тетка, вручая племяннице деньги (если завтра не заплатить за курсы, исключат), сказала: «Твой отец, Анна, верен себе, пришлось по сусекам наскребать…» – «Ну и пусть исключают, какой из меня юрист!» – «Тогда в монастырь иди, – взвизгнул дядюшка. – Или хотя бы замуж. За какого-нибудь богатого сахарного дурака». Деньги за курсы Анна все-таки отнесла с утра пораньше, но к тетке, хотя и обещала, не вернулась, шаталась по Киеву. Вымотавшись и спустив пары, порылась в карманах, наскребла на десяток самых дешевых папирос и, выбрав скамейку поукромней, закурила.
У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»
Тетка встретила ее как ни в чем не бывало:
– Ася[7]7
Александра Экстер, художница. Одна из «амазонок авангарда» начала века.
[Закрыть] без тебя два раза заглядывала, просила зайти, вчера из Парижа вернулась…
Голос у Анны Эразмовны был добрый до отвращения. Ох уж эта проклятая стоговская фамильная доброта, рассердиться и то не умеют!
Собираясь к Экстерам, Анна попыталась распутать любимые бусы, единственное свое украшение, после того как вернула Николаю все его презенты. И обомлела: на дне шкатулки, в самом уголочке, среди черных агатов сверкнуло малиново-алым глазком золотое, с рубином колечко! То самое?
И я отдал кольцо это Деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос…
Как же такое могло случиться? Она же вернула его? И вообще не носила. Даже не примеряла, Коля ошибся размером. Попробовала – получилось! Правда, лишь на безымянный палец левой руки… Неужели еще похудела?
…Ася хохотала и делала все сразу: курила, пила кофе, натягивала на себя привезенные из Парижа экстравагантные тряпочки, распаковывала и прислоняла к стенам стильной гостиной написанные во Франции холсты. На женских курсах ей обещали персональную выставку, потому и вернулась. «Ты только взгляни, Анюта, до какого безобразия французы докатились – разве такое в Киеве можно носить? Ну, как вы здесь живете? Ты – как?» И, не дожидаясь ответа, взрезала очередной тюк. «Посмотри, что я там, в Париже, у антикваров высмотрела. Ерунда, конечно, и стоило ерунду, а знаешь, почему купила? Нет, нет, приглядись – это же твой двойник! Такой ты будешь лет через семь…»
Анна вгляделась. Смуглая дама с опахалом, в чудно-старинном бело-серебряном платье, если прищуриться и при свечах, и впрямь чуточку похожа. Не на нее, конечно, а на одну из ее удачных прошлогодних фотографий.
Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама;
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.
Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.
Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале…
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?
И для кого эти жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.
Эти стихи Аня Горенко напишет через год, а в тот день она ежилась, чувствуя себя «нищей и потерянной» в шикарной квартире Экстеров, стесняясь даже Асиного лакея. И было от чего стесняться! Этот наглый Иосиф носил свой черно-желтый жилет с таким превосходством, как если это о нем писал Блок: шотландский плед, цветной жилет, презрительный эстет…
«Как вы здесь живете?» Это Ася Экстер, самая ярая из «амазонок русского авангарда», живет во весь дух! Париж, Италия, Фернан Леже…
А она?
Окончив гимназию, в самом конце мая 1907 года Анна укатила в Севастополь. Инна Эразмовна с детьми была уже там. Жили сначала в городе, но не у тетки, снимали квартиру (отец, узнав, что у Анны подозревают туберкулез, выслал деньги).
В начале июня мать с Виктором и Ией переехала на дачу, а Анна осталась, ей назначили еще один курс в грязелечебнице Шмидта. Но вот и лечение кончилось, а она не трогалась с места, объясняя тетке, что ожидает важного известия из Петербурга. На самом деле никто, кроме Николая, в то лето ей не писал, а письма от Гумилева приходили раньше, чем начинался приступ панического ожидания. Андрей в таких случаях цитировал Пушкина: «Она ждала кого-нибудь…»
Вскоре и тетка увезла своих в Балаклаву. Квартира на Екатерининской опустела, только фикусы в кадках да глухая прислуга, и Анна переселилась туда. Впервые в жизни восемнадцатилетняя дочь статского советника А.А.Горенко была одна в городе, где ее никто не знал, и совершенно свободна. Через неделю свобода опостылела, и она решила: все. И бросила монетку: ежели решка – к маме, в Херсонес, ежели орел – в Балаклаву, к теткам. Двугривенный упал орликом. Расписания мальпостов на Балаклаву Анна не знала. Чертыхаясь (когда чертыхаешься, злость выходит через ноздри и уши, как пузырьки зельтерской), знакомым проулком, через Графскую площадь, вышла на пристань. Мальпост ушел перед самым носом. Возвращаться к фикусам не хотелось. Что бы такое выкинуть? Поставила на раскаленный булыжник саквояжик и сделала полузмею: пятки вместе, носки врозь, все остальное – раскинутые, как для полета, руки, спина, шея – распласталось по влажному соленому граниту. Волна высокая, а вот та, самая сильная, сейчас подпрыгнет выше других и поцелует в губы! Тут-то он и появился. Откуда? И пристань была пуста, и площадь пустынна! Я-то думал: барышня утопиться решила, спасать надо, а вы, оказывается, гуттаперчевая! Акробатским толчком девица Горенко выпрямилась, опять по-змеиному выгнулась, коснувшись затылком земли, правой рукой ухватила саквояж и пошла, не оглядываясь, через площадь, к увитому глициниями проулку. Но и не оглядываясь, знала: незнакомец стоит где стоял. На перекрестке двух узеньких улочек, пытаясь припомнить, справа или слева был питьевой фонтанчик, замедлила шаг. Он сидел на скамейке (той самой, под шелковицей, с которой Андрей в детстве подсаживал ее на дерево, когда наступал шелковичный сезон) и ярко-белым платком промокал темный от пота, пыли и крымского загара лоб. Некрасиво морщась, не глядя на нее и явно борясь с одышкой, буркнул: «А ходите вы скверно, девочка, в цирк не примут». Потом все-таки глянул из-под утратившего ослепительную белизну платка и добавил. Совсем другим тоном: «Да не огорчайтесь так! Лебеди тоже ходить не умеют. Только летать и плавать».