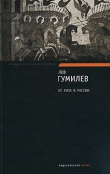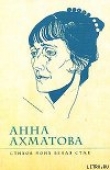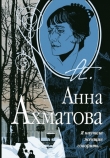Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.
Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу всё глаза твои сказали…
Опилки густо устилают пол,
И пахнет спиртом в полукруглой зале.
И это юность – светлая пора
………………………………
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Ни вешаться, ни бросаться под поезд Анна Андреевна Гумилева не собиралась. А вот о том, чтобы сесть в поезд и заявиться в Слепнево как раз ко дню своего рождения (11 июня), в невеселое то утро в пустой «Ротонде», видимо, подумывала, тем паче что червонцев, при ее неумении экономить, оставалось в обрез. И парижская атласная челка, и маленькие, на манер чалмы, «шаплетки», и узкие с разрезом юбки, которыми пришлось срочно заменить неудобно-маркое белое платье и широкополую шляпу с полумаскарадным страусовым пером, стоили денег, и немалых. Думаю, что Анна (не Каренина) так бы и сделала, когда бы из розоватого парижского тумана не выплыло невероятно, неправдоподобно прекрасное лицо прошлогоднего «приставалы». Впрочем, очередная таинственная встреча могла бы обернуться очередной невстречей, если бы Антиной, не выпуская из своих неожиданно крупных и властных ладоней ее рук, не заговорил стихами. Нет-нет, не читал, не декламировал – он говорил стихи, и говорил так, как если бы был совершенно уверен: ни один человек во всем белом свете, кроме этой испуганной чужестранки, не догадается, кто же их написал. Не договорив последней строфы, Модильяни приоткрыл ладони и прижался губами к ее пальцам. Последняя строфа в любимом стихотворении Верлена была самая главная, Анна помнила ее наизусть…
Когда они вышли из «Ротонды», туман уже рассеялся. Люксембургский сад, умытый ночным ливнем, сиял от счастья, любители ранних утренних прогулок толпились перед пунктом проката за раскладными стульями, но Антиной, поймав ее вопрошающий взгляд, скинул странную свою курточку и бросил на не просохшую еще скамью. Догадавшись, что у него нет денег, Анна повела его к себе – завтракать. Как хорошо, что хозяйственная Надежда Григорьевна заставила ее сделать неприкосновенный запас: бутылка красного вина, яблоки, сыр.
– Вот, – сказала она, опростав корзинку, – завтракать будем по-итальянски, ни кофе, ни спиртовки у меня нет.
Антиной выбрал самое круглое – красно-бело-зеленое яблоко и протянул ей:
«J'ai oublie de vous dire que je suis juif…» (Я забыл вам сказать, что я еврей.)
Интермедия третья (1911)
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Анна Ахматова
По сравнению с тем, что испытала «изменница» на обратном пути из Парижа в июле 1911-го, терзания прошлогодней зимы – змеи сердечной угрызенья – казались какими-то ненастоящими, мнимыми. Не заезжая в Царское, переночевала у отца и первым же поездом отправилась в Слепнево. В вагон не вошла, курила в тамбуре, сочиняя (на всякий случай) две разные оправдательные версии. Одну для Николая, вторую для свекрови. Как и многие нелегко и неловко лгущие женщины, Анна еще в отрочестве догадалась: больше всего похожа на ложь истинная правда. Сочинив и отредактировав обе, почти перестала нервничать, собралась и из вагона вышла «победительницей жизни». С новой прической – парижская атласная челка. И в новом парижском туалете. Прощай, белое старомодное платье, в котором три месяца назад щеголяла в столице европейской моды! Глубоко запрятанное смятение и нарочитая победительность выглядели, видимо, столь непонятно, что горбатенькая прислужница при дамской комнате в Бежецке, знавшая всю округу в лицо, отказалась признать в заграничной штучке молодую барыню, приезжавшую к сестрам Львовым еще прошлым летом. И даже сказала кому-то: «К слепневским господам хранацужанка приехала». Анна рассмеялась, развеселилась, но на подъезде к усадьбе опять запаниковала. Паника оказалась напрасной: ни одна из придуманных версий не пригодилась. Анна Ивановна встретила беглую невестку почти благодушно, как если бы та воротилась всего лишь из Киева. Да и Гумилев ни капельки не походил на измученного черной ревностью обманутого мужа. Скользнул глазами по ее узкому, в облипочку, платью, по фасонистой челке – и то и другое ему явно понравилось. А после обеда подвесил в сиренях привезенный из Африки затейливый гамак, уселся по-турецки на пожухлую от затянувшегося зноя траву и долго-долго читал стихи. Свои, чужие. Анна чуть было не задремала. И если б не проклятая записочка от Антиноя, которую впопыхах засунула в купленный у букинистов томик Теофиля Готье, для Николая же и купленный… Пораженная перекошенным, как от зубной боли, лицом мужа, Анна не сразу и вспомнила, что за крамола таилась в клочке дешевой рисовальной бумаги. Попыталась объясниться, но тот как отрезал: отношения, которые приходится выяснять, не стоят того, чтобы их выяснять. О том, как это произошло, Ахматова пятнадцать лет спустя достаточно подробно рассказала Лукницкому. «По возвращении из Парижа, – записывает Павел Николаевич, – А.А подарила Н.С. книжку Готье. Входит в комнату – он белый сидит, склонив голову. Дает ей письмо… Письмо это прислал А. один итальянский художник, с которым у А. ничего решительно не было».
Запись, к сожалению, дефектная, Лукницкий записывал с голоса, а главное, не уточнил, был ли поразивший Гумилева текст письмом или всего лишь запиской. Предполагаю, однако, что почтовый конверт в тоненькой книжице не заметить трудно, фактически невозможно. А вот клочок рисовальной бумаги легче легкого сунуть в первый попавший на глаза томик и начисто о нем позабыть.
Впрочем, остренькое сие шильце вылезло из мешка не сразу, не в день приезда, и Анна Андреевна успела вдосталь наудивляться на своего «рыцаря бедного». От петербургского Гумилева, культивирующего «уверенную строгость», в Слепневе не осталось и следа. Николаю вроде и в голову не приходило, что установленная здесь иерархия, согласно которой главенство наследуется по старшинству, ущемляет его самолюбие. Он с удовольствием принимал порядок, заведенный испокон веку. Еще больше дивилась Анна легкости, с какой этот чопорный в общении с коллегами человек находил общий, какой-то птичий язык с юнцами и юницами. Сочинял нелепые скетчи, заполнял прабабушкины альбомы рифмованными комплиментами… Одно оставалось неизменным: ни минуты без дела. Лошади, крокет, теннис, цирк-театр…
Как и прежний хозяин тверского «дворянского гнезда» Лев Иванович Львов, и Анна Ивановна Гумилева, и старшие ее сестры считали унаследованное от покойного родителя владение общесемейной дачей. Ни на старый фруктовый сад, ни на ученого садовника не тратились. Зато и теннисный корт, и крокетную площадку обновляли к каждому сезону, своими силами, по-домашнему. Лучшим теннисистом среди здешней молодежи считался Гумилев. И как это ему удается, при его-то астигматизме?
Вера Неведомская, самоуверенная супруга богатого соседа, единственного достаточного помещика на всю округу, описав в мемуарах слепневские июли как череду театрализованных развлечений, изобретателем которых был Гумилев, замечает не без злорадства, что жена Николая Степановича выглядела на этом нарядном фоне смешно и даже нелепо: «У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты лица слишком острые, чтобы назвать его красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21–22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: пишет стихи, все молчит, ходит то в темном сарафане, то в экстравагантных парижских туалетах».
Ахматова недаром пришла в ярость, наткнувшись в каком-то эмигрантском журнале на воспоминания бывшей соседки. Неведомская возвела напраслину даже на первую ее свекровь! О гвардии или дипломатической карьере для сыновей, тем паче для Николая, умная их матушка никогда не мечтала. Да и она, Анна, вовсе не собиралась шокировать приятелей и приятельниц мужа несуразными туалетами. Темный сарафан, сочиненный киевской кузиной и забытый в Слепневе прошлым летом, хотя и сшит на живую нитку, да ладно скроен, как и все, что мастерила рукодельная Наничка. Но это была ее единственная деревенская вещь, и когда темно-синий, в блеклых букетиках, сарафан приходилось стирать, натягивала дорожное парижское платье, узкое и чересчур дорогое. За два месяца европейских каникул она разгадала секрет французского стиля: если одеваться, то так, чтобы все, от носка и до виска, играло и пело, как в удавшемся стихотворении. А ежели не одеваться, то и ходи в чем попало, потому как на нынешний день у тебя заботы другие. А у нее действительно заботы другие, Неведомской неведомые. Дачники? Само это слово Анна терпеть не могла. Позднее она напишет: «Слепнево для меня как арка в архитектуре… сначала маленькая, а потом все больше и больше и наконец – полная свобода (это если выходить)».
Про то, что открывалось взору, когда жена младшего сына хозяйки большого дома выходила за ворота, прозой Анна Ахматова написать не успела. Осталось лишь несколько этюдов к этой удивительной панораме. Все они выполнены не в дачном, а в усадебном стиле (конец XVIII – первая треть XIX века):
Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею
Бабы выходили на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй
Я носила малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев
В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице… Над диваном – …небольшой портрет Николая Первого не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, сериозно, по-Онегински («Царей портреты на стене»)… В шкафу – остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо
Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну
Чтобы представить себе «натуру», с которой Ахматова на склоне лет писала свои сельские картинки, пытаясь отнять у забвения возведенное в символ Слепнево, приведу еще один отрывок из воспоминаний уже знакомой нам Екатерины Черновой, внучатой племянницы Анны Ивановны Гумилевой; ее, еще девочкой, привезли сюда в 1911 году: «Я впервые в жизни видела русскую деревню, меня поражали избы и бесконечные поля, поражали воротца при въезде в деревню, которые бросились нам открывать белоголовые ребятишки, мы давали им пакеты с пряниками и мелкие деньги. Дорога была пыльная, солнце пекло, мне показалось, что ехали мы долго. И вот Слепнево… Проезжая дорога разрезала усадебный участок и проходила очень близко от „барского дома“. Если ехать от Бежецка, то дом оказывается справа, а слева был фруктовый сад. Дом был большой, со старинной мебелью».
Я ждала письма, которое так никогда и не пришло.
В то лето в Слепневе писем не ждали. Один Николай в почтовый четверг старался не уезжать из дома. Заслыша колокольчик, выбегал на дорогу и, на ходу разрывая засургученные пакеты, взлетал к ней, и пока все полученное не было прочитано, увеселения отменялись. Но Гумилев читал быстро, раз в пять быстрее, чем она, и до следующей почты опять упивался ролью души общества. Вера Неведомская, флиртовавшая с Николаем Степановичем, как-то спросила, уж не собирается ли в монастырь его неулыба – ходит, словно монашенка, и голову повязывает по-деревенски. Гумилев передал эти слова Анне. На следующий день, вытянув из саквояжа экстравагантную, с разрезом до бедра юбку, купленную в Париже и еще ни разу не надеваную, откромсала лиф от привезенного Гумилевым африканского балахона и, навертев все это на себя, явилась незваной на репетицию очередного циркового шоу. Придумала, дескать, для себя номер: женщина-змея. И тут же продемонстрировала (фигушки вам монастырь!) сказочную свою гибкость. За змеей последовали стихи про змею:
В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа…
Я б иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча…
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.
Григорий Иванович Чулков, когда она в Париже, неумело копируя расфуфыренных любовниц киевских сахарных королей, читала эти «змеиные» стихи, долго смеялся: оставьте в архиве, книжку они не украсят, а будущим вашим биографам пригодятся.
Гумилев отнесся к «змеиному» шоу почему-то всерьез. Впрыгнул в освещенный костром круг и… Но предоставим слово одному из свидетелей семейного поединка – дальнему родственнику Кузьминых-Караваевых художнику Дмитрию Бушену: «Его попросили читать стихи, он повернулся к Анне Андреевне и сказал: "Аня, ты позволишь?" Она сказала: «Да». И он прочел:
Из логова змиева,
Из города Киева…»
Никто из присутствующих подспудного смысла прочитанного, конечно же, не уловил. Компания была ориентирована на сплошную театрализацию, у каждого в слепневской «бродячей труппе» уже имелась назначенная Гумилевым роль. Но Анна была «новенькая», и то, что Николай, при его-то скрытности, прилюдно распахнул дверь в их спальню (она так и скажет ему, теми же словами: дверь в супружескую спальню), до того озадачило, что в первый момент Анна даже не обиделась. Неужели не понял, что с этих нехороших, безлюбых стихов все и началось? Что ни в какой Париж она б не поехала, если б не жгло, не саднило: Обнимешь – топорщится… И все ей не можется… И хочет топиться… Неужели и у Николая, как и у Валерия Брюсова, «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»?
В тот злополучный змеиный вечер, всё одно к одному, и случилась беда с засунутой в Готье запиской Модильяни. Может, и обошлось бы, но муж, как всегда, вслушивался в голос, а не в слова, уверявшие, что с красивым итальянцем ничего такого у нее не было. Слова были ее, собственные, а голос – чужой, вульгарный, крикливый. Николай закрыл распахнутое сквозняком окно.
– Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На дикую, затравленную помоечную кошку.
Убежденный собачник, кошек Гумилев не любил, кошками он брезговал.
Были бы деньги, она бы уехала. Вывернула сумки, обшарила карманы – ни гроша. К счастью, после единственной во все лето грозы пошли грибы. Колосовики, объяснил Коля-маленький. И появился благовидный предлог – пить кофе, пока все спали, и обедать, когда все отобедали. И так две недели: Гумилев сам по себе, она сама по себе. Он – к Неведомским, она – по грибы. Грибная охота – те же лыжи, идешь-идешь по лесу, а лес делает тебе подарки.[22]22
О том, что А.А. обожает ходить по грибы, было доложено даже Борису фон Анрепу, герою любовной ахматовской лирики 1915–1917 гг. Однажды, вспоминала Ахматова, Анреп сказал: «Вам бы, девочка, грибы собирать, а не меня мучить». Об особых чувствах Анны Андреевны к грибам пишет и Анатолий Найман в «Рассказах о Анне Ахматовой»: «Уже тяжело больная, с простреленным инфарктом сердцем, Ахматова и в Комарове чуть ли не с каждой прогулки умудрялась приносить грибы; как и многое живое, природное, она их не видела, а чуяла». Как-то сказала назойливому посетителю, без приглашения заявившемуся в Будку, что не может его принять, потому что чистит грибы. Из всех домашних дел только чистка грибов никогда не казалась ей докучной. А началось – в Слепневе.
[Закрыть]
В начале августа, получив в почтовый день какой-то важный конверт, Анна Ивановна засобиралась в Петербург. Уезжала напряженная и рассеянная, вернулась умиротворенная. За обедом доложила: купила в Царском Селе особняк. Малая, 63. Сад, дворик. Высокий первый этаж. Прикупила и флигель, чтоб было где летом остановиться и Мите, и Коле. А большой дом придется сдавать питерским дачникам. С мая по сентябрь. Иначе концы с концами не свести. И ремонт нового дома не осилить. Ремонт нужен сериозный – ни ванной, ни электричества.
Вечером прямо в столовой стали делить нарисованные на плане комнаты. Анна поднялась, чтобы уйти к себе, но ее, уже в дверях, задержал твердый хозяйский голос Николая: «А вот эта комната будет Аничкина».
Подойти? Глянуть? Не подошла. Однако утром, когда мужики грузили на подводы слепневскую, для нового дома, прадедовскую мебель, сказала:
– Мама, а мне можно вон тот, что в углу на террасе, – столик? И еще шкатулку. Большую. Из прихожей?
Николай Степанович разбирал и паковал книги.
– А я стихи написала. Кошкины. Хочешь, прочту?
Целый день провела у окошка
И томилась: «Скорей бы гроза».
Раз у дикой затравленной кошки
Я такие заметил глаза.
Верно, тот, кого ждешь, не вернется,
И последние сроки прошли.
Душный зной, словно олово, льется
От небес до иссохшей земли.
Ты тоской только сердце измучишь,
Глядя в серую тусклую мглу.
И мне кажется – вдруг замяучишь,
Изгибаясь на грязном полу.
– Мне кажется, я могу переменить свое отношение к кошкам. Но, чур, к чужим, подзаборным.
А тебе на новоселье лучше подарю собаку. Девочку или мальчика?
– Девочку, – сказала Анна, – бульдожку.
В то трудное лето долгий и сухой зной кончился резко и безвозвратно в середине августа. Анну дожди и непогодь в деревне ничуть не смущали. Дров здесь не жалели, и дом на глазах хорошел, обуютивался. У каждой печки стелили свежие яркие рогожи – сушили мокрые яблоки. Николай уезжать в Царское без жены не хотел, но свекровь распорядилась по-своему: первыми едут мужчины – оба Коли и Митя, – Александра, Маруся и Анны, тоже обе, останутся в деревне до конца сентября.
Когда Анна вернулась в Царское, ремонтные работы были в разгаре. Чтобы не путалась под ногами, ее тут же отослали в Киев. До середины октября. К октябрю отделали низ, но в ее комнате (Николай сам выбирал обои – синие, под цвет глаз, «в синем и на синем они у тебя почти синие!») еще работал столяр, прихорашивал привезенные из Слепнева кушетку и туалетный столик. Мебели, старинной, красного дерева и карельской березы, хватило бы на весь дом, но Гумилев от красного дерева отказался: для африканской гостиной нужна в стиле модерн. Здесь же устроил и собрание «Цеха поэтов». Был весел, бодр, самоуверен, наслаждался произведенным на «цеховиков» впечатлением. Африканские штучки-дрючки, со вкусом и умело расставленные, и впрямь смотрелись. Даже Анна, не любившая экзотики, тайком погладила слоновий клык, хитроумно ввинченный в каминную стену.
Проводив гостей до перрона, еще долго сидели, пили вино, смотрели в огонь. Внезапно смертельно устав, она поднялась наверх, в Шурочкину с Марусей комнату (Сверчковы все еще оставались в Слепневе). Коля пристроился в гостиной, на модерновом диванчике, коротком, ноги торчат.
Шурочкина – прабабушкина – кровать была чудо как хороша. Впервые за многие месяцы Анна уснула сразу – блаженно отошла ко сну, не перекрутив одеяло и не измучив подушку. А утром нашла на диванчике, поверх аккуратно сложенного пледа, мужнину записку: «Если хочешь меня проводить, приезжай к пяти на Финляндский».
Свекровь, не входя, в дверях, сказала:
– Можешь ванну принять. Воды горячей много.
Потом подошла, искоса глянула и объяснила:
– От Кузьминых-Караваевых человек заходил. Маша совсем плоха. Хотели в Италию, да побоялись: не довезут. Решили: в санаторию. Финскую. Если Николай Степанович в городе, пусть проводит. А на вокзал тебе, Аня, не надо. Это он так написал, не знал, как сказать. И еще велел печнику печку переделать, ту, что в твою комнату боком выходит. Тяга плохая, зимой холодно будет.
Ну что за человек ее Коля? И как это все в нем помещается? И совмещается? Африка и «Аполлон»? Смертельная болезнь Машеньки и дымящая печка?
Приняв ванну, Анна опять забралась в постель: ее знобило. Простыла или нервы? И стихи пришли. Они всегда приходили, когда ей было плохо.
Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.
Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.
Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.
Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.
Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок…»
Тихо отвечу: «Она отняла
Божий подарок».
Ни завтра, ни послезавтра в зеркала Анна не заглядывала, ее лихорадило, и температура подскочила. А через неделю, когда гостивший у них Миша Кузьмин-Караваев, двоюродный брат Машеньки, постучал, напомнив, что пора ехать на Башню, где будут и Блоки, и Городецкие, по его вспыхнувшему лицу поняла: сегодня даже там, на Башне, она будет «победительницей жизни», не делая для этого никаких усилий. И почему ей так везет на Михаилов? Лозинский – Михаил. Линдеберг – Михаил. Кузьмин-Караваев – Михаил. Три претендента на одну вакансию: «влюбленного не слишком, а слегка»? И просто Кузмин, без мягкого знака – Мишенька. Этот, правда, влюблен не в нее, а в ее стихи, и только пока она сама их читает. У Михаила Четвертого не девочки, а мальчики на уме. Надо запомнить: 1911 год, 7 ноября. Не запомнила. Напомнил, жизнь спустя, Блок. Не сам Блок – дневник, изданный посмертно: «А.Ахматова читала стихи, уже волнуя меня… Стихи чем дальше, тем лучше. Все было красиво, хорошо, гармонично».
Да, было и хорошо, и гармонично. Жаль, Коли не было.
На самом деле 7 ноября 1911 года гостям Вячеслава Ивановича было гармонично как раз потому, что Гумилев отсутствовал. Трещина, наметившаяся между ними еще весной, стремительно углублялась и расширялась. По возвращении Николая Степановича из Африки Иванов накинулся на его маленькую поэму «Блудный сын» так злобно, что все опешили. Уж очень не похоже на «мэтра». Как и Гумилев, хозяин Башни хотя и видел, что его время на исходе, был все-таки «вежлив с жизнью современной». Во всяком случае, старался быть вежливым. И вдруг сорвался. Валя-Валечка говорит: нервы. Она теперь, как за своего доктора по нервным болезням замуж вышла, все нервами объясняет. А по мнению Анны – банальная ревность. Ну кто из башенных краснобаев и пророков способен в одиночку, как Коля, пройти пустыней Черчер? Андрей Белый попробовал – и что? Дальше туристического Каира и носа в африканскую глубинку не сунул. Да и вообще, здесь, на Таврической, в этом подозрительном ковчеге, в этой богатой ночлежке, после внезапной смерти супруги хозяина жизнь идет на ущерб. Что-то ущербное появилось и на личике падчерицы хозяина – Верочки Шварсалон. Эту загадочную девочку Анна и жалела, и не понимала. Давно и безнадежно любит «голубого» Мишу (Кузмина), а спит с отчимом. Не понимала и Верочкиного сожителя. Тоже мне Фауст! Высшие интересы! Философические изыски! Не успел обожаемую жену похоронить, дочку ее совратил. Когда выяснилось, что Вера беременна, все и открылось. Анна догадалась о сути происходящего гораздо раньше. Она чуяла запах кровосмесительного греха так же хорошо, как героиня ее южной поэмы – подземельную воду:
Знали соседи – я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Анна Андреевна вполне отдавала себе отчет в том, что судит о людях Башни криво, с гневом и пристрастием, по-обывательски, как сказал бы Чулков. Но переиначить себя, настроиться на беспристрастие не умела, хотя и не пропускала, как вернулась в Петербург, ни одного башенного приемного дня. Здесь же впервые увидела и юного Осипа Мандельштама. Того, что прочел, – не запомнила, да она и не вслушивалась, наблюдала: ресницы, как опахала, буржуазного кроя костюм и ландыши в петлице…
Открыл Мандельштама Николай, затащил в «Аполлон», уверял, что мальчик с ландышами умнее и старше эстетских своих стихов и о литературе и думает, и говорит интересно. Может быть, гениально. В этом Анна и сама убедилась, когда Гумилев, кажется это было уже зимой, пригласив Осипа в Царское, весь вечер рассуждал с ним про умное. В умные разговоры тогдашняя Анна из осторожности не встревала, ни дома, ни на Башне. На вопросы отвечала уклончиво, но видела все, все замечала и запоминала навсегда. Лучшей формы литературного образования в ее персональном случае не было. И когда Гумилев стал настаивать на Высших историко-филологических женских курсах, отказалась. Незачем попусту тратить силы и деньги. У нее свои университеты. Свой индивидуальный самоучитель.
…Вернулся Николай из Финляндии только в середине ноября. Желтый, некрасивый, худой. О Маше – ни слова. Первым делом про печку спросил. Потом: а стихи писала? И сразу же про «Цех».
Узнав, что «цеховики» собирались и без него, протрубил большой сбор. Опять дым коромыслом и вино рекой. И стихи. Даже Лозинский читал. И Миша Зенкевич осмелился. У Михаила Леонидовича Лозинского стихи обыкновенные, у Михаила Александровича Зенкевича – неожиданные. Звука, правда, не хватает, да не в том дело. Кудрявый, златоглавый, тихий-тихий – и такие стихи? Одно подарил ей – по ее просьбе, не сам. Про городскую бойню. И вселенскую:
И чудится, что в золотом эфире
И нас, как мясо, вешают Весы,
И также чашки ржавы, тяжки гири,
И также алчно крохи лижут псы.
И как и здесь, решающим привеском
Такие ж жилистые мясники
Бросают на железо с легким треском
От сала светлые золотники.
Прости, Господь! Ужель с полдневным жаром,
Когда от туш исходит тяжко дух,
И там, как здесь, над смолкнувшим базаром
Лишь засверкает стая липких мух?
Как часто и в войну, и потом, после всего, Анна Андреевна будет вспоминать эти неуклюжие вещие строки! Наизусть они почему-то не запоминались, но «Дикая порфира», единственный сохранившийся у нее сборник Зенкевича, сам собой раскрывался на этой кровавой странице. А иногда, не часто, А.А. разламывала «Порфиру» и еще на одном развороте. Эти стихи Михаил Александрович тоже читал в ноябрьский вечер 1911 года у камина в Колиной африканской библиотеке, а она, вслушиваясь, пугалась: уж не с нее сделал златокудрый Мишенька страшный портрет змеиной Матки? Много раз, уже на склоне лет, Ахматова готова была задать «последнему акмеисту» этот вопрос, и каждый раз что-то ее останавливало.
Ресницы – как пыльцою черной
Тычинки маков кровяных,
И как в божнице у святых,
Печально-строг твой взор упорный.
Но воинств преисподних сила
Венец тяжелый, огневой,
Из тусклой лавы, возложила
Над этой гордой головой.
И если бы в средневековье,
Как у колдуний, прядь волос
Твоих, обрызгав свежей кровью,
Зарыли вечером в навоз, —
То отогретые полуднем,
Бесстыдные, влачась в пыли,
Раздувшимся кровавым студнем
Как змеи, косы б поползли;
И чернь среди потехи грубой,
Их толстой обувью топча,
Звала б со смехом палача
С плетьми к вертящемуся срубу.
А тогда, осенью одиннадцатого, насторожился и Николай Степанович. Вскинулся, вслушался. С тем мнимо-туповатым выражением, какое появлялось на его плоском, как бы гипсовом лице, когда сталкивался с неразрешимой, но требующей немедленного разрешения задачей. Потом повернул голову, так, чтобы ломаный, искаженный астигматизмом видоискатель засек в кадре и ее. Но, разумеется, ничего подозрительного не обнаружил. Белые узенькие манжеты, белый, тоже узкий, воротничок, аккуратная челка – сходила-таки к парикмахеру, а то все сама да сама, чуть не садовыми ножницами. Стиль англез в царскосельском исполнении. Ну откуда Зенкевичу, провинциалу и ученому малому, догадаться, на какие дикие выходки и змеиные выкрутасы способна сия молодая и почти стильная дама?
Через минуту Гумилев уже рассыпал любезности перед только что вошедшей Валечкой Тюльпановой, теперь уже Срезневской, а та, разматывая бесконечный – последний писк зимнего сезона – шарф и стараясь закинуть его на плечо Николая, объясняла. Приезжала, мол, в Царское, навестить знакомую одинокую старушку, увидела в окнах у них электрический пожар, вот и заглянула на огонек.