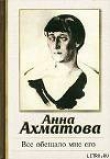Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
И был понедельник. И Новороссийск. Во вторник у него были дела, в четверг – тоже. А в субботу все кончилось. Он остановил извозчика за квартал до Морского вокзала. Вот здесь и попрощаемся.
Ночью в гостинице она придумала пять сцен прощания. Самая простенькая выглядела так. Он высаживает ее из пролетки, подводит к цветочному киоску и покупает шесть роз: маленькую, белую, в бутоне; полураскрывшуюся палевую; две одинаковые почти черные; роскошно-бесстыдную красную и роняющую лепестки желтую. Улыбаясь, она загибает пальцы: белая – понедельник, черная – вторник, палевая – среда, четверг – опять черная, красная – пятница. Суббота… Но почему опадает желтая? «Потому что вы забудете обо мне раньше, чем она завянет…»
Какие розы! Ничего, кроме досады, не было на отодвинувшемся озабоченном лице. Что же ей теперь делать? «Если позволите, я напишу вам. Севастополь, до востребования». Так? Она долго-тупо смотрит на сверкающие носки его лакированных ботинок и вдруг спрашивает не своим, толстым и сдавленным, голосом: «Сколько?» – «Что сколько?» – «Сколько дней я должна ждать это письмо?» – «Как в сказке про царевну Лебедь: тридцать лет и три года!»
И она ждала. Из Херсонеса, по жаре, на почту таскалась. В Севастополе зазимовала. На другой год денег, чтобы снять дачу в Херсонесе, у них уже не было, жили в Балаклаве. Так и оттуда… Через день. Старичок в окошке «До востребования» был все тот же, прошлогодний, все в той же до неприличия наглаженной чесучовой паре. «От кого же вы, милая моя барышня, письма ждете?» И в 1909-м, когда жила с матерью под Одессой, в Лустдорфе, – ждала. Ия от тесноты и суматохи в Севастополь уехала. Провожая сестру, попросила: «Зайди на почту, что тебе стоит, фамилия та же. И отчество. Если не отдадут, телеграмму пришлешь…»
Ждала. Ждала. Ждала.
Она поднимется по этим ступенькам, придвинет лицо к тому же окошку и через семь лет. В 1916-м. В ту осень даже здесь, в Севастополе, уже пахло войной. Утром, заслыша что-то вроде взрыва, Ия выглянула в окно. Городской юродивый пытался о чем-то рассказать. О чем, сестры не поняли. Выбежали из дома, встретили плачущего боцмана. Бросились на Графскую пристань. Примчался Колчак. Не выходя из автомобиля, смотрел, как уходит под воду красавица «Мария». Самолеты, видимо, высматривая диверсантов, летели низко, над самым рейдом. Никаких диверсантов не было, флагман Черноморского флота взорвался из-за каких-то мелких неполадок в оружейном отсеке. Ия молилась, а Анна не могла оторвать глаз от перевернутой шлюпки – волны раскачивали ее, словно люльку, из которой украли младенца. Какое счастье, что отец не дожил до такого позора! Броненосец «Императрица Мария» был гордостью николаевского завода «Россуд». Летом 1914-го, получив специальное приглашение на торжество спуска «Марии», он наконец-то предложил поехать в Николаев вместе с ним. Анна не поехала: дел по горло, успеется. Не успелось…
Чесучового старичка в окошке «До востребования» уже не было. Батистовая почтовая барышня старательно и виновато трижды пересмотрела невостребованную корреспонденцию…
Стихи застали Анну на обочине ускользающего сновидения, то яркого, то смутного. Сон слил в одно два лица, два моря и две ее любви к чужому человеку, когда из всех печалей и радостей дарована только одна – радость-страдание бесконечного ожидания:
По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленой волны,
Словно слезы мои, солоны.
Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
Стали ночи теплее, подтаивал снег,
Вышла я поглядеть на луну,
И спросил меня тихо чужой человек,
Между сосенок встретив одну:
«Ты не та ли, кого я повсюду ищу,
О которой с младенческих лет,
Как о милой сестре, веселюсь и грущу?»
Я чужому ответила: «Нет!»
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,
Чтоб меня уберечь от любви.
И назвал мне четыре приметы страны,
Где мы встретиться снова должны:
Море, круглая бухта, высокий маяк,
А всего непременней – полынь…
А как жизнь началась, пусть и кончится так.
Я сказала, что знаю: аминь!
Ждала, ждала, ждала…
Не от чужого того человека, нет-нет, не от него, и не письма или нечаянной встречи, а чтобы загадка ее жизни разрешилась! И зиму, и весну, и лето… А осенью кинулась к Богородице с безумными врубелевскими глазами. Молила освободить, отпустить, на волю, к жизни. Знака просила, знака, что молитва услышана.
Вернувшись из храма, сразу и увидела – в прихожей, на зеркале, ребрышком. Ребрышком тетка ставила только Колины письма…
На обратном пути из Африки в феврале 1910 года Гумилев задержался в Киеве всего на сутки, вывалил кучу подарков – сами выберете кому что понравится. И ты, Аничка, и вы – Наничка[8]8
Наничка – Мария Александровна Змунчилло, кузина Ахматовой.
[Закрыть]… Анна попробовала надуться, но, встретившись с Николаем глазами, осеклась.
5 февраля Гумилев был уже в Царском. Тревога, трепавшая его от самой Одессы, оказалась напрасной: дома все было в порядке. А утром, чуть свет, мать осторожно, как в детстве в гимназию, его разбудила: проснись, Коленька, отец умер.
Степан Яковлевич Гумилев, несмотря на свои полные семьдесят четыре и запущенный ревматизм, старым не выглядел. И вдруг… Уснул и не проснулся.
Не смея оставить мать наедине с невосполнимой утратой, Николай дал телеграмму в Киев. Анна, уже догадываясь, что суженый из тех сыновей, кто считает: возлюбленных много, а мать одна, – тут же приехала. И узнала то, что уже знала: ни смерть отца, ни приезд невесты не могут отменять ни одного из намеченных Николаем дел. Университетские лекции, литературно-критические статьи для «Аполлона», созданная при журнале «Академия стиха», стихи, множество литературных проектов и знакомств… Гумилев уже чувствует, что в символизме по Брюсову ему «тесно». Слово «акмеизм» еще не найдено и не произнесено, но группа единомышленников сколочена и, в отличие от эстетствующей и «праздно болтающей» «Академии стиха», мыслит себя «Цехом поэтов». Рядом с постоянно действующим генератором литературных идей Анна ощущала себя бездельницей. Вдобавок будущая свекровь достаточно резко, при ней напомнила сыну: до истечения траура разговоры о свадьбе неуместны. Николай промолчал. Внутренне готовая к тому, чтобы отпустить милого друга Колю на свободу, Анна тайком от него наскребла на почтовый до Киева. Даже с Валей не попрощалась. На вокзале опомнилась и бросила в почтовый ящик записку: «Птица моя, сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает… Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать…» Валерия Сергеевна, переполошившись, разыскала Гумилева и чуть не плача показала «страшное письмо». Николай хмыкнул.
«Вы все знаете…» – «С каких пор?» – «Что с каких пор?» – «С каких пор вы с Анечкой стали выкать? Чем выкать, гляньте, Птица, не наляпал ли я ошибок».
Валерия Сергеевна глянула и рассмеялась.
Прошение Н.С.Гумилева
Ректору С.-Петербургского университета.
Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной Горенко.
Апреля 5 1910 г.
Царское Село, Бульварная, дом Георгиевского.
– Ошибочка, Николай Степанович. Сегодня не 5 апреля, а 4 марта.
– А я не сегодня, а 5 апреля и вручу. Сдам сессию и вручу. Нужно же еще и свидетельство об увольнении Гумилева Н.С. в отпуск за границу у них выудить.
Экзамены Гумилев все-таки перенес, но отпускное Свидетельство получил и, еле дождавшись сигнального экземпляра сборника «Жемчуга», первой своей книги, изданной не за собственный счет, 16 апреля 1910 года умчался в Киев. Мать, ни о чем не спрашивая, сказала: «Деньги можешь взять. Свою часть. По завещанию».
Анна встретила жениха скверной новостью. Родственники, посоветовавшись, объявили, что на венчание не явятся. «У тебя, Анна, семь пятниц на неделе. То на курсы, то в монастырь, то замуж». И Андрей молчит. Он у мамы, в Севастополе. Не отвечают на телеграммы. Гумилев слушал и улыбался. «Да они устали тебя за меня замуж отдавать. И не верят, что не передумаешь. Я и то побаиваюсь. Смотри, даже Брюсову написал, что женюсь на А.А.Горенко. Свадьба в воскресенье, потом уезжаем в Париж. К июню вернемся в Царское Село. Адрес старый. Теперь – все, не отвертишься».
Схватил Наничку за руку, а ей; «Ты сиди, красоту береги и телеграмму из Севастополя не прозевай, а мы с Марией Александровной поедем церковь выбирать – маленькую, нарядную, деревенскую. Да смотри, в окошко, как Подколесин, не прыгай, хоть и первый этаж, да высокий. Как, кстати, сказать по-французски? Rez-de-chaussеe?»
На этот раз Анна не передумала, и 25 апреля 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слобода состоялся обряд венчания. Свадьбу молодые решили не устраивать по причине траура, а вместо свадебного подарка Гумилев преподнес жене Париж. Киевская кузина постаралась, чтобы Анечка не выглядела провинциалкой, и ей это удалось. На фотографии, сделанной для выездных документов, новобрачная Гумилева, направляющаяся в свадебное путешествие в столицу Франции, и причесана, и одета по моде и к лицу.
«В черноватом Париж тумане»
Париж 1910 года не оставил в поэзии Ахматовой ни одной резкой зарубки. На удивление невыразительна – по части зарубежных впечатлений – и ее автобиографическая проза конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Первая в биографии Анны Андреевны иноземная столица кажется скопированной с почтовых открыток эпохи Дягилевских сезонов: «То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось „vieux Paris“ или „Paris avant la guerre“ (старый Париж или Париж довоенный). Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались „Au rendez-vouz des cochers“ (Встреча кучеров), и еще живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом».
Правда, в очерке «Амедео Модильяни» Ахматова вписывает в этот же год (и именно в месяц свадебного вояжа) начало и завязку своего легендарного парижского романа с Амедео Модильяни. Иосиф Бродский, прочитав этот текст, пошутил: «Да это же "Ромео и Джульетта" в исполнении особ королевского дома!», и Анна Андреевна, кажется, оценила «веселость едкую литературной шутки». Но шутки шутками, а как же было на самом-то деле? В живой жизни, а не в легенде? Для того чтобы пробиться сквозь легенду, внимательно прочитаем этот очерк, и не только беловой текст, но оставшиеся в черновике варианты.
«В 10-м году, – пишет А.А., – я видела его (Модильяни. – А.М.) чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне». Процитированные фразы – блистательный образец тайнописи, недаром работа над очерком (с 1958 по 1964 гг.) двигалась параллельно с доработкой «Поэмы без героя». Первая фраза абзаца свидетельствует: во время свадебного путешествия (в 1910 г.) госпожа Гумилева не встречалась с художником, а всего лишь видела его несколько раз. И это почти наверняка истинная правда. Не то что нескольких – и одного раза достаточно, чтобы заметить и запомнить удивительного итальянца, выделить из пестрой богемной толпы: «у него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами». Впечатление, судя по воспоминаниям современников, точное. Весной 1910-го Модильяни, только что вернувшийся из родного Ливорно, где прожил в родственной заботе и домашнем уюте четыре месяца, выглядел молодым и сияющим. Во всяком случае, издалека. И на весьма неравнодушный к мужской красоте глаз двадцатилетней провинциалки. А вот фраза вторая: «…он всю зиму писал мне» – вряд ли соответствует действительности. Об этом свидетельствуют изданные в 1961 году мемуары Ильи Эренбурга. Ссылаясь на рассказ самой Ахматовой, Илья Григорьевич относит ее знакомство с Модильяни не к 1910-му, а к 1911 году. Цитирую: «Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой – рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке (хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни) уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность».
Впрочем, и текст ахматовского эссе (если, разумеется, знать и помнить, что многие подробности вписаны в него, как и в «Поэму без героя», симпатическими чернилами) не подтверждает регулярной – всю зиму! – переписки. Не случайно никто из биографов Модильяни ни разу не высказал сожаления об утрате столь важного, уникального документа. Дескать, прекрасная старая дама перепутала грезы с реальностью, но будем, господа, тактичными, промолчим. Из уважения к высокой славе. Из снисхождения к почтенному возрасту Великой Княгини Русской Поэзии.
Как и многие люди, от природы одаренные хорошей памятью, Анна Андреевна слишком долго была уверена в том, что никогда ничего не забывает («Как можно забыть?»). Получилось, что можно. Прожектор памяти оказался не таким уж надежным устройством, как предполагалось в самонадеянной юности: «Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак». Забывались и стихи, и даты, и события. Утверждая, к примеру (все в том же мемуаре о встречах с Модильяни): «Его не знали ни А.Экстер, ни Б.Анреп (известный мозаист), ни Н.Альтман, который в те годы (19141915) писал мой портрет», – Анна Андреевна явно запамятовала, что в один из ранних планов автобиографической книги собственноручно внесла такой пункт: «Ася Экстер про Моди».
Впрочем, провалов памяти в очерке не так много. Своеобразие его сюжета и хронологии объясняется не забывчивостью автора, а эстетической установкой на тайнопись. Как и «Поэму без героя», парижскую лав стори Ахматова компонует по принципу укладки (шкатулки с секретом) с двойным, а то и тройным дном. И тайный замок, и ключ, с помощью которых затейливая шкатулочка запирается, по обыкновению просты и посему безотказны. Например, в основной текст вносится следующая информация, точнее, дезинформация под видом информации: «Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах». Затем в сноске (сноска оставляется в черновике, но не вымарывается) приводятся сведения, ставящие под сомнение достоверность приведенного выше свидетельства (что наркотики всего лишь фигурировали в рассказах Модильяни): «Я еще запомнила его слова: „Sois bonne – sois douce“.[9]9
«Будь доброй, будь нежной» (франц.).
[Закрыть] Это он мне сказал, когда находился под влиянием гашиша, лежал у себя в мастерской и был почти без сознания. Ни «bonne», ни «douce» я с ним никогда не была».
Характерен и такой ход. О том, что Моди писал ей всю зиму, Ахматова упоминает между прочим, мельком, не разъясняя, по какому адресу приходили парижские письма и куда они все подевались. А через несколько строк, и тоже вроде бы мимоходом, как бы без всякой связи с предыдущим сообщением пишет: «В 1911 году он (то есть Модильяни. – А.М.) сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом». Читатель не слишком внимательный с легкостью перепрыгнет через столь незначительное противоречие – и логическое, и психологическое. Зато внимательный непременно запнется. Да как же, мол, так? Ежели золотоглазому Антиною всю зиму было настолько плохо, а ему и впрямь было скверно, что даже думать о самом дорогом не мог, то какие уж тут письма? Да и с какой стати Модильяни, при его-то гордости, стал бы говорить «чужой» и «не очень понятной» ему женщине (слова Ахматовой) о том, как тяжело прожил минувший год, если, повторяю, переписка была интенсивной, а адресатка умела «читать между строк», «угадывать мысли» и даже «видеть чужие сны»? К тому же юная эта дама страдала тяжелой хронической формой аграфии, то есть совершенно не умела писать письма, да еще и находилась в достаточно странных отношениях с грамматикой, как русской, так и французской. Изъяснялась почти совершенно. А писать побаивалась, поскольку свой первый иностранный язык выучила на слух, присутствуя, пятилетней, на уроках французского, которые приходящая «мадам» давала старшим детям Горенко, Андрею и Инне. Наверняка с голоса, а не из воображаемых писем запомнила Анна Андреевна и те подлинные фразы Моди, которые цитируются в мемуарах: «Vous etes en moi comme une hantise» (Вы во мне как наваждение) и «Je tiens votre tête entre mes mains et je vous couvre d'amour» (Я держу вашу голову в руках и окутываю вас любовью). Согласно принятой в очерке «шифровальной системе», цитаты из Моди приводятся как подлинные, но со страхующей подлинность оговоркой: «Все французские фразы в этой статье – подлинные слова Модильяни, как я их запомнила». Больше того. Французские фразы вмонтированы в рассказ о том, как, придя однажды в мастерскую Модильяни, застала хозяина в бредовом состоянии – мало ли что может померещиться художнику под влиянием гашиша? Ситуация, согласитесь, для переписки, тем паче интенсивной, в течение всей зимы, слишком уж неподходящая. Особенно если учесть, что и Модильяни, почти в той же степени, что и Ахматова, был не способен к эпистолярному общению. Даже на письма обожаемой матери откликался с большими опозданиями и всегда кратко, почти формально. А чтобы матушка не обижалась, напоминал: «Я и писание писем – две вещи несовместимые».
Требует «раскодирования» и утверждение Ахматовой, что стихов, посвященных Модильяни, у нее нет и что и «Надпись на неоконченном портрете», и «Прогулка» («Перо задело о верх экипажа…»), и датированное маем-июлем 1911 года «Мне с тобою пьяным весело» к нему не относятся. Названные тексты и впрямь посвящены совсем другому человеку, о полуутаенном романе с которым речь впереди. Однако есть, на мой взгляд, достаточно веские основания предполагать, что именно с Модильяни, точнее, с известием о его смерти в больнице для бедных связано известное стихотворение 1921 года:
На пороге белом рая
Оглянувшись, крикнул: «Жду!»
Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.
Связано, разумеется, не впрямую. Анна Андреевна с юности, с первых поэтических опытов, умела сливать в одно много-много жизней. Правда, в комментариях к последнему изданию, и не только там, утверждается, что стихи обращены к поэту и критику Николаю Владимировичу Недоброво. Но это предположение решительно не соответствует содержанию. Николай Недоброво никогда не был проповедником аскетизма. Наоборот. И в поэзии, и в быту культивировал идеал эстетически организованного (не на медные деньги) жизненного пространства. Завещать, умирая, он мог многое и разное, но только не «благостность и нищету». К тому же о его смерти Ахматова узнала не летом 1921-го, как сказано в комментарии, а годом ранее. Модильяни же, как выразился его друг Жак Кокто, «позволял себе роскошь быть бедным». Нищета для него была и образом жизни, и линией творческого поведения, и даже философией. Словом, тем богатством, той роскошью, какую и впрямь можно и завещать, и получать по завещанию. Если бы не эта установка, на те деньги, какие художнику регулярно высылали из дома, он мог хотя бы не голодать.
По той же системе (сделать два снимка на одну пластинку) зашифрована и история ее легендарного портрета. В очерке «Амедео Модильяни» она изложена так: «Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я окантовала их и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"». Просьбу художника Ахматова не исполнила – ни один из современников, из тех, что бывали у супругов Гумилевых в их царскосельском доме, даже такие глазастые, как Тэффи и художница Делла-Вос-Кордовская, о знаменитом рисунке (а тем паче рисунках!) не упоминает. По-видимому, Анна Андреевна не удосужилась окантовать и его. Это, кстати, ничуть не удивительно, ведь она была уверена: герой ее парижской авантюры сгинул, как десятки других неудачников. («Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу…») И когда ее свекровь Анна Ивановна Гумилева (в начале 1916 г.) продала дом, рисунки остались в отнесенном на чердак сундуке среди прочих бумаг. В том числе и таких реликвий, как письма Блока и Гумилева. В течение пяти лет Ахматова о брошенных бумагах не вспоминала. А вот в самом начале августа 1921-го вдруг собралась и поехала в Царское Село, чтобы эти самые бумаги забрать. И произошло это до смерти Блока, до расстрела Гумилева, однако вскоре после того как Анна Андреевна (в феврале!) была зачислена в издательство «Всемирная литература» в качестве переводчицы с французского, «работающей на дому». По-видимому, именно в эти месяцы ей и попал в руки французский художественный журнал, где было написано, что Модильяни, умерший в январе 1920-го, – художник мирового класса: «Кто-то передал мне номер… Я открыла – фотографии Модильяни… Крестик… Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник ХХ века (помнится, что его там сравнивали с Боттичелли)». Рисунки второго Боттичелли стоили того, чтобы попытаться разыскать их в брошенном на произвол судьбы архиве!
Сундука на чердаке не оказалось, а содержимое было разбросано по полу. К счастью, кое-что все-таки нашлось. Письма Блока, которому жить осталось несколько дней. Письма Гумилева, который будет казнен через три недели. И единственный из рисунков Модильяни. (По-видимому, в остальных пятнадцати явственней предчувствовались будущие «ню», что и оценили новые хозяева добротного сундука.) Вот только вряд ли это были те самые «ню», что наделают столько шума, когда на лондонском аукционе появится альбом с рисунками Модильяни, изображавшими юную обнаженную женщину, поразительно похожую на Анну Ахматову. Модильяни был слишком хорошо воспитан, чтобы просить замужнюю даму повесить такое в своей комнате. Наверняка были выбраны промежуточные варианты. Те самые, о которых вскользь упоминает и Ахматова: «…Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц… Говорил: „Les bijoux doivent être sauvages“[10]10
«Побрякушки должны быть дикарскими» (франц.).
[Закрыть] и рисовал меня в них». Что же касается самого, с обывательской точки зрения, пикантного, а именно: являются ли страшно похожие на Ахматову ню зарисовками с натуры или созданы в воображении, то лично мне представляется более правдоподобным первый, отвергаемый Ахматовой вариант. Прямых доказательств у меня, естественно, нет, зато косвенное имеется. В 1926 году Павел Николаевич Лукницкий сделал в своем дневнике такую запись: «Пунин… сфотографировал А.А на ковре в ее акробатической позе – когда она ногами касается головы (голая). И получилось очень хорошо, и нельзя говорить о неприличии и т. д.: это – как бронзовая фигурка, как скульптура, это эстетично…» (запись от 22 января 1926 г.).
Впрочем, даже если в столь «неприличном» виде Анна Андреевна позировала и Модильяни, это еще ни о чем «неприличном» не свидетельствует. В Париже по неписаному, но строго соблюдаемому закону отношения между художником и обнаженной моделью были прежде всего профессиональными. Вот как описывает традиционный бал художников один из русских путешественников, оказавшийся в Париже летом 1911 года: «На этом балу, в этом апофеозе наготы, было все и, в сущности, ничего не было. Бесстыдство было доведено до предела, но оно не волновало толпы, не возбуждало ее. Маскарад остался маскарадом и не стал оргией. Вот почему, когда какой-то иностранец или провинциал слишком увлекся одною из натурщиц, парижские «вавилоняне» поспешили развести их в разные стороны. Это было на моих глазах. Парижане знают точно, что можно и чего нельзя. И улыбающийся и как будто бездействующий полицейский среди голых натурщиц – это символ, красноречивый и убедительный. Как, в сущности, приличен был этот неприличный бал! Что же это? Культура? Моральная дисциплина?» (Чулков Г.И. Годы странствий).
Но все эти события – бал художников, позирование, визиты в мастерскую с охапками красных роз, ранние прогулки в Люксембургском саду и поздние по ночному Монмартру – относятся к лету 1911-го. И следовательно, не имеют касательства к чувствам юной супружеской четы, которую редактор «Аполлона» С.К.Маковский, оказавшийся в одном поезде с возвращавшимися из свадебного путешествия Гумилевыми (в начале июня 1910 года), отпортретировал: «Я встретил молодых… в Париже… На обратном пути… случайно оказались мы в том же международном вагоне… Анна Андреевна… меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева… весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной… был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею».
Ставя под сомнение существование переписки (между Ахматовой и Модильяни) в зиму 1910 года, а значит, и выстроенную в легенде хронологию их парижских встреч, я вовсе не утверждаю, что красивый роман выдуман от начала и до конца и что рассказ Анны Андреевны о ссорах с Гумилевым из-за Моди (факт, зафиксированный в книге П.НЛукницкого «Встречи с Анной Ахматовой») – плод женского тщеславия и поэтического воображения. Больше того, не исключаю, что в один из майских вечеров 1910 года, когда интересная незнакомка в интригующем одиночестве[11]11
Хотя во время свадебного путешествия молодые всюду появлялись вместе, несколько свободных вечеров у новобрачной А.А.Гумилевой все-таки было. Известно, например, что Гумилев на встречи с французским интеллектуалом Шюзевилем жену не брал, так как Шюзевиль и служил и жил в какой-то иезуитской коллегии, куда женщинам входить запрещалось. Впрочем, если нечто подобное и впрямь случилось, то об этом наверняка тогда же, в десятом, стало известно Гумилеву. У Анны Андреевны имелась странная привычка докладывать мужу о своих женских победах. Лукницкий, к примеру, приводит с ее слов забавный эпизод, на мой взгляд, характерный: «…В 1910 году, на обратном пути из Парижа, в Берлине, А.А. должна была почему-то пересесть в другое купе. Вошла. В купе сидели три немца… Потом два немца легли на верхние полки, а третий на нижнюю – напротив А.А… Говорил ей, что хочет ехать за ней, куда бы она ни поехала, болтал долго, и А.А. стоило большого труда объяснить, что она едет в деревню, к родным, и что за ней нельзя ехать… И этот немец не спал и восемь часов смотрел на нее… Утром А.А. рассказала о нем Николаю Степановичу, и тот вразумительно сказал ей: „На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты не Венера Милосская!..“»
[Закрыть] прогуливалась по живописным закоулкам «острова искусств», Антиной и впрямь «бродил за ней». В воспоминаниях его дочери Жанны, со слов греческого художника Галаниса, зафиксирован такой эпизод: «Как-то утром госпожа Галанис возвращалась домой с покупками. К ней галантно, „по-итальянски“, подошел красивый молодой человек, предложил помочь донести сумку и проводить до дому. Он настойчиво уговаривал ее, хотя она сообщила ему, что замужем. Когда они пришли в мастерскую, Модильяни увидел Галаниса, который к тому времени был уже достаточно известным художником и гравером. Грек простил итальянцу эти „галльские штучки“, они быстро подружились».
Все-таки вероятнее предположить, что ночных прогулок с Антиноем в 1910 году не было, и не случайно объясняя (в 1926 г.) Павлу Лукницкому причины своих ссор с Гумилевым из-за Модильяни, Ахматова датирует их не 1910-м, а 1911 годом. Дескать, «бедствия» начались только после внезапного ее побега в Париж, хотя ничего предосудительного в ее отношениях с Амедео и в то лето не было. Борис Носик, автор переизданного несколько лет назад документального романа «Анна и Амедео», счел это признание ложным. В сочиненной им истории тайной любви Ахматовой и Модильяни их молодой, упоительно короткий и до сих пор «неразгаданный союз» превращен в драму роковой и все возрастающей страсти. Не спорю: такая история сильно украсила бы обе биографии. Но если бы с Анной Андреевной и впрямь случилось столь романтическое ЧП, она наверняка не стала бы оттягивать свидание с Моди на год, а ринулась бы в Париж уже осенью, сразу же после того как Гумилев (в сентябре 1910 года) уехал на полгода в Африку. Но она не ринулась, а всю зиму моталась меж Петербургом и Киевом – неделя здесь, месяц там. На деньги, истраченные на это малокаботажное кочевье, можно было бы с комфортом объехать четверть Европы. Носик, защищая свою версию, задает поддерживающие ее бытовые вопросы. Кто, мол, оплатил поездку? Кто снял комнату? Да не было бытовых проблем у Ахматовой ни осенью, ни зимой 1910 года! Перед свадьбой Гумилев открыл на ее имя счет в банке на 2000 рублей – сумма по тем временам солидная. Напомним для сопоставления цен – изданный за авторский счет первый сборник жены «Вечер» (тираж 300 экземпляров) обошелся Николаю Степановичу всего в сто рублей. Кроме того, в апреле же, перед отъездом во Францию, Гумилев выдал Анне еще и личный вид на жительство. Следовательно, никаких затруднений и с выездными документами у Ахматовой не было. И комнату незачем было снимать заранее, да еще просить об этом посторонних людей. Интеллигентные и небогатые туристы из России издавна останавливались в скромно-приличных пансионах в районе Монпарнаса. (Крутая, деревянная, винтовая лестница. От нее на каждом этаже – коридоры. Вдоль общего коридора – двери маленьких комнат. При комнате – закуток с умывальником и шкафчиком для одежды.) Адреса таких типовых пансионов и фамилии их хозяек имелись про запас в любой петербургской семье.
Нет уж, позвольте, рассердится дотошный читатель. Если не было, как вы доказываете, ни писем, ни роковой страсти, ни молодого «секса» – то что же тогда было? Прежде чем отвечать на этот вопрос, дополним перечень того, чего не было. Увы, не было даже того, что «сильнее страсти, больше чем любовь», то есть мгновенного, поверх барьеров, творческого взаимопонимания. Модильяни не читает и не понимает по-русски, а художественные вкусы тогдашней Ахматовой не отличаются от среднеинтеллигентских: художники группы «Мир искусства», старые гравюры с изображением аристократических выездов в Булонском лесу… Над такими изысками Амедео, как честно признается Ахматова, «откровенно смеялся». И вряд ли мефистофельский смех Моди не задевал или хотя бы не царапал самолюбие его русской подружки. Слишком уж независимо и вольно разговаривал с судьбой и роком этот нищий принц!
Скрытый вызов был, видимо, и в его обещании показать Анне настоящий Париж. Во всяком случае, В.Я.Виленкин в своей последней работе о Модильяни явно держит в уме ахматовские воспоминания: «Какой же ему нужен был Париж? Легче всего представить себе, какой был ему не нужен или, вернее, от какого он отворачивался с презрительной, отчужденной или саркастической усмешкой: это Париж светский, биржевой, крупноторговый и крупнококоточный – средоточие развлечений и мод, Париж Елисейских полей и Больших бульваров, с ума сводящих витрин, шикарных ресторанов, изысканных литературно-артистических салонов и громких премьер Дягилевского балета. Париж ежегодных Гран-при на ипподроме, новейших автомобильных марок и элегантных кавалькад в Булонском лесу». Конечно, и Анне Андреевне Гумилевой светский Париж не по карману и не по вкусу. Однако ж с одним исключением, для Модильяни принципиальным. Ни одну из громких дягилевских премьер Ахматова в 1911 году не только не пропустила, но и до конца жизни помнила, что была свидетельницей триумфов русского балета. Ничуть не шокировали ее и блестящие кавалькады в Булонском лесу. Как и многие русские туристки, она не устояла перед соблазном прокатиться по прославленному лесу в фиакре (извозчик и лошадь – из XIX века). А как же иначе? Даром, что ли, к белой широкополой шляпе приделано привезенное мужем из Африки страусовое перо? «Перо задело о верх экипажа…»