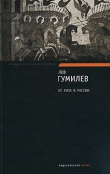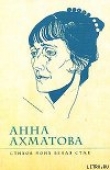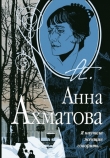Текст книги "Ахматова: жизнь"
Автор книги: Алла Марченко
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В год Льва и Собаки
1912 год был первым дарующим, а не отнимающим годом в жизни Анны Андреевны Ахматовой. Тот, кому был известен Замысел ее Судьбы, соблаговолил дать передышку. До сих пор жизнь только то и делала, что отнимала: сестер, отца, дом. И вдруг стала одаривать. Да как щедро! Не знаешь, что и делать с привалившим богатством. Своя собака, своя комната в собственном доме, первая книга, впервые Италия. И сын: Гумильвенок. Или если раскладывать дары Судьбы не по порядку получения, а в порядке удивительности: Левушка, «Вечер», Италия, Дом, синяя комната, собака. Вообще-то комната, как и бульдожка, появилась чуть раньше, но впервые они с Молли беспечально уснули в своей постели лишь 1 января 1912 года. Печали, по Высшему Указанию, остались в 1911-м.
23 декабря 1911 года во Владикавказе «внезапно скончался» (покончил с собой) Михаил Линдеберг, тот самый «мальчик странный», с которым она от скуки и с досады слегка поиграла в царскосельскую пастораль.
29 декабря того же года, и тоже вдали от Петербурга, в Италии, в крохотном городишке Сан-Ремо, умерла Мария Александровна Кузьмина-Караваева.[23]23
В Сан-Ремо издавна существовала русская колония, нечто вроде острова Надежды, куда привозили из холодной России туберкулезных больных. В нескольких случаях, увы, немногих, итальянское солнце помогало. Машеньку солнце не спасло.
[Закрыть]
Как встретишь Новый год, таким год и будет. Помня об этой верной примете, Анна с тревогой ждала 31 декабря. Тревога, плавающая, изматывающая, оказалась напрасной: впервые они встретили Новый год вместе. Правда, не дома, а в новооткрывшемся литературном кафе «Бродячая собака» (официальное название – «Художественное общество интимного театра»).
Незадолго до Рождества Анна, приехав из Царского в Петербург за подарками и заглянув мимоходом в «Аполлон», встретила там друзей Николая – Михаила Лозинского и Вольдемара Шилейко. Втроем и отправились на Михайловскую площадь поглядеть, что же делается в арендованном под кафе подвальчике. Николай Степанович, побывавший там еще утром, сказал, провожая: «Собаку» откроют под самый Новый год.
Как скоро выяснится, «Художественное общество интимного театра» окажется для Ахматовой настоящим подарком судьбы. Однако при первом знакомстве с будущим «интимным театром» она фыркнула. До объявленного открытия всего десять дней, а здесь и конь не валялся! Мусор, опилки, эстраду только сколачивают. И из чего? Из грубых, плотницким рубанком причесанных досок. Сергей Судейкин, главный декоратор, еще возится с дебелой своей полуню (про себя Анна называла голозадых судейкиных бабищ «нюшками»). И пахнет отвратительно: прачечной. Лозинский усаживает ее на единственный не заляпанный известкой стул. Здесь, мол, и была прачечная. Выветрится, на ходу бросает Борис Пронин, директор-распорядитель. Господин директор, продолжает Михаил Леонидович, и днюет, и ночует в своем заведении, в обнимку с разлюбезной дворняжкой. В ее честь подвальчик и окрестили «Бродячей собакой».
Ввалились, румяные и прилизанные, какие-то совсем мальчики, еле удерживая на вытянутых руках огромную, от Елисеева, корзину с вином и фруктами, почти точную копию намалеванной на стене. Лозинский с Шилейкой, уже одевшиеся, при виде бутылок с шампанским снова сняли пальто. Анна потихоньку ушла. В поезде, устраивая половчее коробку с хрупкими рождественскими цацками, впервые за свою нелепую замужнюю жизнь поймала себя на том, что возвращается в Царское Село с удовольствием, представляя, как и муж, и свекровь тайком друг от друга сверяют часы с расписанием поездов. Так и оказалось. Анна Ивановна сама открыла ей дверь, а Николай, заслышав их голоса, выскочил из своей комнаты и даже расшнуровал ей ботинки, чего раньше никогда не делал. И сразу же потащил к себе: сначала кофе, про «Собаку» потом. (Чтобы не беспокоить домашних, они рано ложились, Гумилев за вечерним чаем сам заваривал себе кофе. В хитроумном английском термосе эликсир бодрости до утра оставался горячим.)
Плотно прикрыв дверь и распахнув форточку, они закурили – курить на глазах у матери Николай ей запретил. Обсудили «проблему "Собаки"» и даже заключили пари. Если Пронин сдержит слово, Анна не украдет из мужнина портсигара ни одной папиросы – за всю новогоднюю ночь; если нет, пусть загадает три желания, он все три исполнит.
Три желания жены Гумилеву исполнять не пришлось: «Бродячая собака» распахнула двери за полчаса до Нового, 1912 года. Правда, в первую ночь здесь было почти по-домашнему, может, и интимно, но отнюдь не театрально. Но уже недели через две выяснилось: «Собака» и впрямь театр, только особого толка, потому что каждый спустившийся в тесный подвальчик становился актером, играющим самого себя.
Мода на литературные кафе, вспыхнувшая в России в начале ХХ века, не угасла и в первые послереволюционные годы (вспомним хотя бы «Стойло Пегаса», связанное с именем Сергея Есенина). Однако войти в легенду довелось лишь «Бродячей собаке». Жизнь у подвальчика (во втором дворе дома Жако, где во времена автора «Русских ночей» Владимира Одоевского жили знаменитые меломаны братья Виельгорские) оказалась и впрямь собачьей, то есть обидно короткой: чуть больше трех лет. Но если собрать под одну обложку воспоминания и судьбы ее завсегдатаев, получится огромный роман, своего рода вторые «Русские ночи», в зеркале которых уместился – отразился довольно верно – Серебряный век.
Чтобы передать атмосферу «собачьих ночей», процитирую два мемуарных отрывка, пересказу они не поддаются.
Сергей Судейкин, художник:
«…Вечер Карсавиной, этой богини воздуха. Восемнадцатый век – музыка Куперена… "Элементы природы" в постановке Бориса Романова, наше трио на струнных инструментах. Среди зала с настоящими деревянными амурами 18-го столетия, стоявшими на дивном голубом ковре той же эпохи при канделябрах. Невиданная интимная прелесть: 50 балетоманов (по 50 рублей место!) смотрели, затаив дыхание, как Карсавина выпускала живого ребенка-амура из клетки, сделанной из настоящих роз».
Георгий Иванов, поэт:
«"Бродячая собака" была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители… Они платили три рубля за вход, пили шампанское и всему удивлялись… Директор, Борис Пронин, "доктор эстетики гонорис кауза"… носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук летает по его груди… Комнат в "Бродячей собаке" всего три. Буфетная и две «залы» – одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал… Теперь стены пестро раскрашены Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В главной зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин, на одной из стен овальное зеркало. Под ним – длинный диван – особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом, когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова:
Да, я любила их, те сборища ночные, —
На низком столике – стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки…
Есть еще четверостишие Кузмина, кажется, нигде не напечатанное:
Здесь цепи многие развязаны —
Все сохранит подземный зал.
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.
Действительно, сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится. Кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем он неизменно снимал) грустно гладит свою любимую Мушку, лохматую злую собачонку… Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О.А.Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно-механической грацией танцует «полечку» – свой коронный номер. Сам «мэтр» Судейкин, скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах, мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, – пьян, – решить трудно».
Словом, если чуток переиначить слова Ахматовой о персонажах маскарадных сцен «Поэмы без героя»: «На этом маскараде были все. Отказа никто не прислал», – можно сказать, что и в «Бродячей собаке» побывали все, хотя некоторые все-таки «прислали отказ». Самым чувствительным для престижа подвальчика был отказ Блока. Год собачники терпеливо ждали: а вдруг? Не дождавшись, в канун первого юбилея, в декабре 1912-го, подослали агитатора, выбрав для деликатной миссии Николая Ивановича Кульбина. Того самого Кульбина, имя которого упоминает в своем мемуаре Георгий Иванов в числе художников, расписавших под руководством Судейкина «собачьи» стены. Ему же принадлежит и портрет дворняжки Мушки, ставший фирменным знаком «Бродячей собаки».
Военврач высокого ранга, Кульбин был своим человеком в закрытом для посторонних доме Блоков. Однако на этот раз даже обаяние Николая Ивановича не сработало. Блок остался при своем особом мнении: полукабак, полупубличный дом в стиле французских заведений конца века. По уходе депутата от партии дворняжек Александр Александрович сделал такую запись: «Вечером пришел Ник. Ив. Кульбин… Говорил, что "нельзя засиживаться": от засиживания на своем месте, на которое посажен «признанный», приходит "собачья старость". Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворняжки». Тщетно восстанавливал в моем мнении "Бродячую собаку", кой-что я принимаю, но в общем – мнение мое неколебимо» (запись от 14 декабря 1912 г.).
Конечно, низкопробность тут ни при чем. Большинство собачников – сотрудники или авторы аристократического «Аполлона», где, как вспоминает Георгий Чулков, был культ классического дендизма – без прибавления дворняжки.[24]24
«"Аполлон" был вполне корректным журналом, напоминавшим лучшие европейские ежемесячники… Ближайшие сотрудники щеголяли особым видом аристократизма… На вечерах журнала появлялись дамы в прекрасных туалетах, декольтированные, как на балах. Многие мужчины были во фраках… Впрочем, надо отдать справедливость „Аполлону“, на его вечерах были не только фраки… здесь выступали молодые талантливые композиторы, изысканные стихотворцы и весьма изящные говоруны эпохи; здесь, между прочим, познакомился я со Скрябиным, и слышал, как он играл свои шедевры» (Чулков Г.И. Годы странствий).
[Закрыть]
Предубеждение Блока было тем более обидным, что собачники прекрасно знали: когда у Александра Александровича наступала полоса загула, он «опускался» в такие подвалы блуда, в сравнении с которыми непотребство «Бродячей собаки» – всего лишь веселая литературная игра. Но именно этого, веселой любительской театральности, Блок и не принимал. В том слаженном коллективном действе, что трижды в неделю три с лишним года с неизменным аншлагом игралось в подвальчике дома Жако, ему, убежденному и урожденному эгоцентрику, не было роли. А каждый, кто не умел или не хотел включиться в игру, оказывался либо фармацевтом,[25]25
Словечко сие привезла из Парижа Ахматова, позаимствовав его у Модильяни. Правда, Антиной вкладывал в него несколько иной смысл: мещане, обыватели, живущие брюхом и в искусстве не нуждающиеся. Петербургские фармацевты были господами иного сорта, скорее просвещенными знатоками, нежели невежественными толстосумами.
[Закрыть] либо свадебным генералом от литературы и искусства.
Впрочем, и среди своих отношение к учрежденному Борисом Прониным интимному театру было разное. Огромному Маяковскому в подвальчике «жмет», он мечтает о площади. Гумилеву – скучновато; самой любимой из его муз – Музе дальних странствий – здесь нечего делать. Трудоголику Лозинскому утомительно, хотя он и скрывает, что для него самое удобное место на земле – домашний кабинетный письменный стол. Мандельштаму сильно мешают фармацевты. Устный жанр – не его жанр, он не смотрится на условной, почти домашней эстраде и субботним ночам предпочитает тихие понедельники, когда можно, состязаясь в остроумии с Шилейкой, сочинять античные глупости для пародийной летописи «Бродячей собаки», для которой предусмотрительный Пронин с помощью Кульбина смастерил огромную, в обложке из свиной грубой кожи, книгу записей.
Одной Ахматовой здесь, в «Собаке», на крохотной сценической площадке, в самый раз. Она поняла это сразу же, на вечере, посвященном 25-летнему юбилею поэтической деятельности Бальмонта, когда впервые прочла стихи не через столик, как в редакции «Аполлона» или на Башне Вячеслава Иванова. Все нужное враз нашлось: и интонация, и поза («вполоборота, о, печаль…»), и даже сценический костюм: узкое черное шелковое платье и старинная шаль. Шаль – прабабкину, кружевную, из слепневских наследных сундуков – извлекла свекровь, наблюдая, как Анна, волнуясь, перебирает парижские приобретения. Принесла еще и камею – тяжелую, в золотой оправе и тоже старинную – бери, бери, к поясу пришпилишь, и, оглядев невестку, кажется, впервые осталась почти довольна ее наружностью.
Не разделяла новоявленная примадонна «Бродячей собаки» и легкого пренебрежения, с каким и Николай, и Осип, и Шилейко поглядывали на гостевые дальние столики. Будь ее воля, Анна Андреевна сослала бы высокомерцев на галерку, а фармацевтов усадила в партер, за ближние столики. И на заседаниях «Цеха поэтов», и на сходках в редакции «Аполлона», и на посиделках у Вяч. Иванова она чувствовала себя немного дворняжкой, незваной среди избранных. Когда сидишь или стоишь – еще ничего, терпимо, но если нужно пересечь комнату, от робости и смущения, словно глухонемая и слепорожденная, цеплялась за мужнин рукав – и лица, и голоса сливались в одно – чужое. Пообтесавшись, сообразила: среди патентованных умников и затейливых говорунов ее читателей не было. Иное дело «Собака». Здесь что ни ночь – новые восхищенные глаза. Соперничать с питомицами Терпсихоры, что с богиней воздуха Карсавиной, что с прелестной плясуньей Оленькой Судейкиной, было бессмысленно. Но Анна и не воспринимала их как соперниц. Среди гостей «Собаки» куда больше читателей стиха, чем балетоманов. Впрочем, и число своих, то есть поэтов, тоже росло.
Однажды появился Маяковский. Юный, еще, как скажет потом Ахматова, «добриковский», то есть широкой публике практически неизвестный. По счастливой случайности, у нас есть возможность представить Маяковского таким, каким он возник почти из ниоткуда в дверном проходе «Бродячей собаки». Портрет этот списан с натуры симферопольским жителем и поэтом-любителем, писавшим футуристические стишки под псевдонимом Вадим Баян. По выразительности, во всяком случае на мой вкус, он превосходит работы классиков мемуарного жанра.
«28 декабря (1913 г. – А.М.) старого стиля, в 11 часов утра, по прибытии с севера курьерского поезда, у меня в квартире раздался настойчивый звонок и в переднюю бодро вошли два высоких человека: впереди, в черном – Северянин, а за ним весь в коричневом – Маяковский. Черного у него были только глаза да ботинки. Его легкое пальто и круглая шляпа с опущенными полями, а также длинный шарф, живописно окутавший всю нижнюю часть лица до самого носа, вместе были похожи на красиво очерченный футляр, который не хотелось ломать. Но… Маяковский по предложению хозяев быстро распахнул всю свою коричневую «оправу», и перед нами предстала худая с крутыми плечами фигура, которая была одета в бедную тоненькую синюю блузу с черным самовязом и черные брюки и на которой положительно не хотелось замечать никаких костюмов, настолько личная сила Маяковского затушевывала недостатки его скромного туалета. Он был похож на Одиссея в рубище. По ту сторону лица таились пороховые погреба новых идей и арсенал невиданного поэтического оружия».
Одиссея в рубище представили Ахматовой. Она протянула руку – для поцелуя. Маяковский подержал ее в ладонях – «какие пальчики…».
Успех, пусть пока и не громкий, стянул с нее «лягушечью кожу», Анна перестала «топорщиться». Получив какой-то гонорар, купила дорогущие билеты на Итальянскую оперу и пригласила свекровь. Анна Ивановна, явно тронутая, от предложения невестки не отказалась. Гумилев, высаживая своих дам из извозчичьей пролетки, с удивлением следил за женой. Дикая провинциальная девочка в новой котиковой шубке (его подарок к Рождеству) выглядела стопроцентной петербуржанкой.
Михаил Кузмин, весной 1912 года зачастивший в Царское к Гумилевым (он писал предисловие к ахматовскому «Вечеру»), отметил в Дневнике такую подробность: «Поехал в город вместе с А.А. Пришлось долго ждать. Проезжали цари. С Гумилевой раскланивались стрелки и генералы…» (запись от 22 февраля 1912 г.).
Тот же Кузмин той же зимой, и опять же не без удивления, заметил, что Анне и Николаю хорошо вдвоем, в уюте собственного, стильно отремонтированного дома, с электричеством и бульдогом. Настолько дружно-сочувственно, что, при всем своем гостелюбии, они тяготятся его присутствием: «У Гумилевых по-прежнему, но, кажется, я стесню их несколько». Стеснение, разумеется, не буквальное: дом большой, Кузмин ночует в библиотеке, никому не мешает ни поздно ложиться, ни рано вставать.
Вскоре после встречи первого «собачьего» года Гумилев отвез в типографию рукопись жениного «Вечера», выложив за 300 экземпляров всего сто рублей (цена двух билетов на вечер с Карсавиной!) Обложка, увы, типовая – чертеж лиры на блекло-голубом фоне. Простенький логотип срочно сочинил для поэтической серии «Цеха» поэт и художник-любитель Сергей Городецкий. Зато фронтиспис, эксклюзивный, рисовал профессионал – «мирискусник» Евгений Лансере. При легком портретном сходстве с Анной Ахматовой Лансере придал и прическе, и позе «русской девы», и форме ее лба, и повороту головы нечто античное. Зато пейзаж, в который вписана фигура одинокой мечтательницы: речная заводь, полузатопленные ивы, – среднерусский, почти слепневский.
Не подвел и Михаил Кузмин. Не выходя из рамок жанра предисловия, охарактеризовал своеобразие молодого дарования столь точно, что без оглядки на первый эскиз к портрету Анны Ахматовой не обходится ни один из исследователей ее поэтики. «Можно любить вещи, как любят их коллекционеры… или в качестве сентиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, непонятной и неизбежной, открывающейся нам в горестном или в ликующем восторге… Нам кажется, что в отличие от других вещелюбов Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако, как беличья шкурка, в небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение не имело бы той хрупкой пронзительности, которое оно имеет».
Тираж тоненького «Вечера» крохотный, деньги Гумилев выложил авансом, и уже 7 марта 1912 года Михаил Зенкевич вывез из типографии и ахматовский «Вечер», и свою «Дикую порфиру», изданную в аналогичном оформлении и под той же маркой: «Цех поэтов». Отпраздновать это событие решили в шикарной квартире жены «стряпчего» «Цеха» Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, урожденной Пиленко. Вообще-то парадиз на Манежной был собственностью матери будущей героини французского Сопротивления, но по особо торжественным дням госпожа Пиленко-Делоне-Нарышкина предоставляла апартаменты в распоряжение дочери. На сей раз случай был незаурядный: новорожденные акмеисты демонстрировали (граду и миру) доказательства своей конкурентоспособности. В «Поэме без героя» Анна Ахматова отдаст дань восхищения организаторскому таланту Гумилева, врожденному его умению подчинять хаос законам упорядоченного космоса:
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы,
Хаммураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны.
Пространство бунта против диктата символистов Гумилев и в самом деле организовал железно. Ядро (штаб, интеллектуальный центр) – шестерка убежденных акмеистов: Гумилев, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Ахматова, Нарбут. Ближайшее окружение (и укрепление) – открытое литературное объединение «Цех поэтов» с подвижным составом. Группа поддержки – авторский коллектив «Аполлона», в котором Гумилев, ведущий критик и хозяин отдела поэзии, определяет линию наступления на литературном фронте. Друг и соратник лидера «цеховиков» – Михаил Лозинский, формально к ним не примкнувший, литературный редактор издательства «Цех поэтов», а также главред полужурнала, полуальманаха «Гиперборей». Издательской марки «Цех поэтов» на нем нет, но де-факто это его печатный орган. Словом, линия обороны, которую в любой момент можно развернуть в линию наступления, Гумилев выстроил безупречно. Учел все, даже то, что собственный сборник «Чужое небо» нецелесообразно издавать в той же серии и под тем же грифом, что и книги Ахматовой, Зенкевича, а некоторое время спустя «Скифские черепки» Лизы Кузьминой-Караваевой. «Чужое небо» выйдет в свет как издание журнала «Аполлон» в самом конце марта 1912 года.
Не последним пунктом задуманного Гумилевым проекта была и презентация «Вечера» и «Дикой порфиры»: гости строго по выбору, шампанское лучшей марки, героев торжества Анну Ахматову и Михаила Зенкевича увенчали настоящими, в олимпийском стиле, лаврами. Венки смастерили под наблюдением рукодельного Городецкого, ветки закупила в павловских оранжереях и привезла в город Ахматова. Она же оставила краткое описание этого шоу:
«…Когда одновременно вышли "Дикая порфира" и «Вечер», их авторы сидели в лавровых венках. Веночки сплела я, купив листья в садоводстве А.Я.Фишера. Хорошо помню венок на молодых кудрях Михаила Александровича…»
Запомнился Анне Андреевне и налог на первую творческую радость – налог на радости судьба берет всегда. От лучшего в столице шампанского ее вдруг так замутило, что еле досидела до конца триумфа. Почти месяц тревожили ее внезапные приступы дурноты и разные прочие непонятности, но Валя, посоветовавшись с мужем, успокоила. Ты просто нервничаешь, Анечка, из-за книги, ну и весна, со мной тоже было, но, видишь, пронесло. К великому огорчению Срезневского: спит и видит себя окруженным целым выводком наследников и наследниц.
Анну не пронесло.
Гумилев отнесся к случившемуся по-деловому, как будто это не Анна, а бульдожка Молли понесла. Доложив об ожидаемом прибавлении семейства Анне Ивановне, в неделю обеспечил «Аполлон» материалами на два выпуска вперед, а жене приказал – ну, почти приказал – немедленно собираться в дальнюю дорогу. За теплом и солнцем. Мать все беременности просидела в волглом Кронштадте, а потом мучилась с нашими хворями. Позаботился и о книгах в дорогу – привез только что вышедшие томики Павла Муратова «Образы Италии». «Надеюсь, этого хватит надолго». И оказался прав: муратовской Италии Ахматовой хватило даже на «Поэму без героя». Николай, знакомый с Муратовым по публикациям в «Аполлоне», вчитываться не стал: потом, потом, сначала сами будем смотреть и думать. Даже маршрут наметил не по Муратову. «Образы Италии» начинаются и кончаются Венецией. А мы, Аника, начнем с захолустья, с итальянской Ривьеры, и обязательно «попробуем парохода». А дальше так: во Флоренции, Риме и Венеции останавливаемся надолго. Остальное мимоездом.
Ехали медленно, с пересадками и только к середине апреля оказались в Сан-Ремо, где у родственников покойной Маши Кузьминой-Караваевой была не бог весть какая богатая недвижимость. Прожив неделю, сели на допотопный пароходик и через Пизу добрались до Флоренции. По плану Николая Степановича следующим пунктом назначения был Рим, но Анна от Рима отказалась, предпочла вечный город с его громкой мужской славой лишней неделе на родине Данте. Муж уехал один, взяв с нее слово, что будет не только бродить по сумрачным музейным залам, но и кормить сына солнцем. В том, что у них родится сын, Гумилев был почему-то твердо уверен. Он теперь, после «Чужого неба», стал каким-то уж очень уверенным. Анна даже вспомнила блоковское, презрительное: шли уверенные и женщины уверенных. К женщинам уверенных в себе мужчин Анна себя не причисляла:
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный…
Стихи получились нехорошие, самоуничижительные, а значит, не совсем искренние. Чувство своего пути и пути уже найденного было в ней настолько сильным, что про себя она называла его – шестым чувством. А вот Коля… Так ли он в себе уверен, как кажется со стороны и вчуже? Почему ни разу не спросил, что она думает о «Чужом небе»? Может, считает, что и эта книга, уже четвертая, все еще обещание чего-то большего?
Среди прекрасного чужого изобилия Анна чувствовала себя обездоленной. Вот и Блок после Италии вернулся не просто в Россию, на родину, а в нищий рай:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые любви.
Когда эти стихи Ахматова прочла впервые, они показались слишком уж экзальтированными. Ну, прямо культ убожества. Но здесь, в Италии, и особенно во Флоренции, где каждый камень свидетельствовал: великое прошлое не умирает, а продолжает жить в настоящем и, может быть, превращается в будущее, – она поняла Блока. Не умом, пуповиной. Через пуповину, как однажды выразился брат Андрей. Чтобы справиться с проклятием обездоленности, с черно-белой завистью к чужому богатству, надо полюбить обездоленность, сладость обездоленности. Блаженны нищие духом.
Николай с ней не согласился.
– Благороднее полюбить чужое как свое. Трудно? Трудно от слова «труд». Ты когда-нибудь задумывалась, почему? Да потому что каждый из нас, русских, немножко или множко Илья Ильич Обломов. Лень думать, лень действовать, лень работать. Лень – мать всех русских пороков и даже мачеха нашего изобретательства. Заметила? Самые изобретательные люди – лентяи. А почему? А потому, что труднее всего оправдать свою лень. Что ты говоришь себе, если чувствуешь, что тебе лень поднять с пола упавший журнал? Или положить на место платяной веничек?
– Говорю: все равно все пропало. А ты?
– А я ничего не говорю, потому что ни книг, ни журналов на пол не роняю.
Ни Оспедалетти, ни Сан-Ремо восхищения Анны Андреевны не удостоились – унылая итальянская Ривьера, ничуть не лучше Одессы. И в Генуе больше думала о Тютчеве, чем о здешних красотах (о Тютчеве, об его итальянских терзаниях, о тайном романе с будущей второй женой ей много и интересно рассказывал Чулков). Даже Пиза со знаменитой башней оставила почти равнодушной. Впрочем, и Николай сильных эмоций не выражал, хоть и застоялся дольше обычного у мрачно-блестящего «Триумфа смерти». И когда потом, на обратном пути, в хорошую минуту прочел стихи о Пизе, Анна в который раз поразилась его скрытности. Имя художника, написавшего «Триумф», Анна запамятовала, а вот о том, что Колин «сатана» взят с той фрески, догадалась. «Пиза» была, кажется, первым стихотворением Гумилева, которое Анна Андреевна целиком запомнила с голоса:
Солнце жжет высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары!
Все спокойно под небом ясным:
Вот окончен псалом последний.
Возвращаются дети в красном
По домам от поздней обедни…
Все проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, тяжкое бремя,
Продолжает жить в настоящем.
Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.
Зато Флоренция… И день был пасмурный, и время утреннее, но Анна уже через час рухнула. Похоже на солнечный удар. Гумилев сказал это небрежно, как о простуде – похоже на грипп. И добавил: в твоем положении желательны солнечные ванны, а не солнечные удары.
Оставшись на неделю одна во Флоренции, пока Николай Степанович изучал Рим, а как потом признался, и Неаполь, Анна Андреевна очень-очень старалась отделаться стихами от завораживающих воображение флорентийских достопримечательностей. И не могла отделаться: тяжесть культурного слоя в городе Данта не просто давила, как в Пизе, а подавляла, хотя ничего, кроме общих мест, ни об авторе «Божественной комедии», ни о милом городе его Анна не знала. Немые древности не складывались в картину, образы Италии расплывались, линии исчезали. Четким, как в перевернутый бинокль, она видела лишь свое Слепнево, бедное и смиренное:
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет кисть рябины темно-красной…
Еще более тяжкое бремя былого навалилась на нее в Венеции. Не в подъем! Дать можно только тому, кто в состоянии взять. И удержать. Она – не в состоянии. Пока не в состоянии. Вот разве что вышить бисерным почерком бытовую картинку, подобрать закатившуюся на ярко-зеленый газон пеструю – голубую с золотом, стеклянную бусину:
Золотая голубятня у воды…
Впрочем, к концу путешествия даже Николай выдохся. Венецию изучал методично, по частям, сначала сам город, потом окрестности, но как-то вяло, без всегдашнего энтузиазма. А вот Анна только в Венеции и очнулась. Случилось с ней это в самый последний день, когда совершенно случайно оказалась в том месте, куда хотела попасть еще до того, как оказалась в Италии. Когда у Муратова прочла про венецианские карнавалы:
«Маски, свечи и зеркала – вот что постоянно встречается на картинах Пьетро Лонги. Несколько таких картин украшают новые комнаты музея Коррер, заканчивая стройность этого памятника, который Венеция воздвигла наконец своему XVIII веку. Здесь есть ряд картин, изображающих сцены в Ридотто. Этим именем назывался открытый игорный дом, в котором дозволено было держать банк только патрициям, но в котором всякий мог понтировать. Ридотто был настоящим центром тогдашней венецианской жизни. Здесь завязывались любовные интриги, здесь начиналась карьера авантюристов. Здесь заканчивались веселые ужины и ученые заседания. Сюда приходили после прогулки в гондоле, после театра, после часов безделья в кафе на Пьяцце, после свиданий в своем казино. Сюда приходили с новой возлюбленной, чтобы испытать счастье новой четы, и часто эта возлюбленная была переодетой монахиней. Но кто бы мог узнать ее под таинственной «бауттой», открывающей только руку, держащую веер, да маленькую ногу в низко срезанной туфельке. Когда в 1774 году сенат постановил закрыть Ридотто, уныние охватило Венецию… На картинах Лонги перед нами Ридотто в дни его расцвета. В зале сумрак, несмотря на блеск свечей в многочисленных люстрах… Кое-где слабо мерцают зеркала. Толпы масок наполняют залы. «Баутты» проходят одна за другой, как фантастические и немного зловещие ночные птицы. Резкие тени подчеркивают огромные носы и глубокие глазницы масок… большие муфты из горностая увеличивают впечатление сказки, какого-то необыкновенного сна. Среди толпы «баутт» встречаются женщины-простолюдинки в коротких юбках и открытых корсажах, с забавными, совершенно круглыми масками коломбины на лицах. Встречаются дети, одетые маленькими арлекинами, страшные замаскированные персонажи в высоких шляпах и люди, напоминающие своими нарядами восточные моря. Все это образует группы неслыханной красоты, причудливости и мрачной пышности. Наш ум отказывается верить, что перед нами только жанровые сценки, аккуратно списанные с жизни».
Венеция не самого славного из веков ее славы, отнятая у забвения тщательно-аккуратной кистью отнюдь не самого знаменитого из ее живописцев, была сродни ахматовскому Петербургу. Царь-плотник восхотел выстроить на Васильевском острове росский Амстердам. Разумная супруга безумного Павла укоренила в своей резиденции идеальный образ Центральной Европы, какую помнила и обожала, – ухоженной и обихоженной, соразмерной с необходимым и достаточным. И все, потеснившись, сроднилось, подчинившись жеманному, но верному вкусу Марии Федоровны. Русский фарфор и французские гобелены. Персидские ковры и итальянская керамика. Английские акварели и монастырские вышивки. Анна любила и европейскую смесь Павловска, и петровские сны о Голландии, и все-таки самым-самым был тот Петербург, который на венецианский манер построили для двух знаменитых императриц великие итальянцы! В «Поэме без героя», в ее первой маскарадной части, Ахматова не забудет напомнить нам об этом: