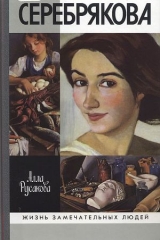
Текст книги "Зинаида Серебрякова"
Автор книги: Алла Русакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Зинаида Евгеньевна пытается заработать на жизнь семьи, более чем скромную, творчеством – работой над портретами. «Зикино счастье, что она портретистка, – пишет Екатерина Николаевна, – и как ни странно, а находятся желающие дамочки иметь свой портрет и платят по 200 тыс. за акварельный портрет». Чтобы дать некоторое представление о соотношении гонораров художницы и стоимости жизни этой поры, непосредственно предшествующей наступлению нэпа, стоит привести отрывок из другого письма этого же времени: «Ходит к нам чуть ли не каждое утро старик “дедушка” и предлагает купить то масло сливочное 23 000 р., то мыло, то конину 2500 р. (фунт) и т. д. И вот мы ему задолжали 204 000 и он ждет, веря, что мы как-нибудь выкарабкаемся и отдадим, и действительно, лишь бы Зиночка была здорова и рисовала бы, то и деньги будут, ведь на художества большой спрос». Правда, в другом письме Екатерина Николаевна сожалеет: «Мы теперь ворочаем тысячами, как бывало копейками. Зато и портреты Зинины оплачиваются по 200 тыс., только жаль, что редко такие клиенты, а все больше своих изображает». Судя по всему, богатые заказчики встречались нечасто: «Зике нужно много, чтобы нас прокормить, но пока живем все ее старыми работами. Портреты Эрнста и Коки (Николая Александровича Бенуа. – А. Р.) сделаны из благодарности, что они нам помогали в перевозке с 1-ой линии, без них было бы трудно». Кстати, с «молодыми людьми» у семейства Серебряковых сложились не просто соседские, а гораздо более теплые отношения, нечто вроде коммуны: «Здесь нам приносят хорошие пайки наши жильцы, а мы их зато кормим» [83].
В начале лета 1921 года, к большой радости всей семьи, в Петроград приезжает из Харькова в командировку Галина Илларионовна Тесленко и останавливается у Серебряковых на улице Глинки. Уже неоднократно цитированные ее воспоминания очень точно, иногда с трогательными подробностями, воспроизводят нелегкий быт семьи Зинаиды Евгеньевны, а также ярко, хотя и бегло, описывают встречи с ее дядями – Альбертом и Александром Николаевичами. «В материальном отношении Серебряковым жилось трудно, очень трудно. По-прежнему котлеты из картофельной шелухи были деликатесом на обед… Однажды мы с Екатериной Николаевной объявили, что сегодня на обед будут вареники с вишнями. Зинаида Евгеньевна, которая рисовала в это время портрет по заказу, так торопилась домой, что пришла на два часа раньше положенного часа и призналась, что все утро только и грезила о варениках с вишнями. Она с тоской жаловалась, что не видит выхода из положения. “Дядя Шура, – говорила она, – советует поступить по-мужски – отбросить ежедневные заботы и всерьез приняться за работу. Результаты работы, в чем он не сомневался, принесут свои плоды, а следовательно, и возможность создать приблизительно нормальное существование. Но дядя Шура, – продолжала Зинаида Евгеньевна, – не мог понять, что мать, хотя бы временно, не может видеть абсолютно голодных детей, тем более, что Шурик таял буквально на глазах”». Очевидно, Александр Николаевич имел в виду, что Серебрякова, блестяще зарекомендовавшая себя как создатель совершенно особого рода картин монументального характера и значительного содержания, должна взяться за работы того же плана. Но условия реальной жизни 1921–1922 годов делают это невозможным. И Зинаида Евгеньевна вынуждена была писать по заказу – иногда полученному с большим трудом – портреты, работа над которыми часто была изматывающей, забиравшей все силы.
Портреты
Если все созданное Серебряковой в эти последние несколько лет пребывания в России, с начала 1921-го до отъезда во Францию в августе 1924 года, разделить хотя бы по жанрам – вернее, по темам, – то на первый план выступает великолепная серия портретов, в том числе детских, и автопортретов. В это же время ею был написан ряд значительных и совсем особенных пейзажей Петрограда и его окрестностей. Нельзя забывать также о нескольких принципиально важных натюрмортах – образцах жанра, в котором она ранее почти не работала. Но главное место среди работ первой половины двадцатых годов занимает ее блестящая «Балетная серия» или «сюита», не имеющая аналогов по подходу к изображаемому и художественному языку, хотя сам процесс работы над очень разными по решению портретами балерин и многофигурными композициями напоминает, естественно, ее же метод разработки произведений «крестьянской» тематики.
Однако прежде всего необходимо обратиться к автопортретам этого последнего ее «российского» периода. Это особенно важно потому, что они с предельной ясностью открывают нам изменения, произошедшие за три года в жизни Серебряковой. Прекрасны работы этого времени – «Автопортрет в красном» 1921 года; написанный в следующем году «Автопортрет в белой кофточке», который Зинаида Евгеньевна несправедливо считала неудавшимся; наконец, «Автопортрет с кистью», созданный перед отъездом в Париж. Работа над автопортретами часто была вынужденной, «за неимением лучшего» – другой модели. Серебрякова, которая просто не могла существовать без творчества, далеко не всегда имела возможность просить кого-нибудь позировать и еще реже получала заказы на портреты. Кроме четырех-пяти известных живописных автопортретов, в этот период ею было выполнено множество автопортретных зарисовок, сделанных «для упражнения в рисунке или для изучения различных эмоциональных выражений лица», которые она уничтожила, так как не хотела, по свидетельству ее старшей дочери, чтобы они были «известны широкой публике» [84].
При знакомстве с автопортретами этих лет невольно вспоминаются ее аналогичные работы грани десятых годов – в первую очередь «За туалетом», а также «Пьеро» и «Девушка со свечой». Эти три давние работы не случайно носят названия, вызывающие определенные ассоциации. Первый портрет – подкупающий своей ясной прелестью рассказ о счастливой юной женщине, живущей простой, естественной жизнью. Помимо этого, в нем наличествует то отстранение, которое превращает портрет в поэтическую картину. Два других автопортрета полны романтического мироощущения. Теперь же все обстояло иначе – но не только потому, что прошло десятилетие и Серебрякова повзрослела (она всегда выглядела моложе своих лет).
Очевидно, вскоре по приезде в Петроград Серебрякова создала графический автопортрет. Это энергичный, мастерский рисунок, точно фиксирующий черты лица, на первый взгляд мало изменившегося за прошедшие годы. Но с потрясающей психологической правдой передано совершенно иное душевное состояние Серебряковой: глаза человека, испытавшего много горя, смотрящего на жизнь с грустью и тревогой; вместо полуулыбки – сжатые, скорбные губы. И в самих резких и порывистых штрихах рисунка, в быстрых нервных касаниях карандаша, обозначающих челку, ощущается та же тревога, внутреннее беспокойство. При взгляде на это изображение становится особенно понятна причина уничтожения ряда других автопортретных рисунков – слишком о многом они говорили.
Естественно, в живописных автопортретах, над которыми художник работает обдуманно и не спеша, больше спокойного самоанализа. Но все-таки и их отличие от ранних работ разительно. Интересен такой на первый взгляд чисто «содержательный» аспект: Серебрякова на автопортретах (за редкими исключениями) – и в двадцатых годах, и позднее – живописец с кистью или карандашом в руке. Очень удачен по цветовым соотношениям киновари халата, белой блузы, светлого тона лица и темного фона «Автопортрет в красном», запоминающийся строгим и внимательным взглядом карих глаз под четко очерченными дугами бровей, глаз художника, занятого напряженной, необходимой для души работой. На более светлом «Автопортрете в белой кофточке» художница с тонким и как бы снова ставшим совсем юным лицом «по-серовски» (вспомним портрет Генриетты Гиршман) отражена в зеркале на втором плане. Привлекателен редкий профильный пастельный портрет, где опять большую роль играет отражение в зеркале, повторяющее в фас облик Серебряковой. Наконец, последним перед отъездом в Париж был создан «Автопортрет с кистью» – может быть, самый привлекательный среди названных: выражением задумчивого лица с легкой, кажется, случайно тронувшей губы полуулыбкой; удачно решенным фоном – банками с краской за стеклом шкафа, где яркость киновари оживляет цветовую гамму портрета.
Безусловно, достоин упоминания «Автопортрет с дочерьми» 1921 года. Эта работа Серебряковой, куда менее известная, чем портреты-картины «За обедом» и «Карточный домик», поражает абсолютной искренностью, полным отсутствием чего-либо показного в выражении чувств, особой душевной интимностью. К матери, держащей в руке кисти, прижались девочки – девятилетняя Тата с удлиненными глазами, так похожими на материнские, и младшая, золотоволосая Катя. Композиция портрета тщательно выстроена и вместе с тем естественна и непосредственна: взгляд Таты устремлен на мать, а младшая дочь смотрит, очевидно, на портрет, над которым работает Зинаида Евгеньевна. Хорошо продумано и цветовое решение портрета – сдержанное, основанное на вариациях голубого и синего в блузе художницы, тельняшках девочек и намеренном использовании тех же оттенков при написании условного фона, на котором особенно мягким кажется теплый тон лиц. Несомненно, это одно из самых лирических произведений Серебряковой, чисто живописными средствами очень много рассказывающее о ее жизни в это время.
Не менее впечатляет – и по смыслу, и по композиционному решению – сцена у старинного туалета, в зеркале которого отражается анфилада из пяти комнат. На первом плане запечатлены Тата, углубленная в чтение, и Катя, смотрящая на мать, пишущую эту картину, и на зрителя. Эта работа обычно неправильно датируется 1917 годом; на самом же деле она относится к тому же времени, что и описанный выше «Автопортрет с дочерьми», к 1921 году, когда вернувшаяся в Петроград семья Серебряковых уже обосновалась в «доме Бенуа» на улице Глинки (заметим, что об анфиладе комнат в квартире Зинаиды Евгеньевны упоминает в воспоминаниях и Г. И. Тесленко). Да и возраст, и облик девочек на картине точно соответствует их возрасту и облику на «Автопортрете с дочерьми».
Среди портретов этого времени есть несколько совершенно особых – праздничных и романтических: изображения дочерей в маскарадных костюмах; задумчивой Кати у елки в шляпе с перьями, с полумаской в руках; притихшей Таты в виде Арлекина; ее же – в кокошнике. На рождественские и святочные праздники перетряхивались и опустошались сундуки семейства Бенуа; да и Зинаида Евгеньевна с матерью шили «театральные» костюмы, чтобы доставить немного радости – шарадами, шуточными представлениями и подарками – и детям, и принимавшим участие в празднике наравне с ними взрослым, также запечатленным Серебряковой в маскарадных костюмах (портрет Д. Д. Бушена). Самое главное в этих портретах – явное желание уйти от обыденности, от повседневных трудностей в иной, пусть воображаемый, мир.
Новые поиски
Серебрякова много сил отдает работе над портретами – «свободными» и заказными, по большей части женскими (хотя сохранились и психологически тонкие портреты Эрнста и Бушена). В первую очередь не может не привлечь особое внимание небольшой пастельный портрет Анны Ахматовой 1922 года. Нам, к сожалению, не известны обстоятельства его создания; более того, мы не знаем, была ли Серебрякова знакома ранее с поэтом, или их общение началось только теперь и ограничилось работой Зинаиды Евгеньевны над портретом. При взгляде на него невольно приходит на память «риторический» вопрос А. П. Остроумовой-Лебедевой о том, нужно ли в портрете сходство с его моделью или достаточно «художественной цельности» произведения. Образ, созданный Серебряковой, несколько неожидан, в нем нет резкости и оригинальности облика Ахматовой, привлекавших многих мастеров; зато от большинства ее портретов других, и очень известных живописцев (например, работ Н. Альтмана или Ю. Анненкова) это изображение отличается гораздо большей мягкостью, женственностью, очарованием и особой проникновенностью, чуткостью к сложному духовному миру великой «модели».
Среди большого количества произведений этого жанра выделяются на общем фоне портреты «младшей Ати» – Анны Александровны Черкесовой-Бенуа с маленьким сыном Татаном на руках (1922) и жены директора Эрмитажа Марфы Андреевны Тройницкой (1924). Оба они «вылились» сразу – может быть, потому, что «модели» не ставили никаких условий живописцу, как это случалось при написании некоторых заказных портретов. Острое, характерное и выразительное лицо бодрой духом, энергичной А. А. Бенуа, до глубокой старости сохранявшей эти унаследованные от родителей качества, передано без прикрас и без того бессознательного соотнесения с собственной внешностью, которое проскальзывало в портретах Серебряковой в 1910-е годы. Немного резкие черты матери тонко сопоставлены с детской мягкостью личика спящего малыша, и этот контраст придает портрету особую поэтичность. Здесь, как в большей части других портретов, написанных не по заказу, значительную роль играет окружающая скромная обстановка – красно-коричневые стены, на фоне которых прекрасно смотрятся и темные вьющиеся волосы взрослой «модели», и так естественно входящий в серебряковские портреты простой натюрморт – белый фаянсовый кувшин и миска. Сочетания приглушенных красных тонов, больших плоскостей белого и ударов черного придают портрету особую выразительность. Не менее энергично написан портрет М. А. Тройницкой. И черты лица женщины, и ее спокойная, уверенная поза, и нейтральный фон, на котором четко выделяется поясное изображение портретируемой – все способствует созданию яркого облика. И опять большое композиционное и живописное значение имеет натюрморт: чайный прибор, несколько вишен и лимон на блюдце, – своей нарочитой «домашностью» и разбросанностью подчеркивающий внешнюю и внутреннюю собранность модели.
В это время в изображениях дочерей Серебряковой появляется новая тема, которая в парижский период ее творчества получит психологически обоснованное развитие. Девочки на этих портретах, достаточно сложных в композиционном отношении, погружены в хозяйственные заботы и вследствие этого находятся в своеобразном взаимодействии с тщательно разработанными натюрмортами, которым отведена не меньшая роль, чем изображению модели. Первой работой такого рода была композиция 1921 года «Катя у кухонного стола». Девочка ножом набирает масло из масленки; на столе перед нею обыденный набор предметов: белый кувшин, хлеб, тарелки с картофелем «в мундире» и луковицами; на втором плане видны спинки стульев, дверца кухонного шкафа… Локоть правой руки Кати срезан краем картины, что сообщает всему запечатленному ощущение естественности и временности действия. Глаза девочки опущены, она занята своим несложным делом, вся ее фигура занимает лишь четверть пространства холста. Эти композиционные находки гораздо ощутимее придают портрету характер жанровой картины, чем это было в более ранних работах – «За обедом» и «Карточный домик», где внимание живописца было сосредоточено прежде всего на облике детей, выражениях их лиц и настроении. Тот же характер портрета – жанровой картины носят и выполненные в 1923 году с очень небольшими интервалами композиции «Катя чистит яблоки», «Катя с натюрмортом», «Тата с овощами», «На кухне». Хотя в этих работах «по-серебряковски» внимательно проработаны лица и движения девочек, занимающихся «взрослым» делом, с не меньшей увлеченностью и тщательностью написаны детали сложных натюрмортов – блестящая чешуя рыбок, разнообразные по форме, цвету, фактуре овощи и зелень. И, конечно, не случайно с этими работами соседствует по времени «чистый» натюрморт «Селедка и лимон», превосходно написанный в духе «старых мастеров». Невольно приходит на память созданный в ту же эпоху «исторический» – не побоимся этого слова – натюрморт К. Петрова-Водкина: высохшая, лежащая на синей бумажке рядом с крошечным кусочком хлеба и двумя жалкими картофелинами селедка стала подлинным символом голодной эпохи и нищенских пайков. Серебрякова, в тяжелой полуголодной жизни черпающая радость в своем искусстве и стремящаяся создать в живописи более благополучный, чем окружающая действительность, счастливый мир, не мудрствуя лукаво пишет то, что может принести эту радость – хотя бы чисто зрительную, эстетическую.
В 1922 году художница создает несколько натюрмортов совсем другого рода, воплощающих ту сторону жизни, которую она воспринимает как высшее счастье. На работах, которые она сама назовет «Атрибутами искусства», запечатлено то, чем живет художник: кисти, этюдник, банки с красками, рулон бумаги и, как знак совершенства, гипсовый слепок античной скульптуры. Благородно сдержанные в цвете, тщательно уравновешенные в построении, эти натюрморты – свидетельства вечного служения Серебряковой искусству.
Всегда очень важная для Серебряковой тема ее живописи – пейзаж – в эти годы звучит несколько иначе, чем ранее. По превратностям жизни столь любимый сельский пейзаж, естественно, исчезает из ее работ. Но вскоре по приезде в Петроград она первый и последний раз пишет «классический вид» родного города – Неву и Петропавловскую крепость со стороны Дворцовой набережной, прекрасный и вместе с тем тревожащий пейзаж с тяжелыми, предвещающими непогоду тучами, нависшими над такой же мрачной, замершей рекой. Небольшой размер этой работы отнюдь не препятствует ощущению величавости изображенного. В следующие годы Серебрякова работает в основном над пейзажами пригородов: Царского Села, навсегда связанного для нее с именем Пушкина; Павловска и прежде малознакомой ей Гатчины; создает подлинно лирические – скорее интимные, чем парадные, произведения. Пишет она и очаровательные интерьеры Царскосельского Екатерининского и Гатчинского дворцов, и особо любимую ею Камеронову галерею. В Петрограде ее привлекают своей печальной поэтичностью запущенный сад Юсуповского дворца со статуей Фавна на фоне зелени и постепенно приходящий в упадок фасад дома Бобринских.
Балет
В самом конце 1921 года Зинаида Евгеньевна пишет в Харьков своим друзьям Г. И. Тесленко и В. М. Дукельскому: «Живем мы по-прежнему каким-то чудом, т. к. фантастические миллионы, которые теперь стоит жизнь, все растут и растут. В феврале здесь будет выставка… Я же с ужасом вижу, что у меня за этот год опять нет ничего значительного, интересного, что выставить. Наконец я буду получать ученый паек с Нового года» [85]. Выставка, о которой сообщает Серебрякова, состоялась не в феврале, а в мае – июне 1922 года под флагом «Мира искусства»; она экспонировала там шестнадцать превосходных работ, среди которых главное место занимали совершенно новые для нее произведения – девять портретов артистов балета, которые открывали ее блестящую «балетную сюиту». Начала же она работать над этой новой темой поздней осенью предыдущего 1921 года. «Вообще эту зиму мы окунулись в балетный мир, – пишет Екатерина Николаевна сыну. – Зина рисует балерин раза три в неделю, кто-нибудь из молодых балерин ей позирует, затем Таточка в балетной школе и два раза в неделю Зика ходит с альбомом за кулисы зарисовывать балетные типы. Все это благодаря тому, конечно, что наши два жильца (С. Р. Эрнст и Д. Д. Бушен. – А. Р.) увлекаются балетом и два раза в неделю – в среду и воскресенье – обязательно ходят в балет» [86].
Поводов для обращения к миру балета у Серебряковой было достаточно. Известно, что самой большой любовью Александра Николаевича Бенуа (он всегда являлся для племянницы авторитетом, о чем мы уже не раз говорили; но именно в эти годы они особенно сблизились) были музыка и театр, особенно балет, о чем он подробнейшим образом рассказывает в «Моих воспоминаниях». На грани 1900-х и 1910-х годов он был фактическим художественным руководителем дягилевских «Русских сезонов» в Париже; этой работе он посвятил написанные уже в эмиграции «Воспоминания о балете». После революции он в течение нескольких лет являлся членом дирекции, управляющим делами и художником Мариинского театра.
Но, кроме его влияния, для создания балетной серии у Серебряковой были глубокие внутренние причины, лежащие в основе всего развития ее искусства. Для достижения подлинного творческого подъема, для ощущения самореализованности ей необходимо было находиться в определенной жизненной сфере, посвятить свой дар теме, в которой она могла бы воплотить свое понимание прекрасного в человеке, в его труде, всегда воспринимаемом ею как созидание, как творчество. Теперь, после нескольких тяжких лет совершенно по-новому повернувшейся жизни, после гибели мужа, скудно отмеренной творческой работы в Харькове и попыток заработать на жизнь портретами в Петрограде она находит ту область живописи, ту тему, в которую можно вложить подлинный творческий порыв.
«Балетная сюита» состоит из полутора десятков портретов балерин, исполненных в основном пастелью, и ряда «тематических» композиций, часть которых, требующих более длительной работы в мастерской, написана маслом. В основе тех и других лежат, как всегда у Серебряковой, бесчисленные карандашные наброски, где зачастую отмечен цвет той или иной детали костюма. Следует отметить, что именно накануне обращения к теме балета, в 1921 году, Серебрякова начала работать в достаточно новой для себя технике пастели. Непосредственной причиной было отсутствие хороших масляных красок и темперы, с одной стороны, и возможность более быстрой работы над портретами, особенно заказными – с другой. Овладев же пастелью, она особенно оценила эту технику: чистоту, легкость, особую прозрачность тона, чудесную бархатистость поверхности изображения. Вместе с тем работа пастелью требовала большой точности и в рисунке, и в цветовом решении портрета – но ведь именно стремление к максимальной верности натуре и замыслу было отличительной чертой дара Серебряковой. Пожалуй, никто из русских живописцев не создал так много блестящих образцов пастельной живописи в XX веке, как она, не изменив этой технике и в годы эмиграции. Хотя сама она писала дочери уже в конце сороковых годов, умаляя со свойственной ей скромностью высочайшее качество созданного: «Ты просишь… дать тебе советы насчет техники живописи, но я за всю жизнь свою не обрела никакого метода и знания “ремесла” живописи, а в пастели рисую совершенно так, будто это простой карандаш, прибегая лишь к растушевыванию пальцем, а иногда и растушевке особенно фона, но и “фон” не умею делать, уделяя внимание лишь лицу» [87]. Художница называла пастельные портреты балерин 1922–1924 годов «рисунками»; на деле они являются подлинной живописью, не менее, чем ее работы маслом, насыщенной цветом, с богатством градаций и тончайшими тональными переходами, не говоря уже о сложнейших по живописному решению театральных композициях.
В эти годы Серебряковой были созданы портреты юных звезд балета Мариинского театра В. К. Ивановой, Е. Н. Гейденрейх, А. Д. Даниловой, Г. М. Баланчивадзе (в будущем – крупнейшего на Западе балетмейстера Джорджа Баланчина). Существует и несколько ее портретов талантливой Л. А. Ивановой, трагически погибшей в 1924 году (утонувшей в устье Невы во время поездки на моторной лодке), – очаровательной, душевно богатой девушки, с которой Зинаида Евгеньевна особенно подружилась. Серебрякова пишет ее уже готовой выйти на сцену, в воздушных пачках или иных театральных костюмах, строго в фас, что позволяет ощутить глубину и искренность взгляда больших сияющих глаз, кроткое, как бы вопрошающее выражение лица. Как это часто случается, и этот портрет, и особенно более ранний рисунок невольно кажутся – после гибели модели – напоминаниями о скоротечности юности, предрекающими близкий уход Ивановой из жизни; в то же время еще один портрет, где она изображена с легкой улыбкой и чуть лукавым выражением глаз, даже в колорите, построенном на сочетании разных градаций красного в костюме, свежих красок лица и голубоватых оттенков фона, передает прежде всего непосредственную прелесть балерины.
Очень удачно и образное, и живописное решение портрета балерины М. Р. Добролюбовой, задумчиво смотрящей на зрителя из голубого сумрака мерцающих синих тонов костюма и более глубоких оттенков фона. Романтичен портрет Баланчивадзе в роли Вакха из балета А. Глазунова «Времена года». И совершенно по-иному, интимно и тепло – не в театральном, а обычном уличном костюме – изображена балерина М. X. Франгопуло.
Серебрякова часто писала одну и ту же модель несколько раз, как в случае с Л. Ивановой. Причинами неоднократного обращения были как свойственная художнице постоянная неудовлетворенность сделанным (почти всегда несправедливая), так и желание углубить свое видение модели, ее внешности, а еще более – понимание ее внутреннего мира. Так, трижды она писала Е. Н. Гейденрейх, каждый раз по-новому раскрывая образ этой незаурядной танцовщицы, впоследствии, во второй половине века, ставшей руководительницей известной балетной школы в Перми. Выразителен ее портрет «В красном», где подчеркнуты изящество и оригинальная красота тогда уже известной актрисы. Не менее интересен, может быть, не столь «парадный», более интимный и мягкий по выражению ее портрет «В голубом». Зато блистательно выглядит модель на последнем портрете «Е. Гейденрейх в парике».
Одна из значительных работ этой серии – портрет балерины В. К. Ивановой «В испанском», где нарядность костюма подчеркивает строгость тонких и одухотворенных черт лица. Особенно же хорош ее скромный портрет «В гримерной». К тому же времени относится и написанный с большой любовью портрет Таты в танцевальном костюме, где улыбающаяся ясноглазая девочка представлена участницей прекрасного балетного действа.
Художница опять полностью отдается захватившей ее теме. «Она получила разрешение бывать за кулисами Мариинского театра, – вспоминает ее дочь Татьяна Борисовна. – Удивительно скромная ее маленькая фигурка по воскресеньям и средам (в дни балетных спектаклей) появлялась в балетных уборных, где она непрерывно делала наброски с одевающихся и гримирующихся артисток и подружилась со многими из них. Так родились композиции на тему одевающихся балерин и серия их портретов» [88]. Зинаида Евгеньевна в письме к брату Николаю обращается с просьбой: «Буду тебе страшно благодарна, если ты пойдешь к Кристи (уполномоченному Наркомпроса в Петрограде. – А. Р.)… <…> один, а не со мной, т. к. мне кажется, я не внушаю своим видом никому никакого престижа, и попросишь его продлить мое разрешение (я его прилагаю тут же) на 1924 год, и попроси его прибавить следующее: разрешается художнице Серебряковой продолжать художественные работы за кулисами Академического театра во время спектаклей (т. к. объясни ему, что ведь это и есть те эффекты, которые я рисую)» [89]. Этот отрывок из письма, очень характерный для Зинаиды Евгеньевны, иллюстрирует и ее всегдашнюю собственную недооценку, и боязнь столкнуться с бюрократическим миром чиновников от культуры.
Среди зарисовок Серебряковой, не говоря уже о последовавших за ними живописных работах, нет ни одной, изображающей сцену из самого балетного спектакля. Ей интереснее воплощать процессподготовки к нему. Особенно часто она пишет актерские костюмерные, где одеваются и готовятся к выходу на сцену балерины. В этом отсутствии интереса к изображению самого театрального «действия» можно заметить известную внутреннюю связь Серебряковой с живописью высоко ценимого и любимого ею Э. Дега, который изображал своих балерин отнюдь не «богинями сцены». Но в отличие от Дега, подчас сознательно лишавшего своих персонажей какой-либо привычной привлекательности вследствие собственного пессимистического взгляда на мир – даже на мир искусства, в том числе балета, Серебрякова и в рисунках, и тем более в законченных работах передает очарование предвкушения волшебного сценического действия, юную прелесть и стройную пластику его участниц. Это полностью отвечает ее творческому кредо – видеть во всем изображаемом прекрасное, что не мешало ей часто прямо противоположно, пессимистично воспринимать жизнь вне искусства.
Иногда центром произведения, показывающего подготовку к балетному спектаклю, становится портретное изображение. Так же, как портреты крестьянских девушек-«московок» были основой работ, вошедших в историю русской тематической картины, – «Жатвы» и «Беления холста», портрет балерины Е. А. Свекис в костюме для балета «Фея кукол» (1923) показателен для создания прекрасных, дарящих эстетическую радость театральных композиций. Элементы картины – костюмерша, поправляющая костюм «куклы»; стройная обнаженная девушка, причесывающаяся у туалета, – будут повторяться в других изображениях балетных уборных. Для понимания решения пространства очень важно отражение в зеркале фигуры балерины – прием, раздвигающий рамки действия, усиливающий его «воздушность». Само же изображение Е. Свекис во весь рост, в «кукольном» голубом костюме, с милыми чертами юного лица часто встречается в подготовительных рисунках к картинам «балетной сюиты».
Одной из наиболее сложных композиций этой серии можно считать картину «Большие балерины» (1922), изображающую балетную уборную кордебалета перед спектаклем «Дочь фараона» Ц. Пуни. Построение ее – развернутость вглубь, а особенно многофигурность, «заполненность» холста сидящими и стоящими, даже выполняющими па балеринами – знаменует известное возвращение к композиционным принципам, положенным в основу обоих вариантов «Бани» (1912–1913). Вместе с тем в этой картине слились находки многих, в том числе и портретных, «балетных» работ Серебряковой и штудий обнаженного тела. Колористическое же решение картины отличается смелостью и известной непосредственностью в сочетаниях тонов костюмов балерин. Этой сложной по светоцветовому построению и даже тематической насыщенности картине не уступают по своей художественной значимости поэтические «Две танцовщицы» или трогательные «Девочки-сильфиды из балета “Шопениана”», в которых гармонически соединились грация и прелестная детскость. Перечисленными произведениями далеко не исчерпывается все богатство созданного Серебряковой своеобразного живописного аналога восхищавшему ее «временному» по своему характеру, но закрепленному ею на холсте и бумаге искусству балета.
В работе над балетной сюитой, портретами друзей, детей и редкими заказами проходит 1923 год. Но, несмотря на постоянную занятость и некоторое облегчение ситуации с продуктами в связи с началом новой экономической политики (нэпа) и получением академического пайка (правда, достаточно скудного), Серебряковой к началу 1924 года так и не удалось выбиться из того сложного времени житейских трудностей. На ее иждивении по-прежнему находились четверо подрастающих детей и мать, без поддержки которой Зинаида Евгеньевна вообще не могла бы работать.








